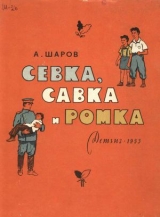
Текст книги "Севка, Савка и Ромка"
Автор книги: Александр Шаров
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
В зоопарке было темно и пустынно, по аллеям мела метель, из отдела тропиков доносились резкие и отрывистые крики попугаев. В кабинете, кроме директора, сидела еще в уголке Таня Беликова.
– Это, знаете, самоуправство! – сердито заговорил директор, как только Костя и доктор вошли в комнату. – Завтра у меня таким манером уведут слона, потом зубробизона, потом кто-нибудь решит, что бегемоту лучше у него в ванной, чем в зоопарковском бассейне. Есть установленные правила, товарищ Филиппов!
– Все это, разумеется, так, – вмешался доктор Савицкий, – но я думаю, что надо разрешить Константину Андреевичу закончить опыт. В первый раз перемена обстановки дала прямо чудодейственные результаты. В высшей степени важно выяснить, что именно помогло черепахе. Вы же знаете, как мы мучаемся с рептилиями.
– Ну хорошо, – согласился директор. – Только имейте в виду, что вы лично отвечаете за Наяду. Вы, товарищ Филиппов, и вы, Ярослав Юльевич.
– И я, – сказала из своего угла Таня. – Я тоже отвечаю за этот опыт.
Всю ночь Костя не спал, но никаких перемен ночь не принесла. Черепаха выглядела даже хуже, чем накануне, и доктор, осмотрев ее, только покачал головой. На работу Костя не пошел: Таня Беликова добилась для него разрешения пробыть четыре дня дома.
На рассвете следующего дня черепаха проснулась и, высунув на мгновение плоскую головку, сразу спрятала ее. Через час Наяда вновь высунула голову и, хотя с неохотой, съела все-таки кусочек яблока. После этого поправка пошла быстро.
Костя наблюдал за черепахой, не отрывая от нее глаз. У него появились некоторые догадки, и сердце замирало от волнения. Он шел по следам черепахи, мелом прочерчивая на полу ее путь. Остановка… Сон… Еда… Снова движение…

В середине дня Костя ввел новшество – привязал мелок на пружине к нижнему щитку; теперь черепаха сама прочерчивала свой след. На другой день он заменил белый мелок зеленым. На третий день черепаха чертила синим мелом. Паркетный пол походил на огромную грифельную доску. Казалось, черепаха, как первоклассник, обучающийся письму, неумело, но старательно выводит на доске ряды длинных, неровных черточек и сморщенных ноликов.
Костя внимательно вглядывался в пересечение белых, зеленых и синих линий, стараясь угадать, что скрывается за ними.
Вот черепаха забралась под пышущую жаром батарею и долго лежит там, как на солнцепеке, а потом вдруг поднимается, хотя ее никто не беспокоит, и быстро ползет от батареи в самый дальний угол комнаты. Что заставило ее сделать это? Может быть, под батареей появился какой-то враг, потревоживший черепаху? Костя становится на колени, обследует каждый уголок: все спокойно, никого нет. Тогда Костя идет за черепахой, наклоняется над ней, вглядываясь в желтые солнца на ее щите. Солнца неподвижны: черепаха дремлет, притаившись под панцырем.
– Однако тут прохладно, – бормочет Костя.
И вдруг такая удивительная мысль приходит в голову Косте, что он даже подскакивает от восторга:
– Ну да, прохладно! В том-то и дело, что прохладно! В этом и должна заключаться разгадка.
На свободе, в природе, черепахи, ящерицы, змеи и крокодилы то греются на солнце, то прячутся в норе или в воде. Они погибли бы без солнца, но погибли бы и без прохлады. В террариуме, куда поступает нагретый воздух, температура всегда во всех уголках одинакова, и рептилии гибнут от этого неизменного, ровного тепла. В Костиной комнате есть горячий радиатор, как бы искусственное солнце, но от него можно спрятаться у прохладной стенки, как укрывается от солнечного жара в своей норе черепаха на воле. Это и спасло Наяду – вот о чем говорила путаница линий, вычерченных черепахой за эти три дня на полу. Вот как решался вопрос, над которым тщетно бились во всех зоопарках.
В тот же день Костя рассказал Тане о своей догадке. Они добыли у кладовщика мощную тысячесвечовую лампу и оборудовали в одном из террариумов искусственное солнце. Лампа была под плотным абажуром, рептилии могли по своему желанию переползать из освещенных участков в тень, с «солнцепека» – в прохладные уголки.
В течение следующей недели такие мощные лампы, «искусственные солнца», появились во всех террариумах. Кобры, как по волшебству, успокоились, а крокодилы настолько оживились, что иногда их бесстрастные морды изображали нечто похожее на улыбку.
Так была одержана победа, может быть маленькая в глазах постороннего человека, но очень важная для Кости Филиппова и других участников этих событий.
В середине февраля Горбунов вернулся из отпуска, а Костя снова перешел в отдел хищников. Странное чувство наполняло его, когда он, задумавшись, шел первый раз к месту своей постоянной работы. Раньше хищники занимали все его сердце без остатка. За время разлуки он истосковался и, казалось, еще больше полюбил этих животных, которых знал со дня их рождения, берег и выхаживал в трудные дни войны. Но он ни на секунду не забывал о Наяде, и было ясно, что судьба рептилий навсегда останется ему дорогой и близкой. Как будто сердце его вмещало гораздо больше, чем месяц назад.
Он подошел к отделу хищников, открыл входную дверь, и сразу послышался низкий, красивый зов Мурки, встречающего Костю Филиппова. Через мгновение Макарыч присоединил к этому голосу свое приветственное рычанье.

Кузьмичевы липы

До войны я жил на Рымниковской, в доме номер 64, который называли еще «Кузьмичевы липы». Это самая окраинная улица, дальше – овраг, пустырь, поле, а за ним – лес.
Вначале кажется, что все дома на Рымниковской, как близнецы, похожи друг на друга. Они кирпичные, без штукатурки, трехэтажные. Но если вы идете по нашей улице рано утром, когда все еще спят, то обязательно замедлите шаг или остановитесь у дома 64. Прислушайтесь, а потом уж поймете, почему остановились.
Дело в том, что со стороны двора, из-за ограды, раздаются такие чистые переливы, щелканье, свист, что невозможно спокойно пройти мимо.
Это поет наш соловей. Каждый скажет, что он единственный не только на Рымниковской улице, но и во всем городе.
И, вероятно, он очень старый. Во всяком случае, я совершенно точно помню, что он пел, когда я пришел из первого класса и у окна переписывал урок. Так пел, что я, заслушавшись, вместо буквы «о» написал «у», от чего простое слово «дом» превратилось в «дум». Я еще подумал: есть ли такое слово на свете? И показалось, что это, должно быть, злая и сильная птица дум, которая гнездится на высоких горах.
А урок пришлось переписать в другую, чистую тетрадь.
Потом я помню, как пел соловей, когда я готовил «Сопротивление материалов» на третьем курсе техникума. Пришлось захлопнуть окно, чтобы он не мешал запоминать трудные формулы.
И как он пел, свистел, щелкал задумчиво и гордо, провожая нас, когда мы – комсомольцы с Рымниковки – уходили на фронт! Так, что барабанщик Лешка Гравец перестал выбивать дробь, а командир лейтенант Гудзь – отсчитывать шаг.
Соловей жил во дворе дома 64 – в «Кузьмичевых липах». Лип было всего сорок одна. Самая старая – в корявой черной шубе – росла посреди двора. Она зябла даже весной, когда все остальные сорок деревьев давно уже зеленели. Но зато, когда к концу мая солнце начинало припекать по-летнему, дерево сбрасывало оцепенение, покрывалось буйной, шумливой листвой, и соловей перебирался на старую липу. Он устраивался на самой зеленой и пушистой ветке, после чего, прочистив горлышко, начинал такой удивительный концерт, что сами собой открывались окна во всех трех этажах не только дома 64, но и 62 и 53, расположенного напротив.
Липы назывались «Кузьмичевские» потому, что всех их посадил и вырастил Кузьма Ильич Неустроев – старейший жилец нашего дома.
У него седая бородка и внимательные серые глаза. С утра он уходит на завод; когда возвращается, долго моется у колодца и сразу начинает работать: слесарит или чинит сапоги; или возится в саду: окапывает деревья, обмазывает стволы известкой; а когда переделано решительно все, что только можно, быстро ходит по двору, расчесывая бородку самодельным металлическим гребнем.
Каждый год в апреле Неустроев отправляется в лесопромхоз за саженцами и, возвратившись, сажает одно новое деревцо. При этом он надевает чистую рубаху, тщательно бреется и весь день ходит веселый, как в праздник.
Лет ему – сорок восемь, а деревьев – сорок одно. Значит, первое он посадил, когда ему было семь лет.
У Кузьмы Ильича есть тетрадь в косую линейку, с листами, пожелтевшими от времени, где он записывает то, что ему кажется самым важным. Как приковыляла из дальнего леса куропатка с подбитым крылом и осталась жить среди лип – их тогда было только пять. А через год неведомо откуда появился соловей, быть может отец или дед нынешнего. Как потом деревья стали отбрасывать достаточно густую тень и две лягушки переселились во двор из оврага. Но, видимо, они тоже считали себя знаменитыми певицами – устраивали по вечерам концерты, которые никто не хотел слушать: ведь все привыкли к соловью. Кончилось тем, что лягушки снова убрались в овраг.
Когда деревьев было уже больше десяти, расцвел папоротник, а из-под сухой листвы выскользнула буйная головушка белого гриба, и неподалеку поселился выводок желтых грибов – лисичек. И две семьи воробьев, всегда обитавших на крыше, рядом с водосточным жолобом, перебрались в липы. Но одному воробью здесь понравилось, он даже научился в такт подчирикивать соловью, а другой решил, что тут дикость, и улетел обратно к водосточной трубе.
А потом, в революцию, белые захватили город. Только на Рымниковской, у нашего дома, отбивался маленький рабочий отряд. Белые начали обстрел; один снаряд до основания расколол старую липу. Однако подошла помощь – беляков выгнали, отряд пошел на фронт, а Неустроев отстал, под пулями опутал проволокой расколовшееся дерево, чтобы ему легче было срастись.
Догнал он свой отряд уже в пяти верстах от города и доложил командиру:
– Боец Красной гвардии Неустроев явился!
…С гражданской войны Неустроев вернулся весной двадцатого. Посмотрел на старую липу – она как раз в тот день зацвела, – проволока проржавела, осыпалась красным порошком, но ствол отлично сросся. Сходил в лесничество и высадил три саженца – за пропущенные годы.
Все это записано в тетради с косыми линейками. Раньше она лежала на подоконнике между горшками с флоксом и резедой. Но в доме 64 проживал техник по кролиководству и писатель Геннадий Красюк (в районной газете он подписывается «Анатолий Ландышев»). Так этот Ландышев раз без спросу позаимствовал тетрадку, а потом ходил за Кузьмой Ильичом и все говорил, что на этом материале можно было бы написать интересную книгу – лучше всего в стихах.
Он начал эту поэму, я даже помню первые строки:
Это песня о том, как леса насаждал
Неустроев Кузьма.
Как врага побеждал
И как жизнь украшал!
Кузьма Ильич очень сердился, если Ландышев начинал читать свои стихи. А тетрадку он после этого случая спрятал на дно сундука, и больше ее никто не видел.
Липы на дворе разрастались до 1941 года, когда на моих глазах случилось незначительное происшествие. Во дворе ребята играли в штурм Перекопа. И красными войсками предводительствовал Алешка Лобунов, по прозвищу – Сова. Его так называли потому, что он ночью видел, как днем. Мать еще звала этого Алешку «Несчастье мое». Часто можно было слышать: «Несчастье мое, иди завтракать», или: «Несчастье мое, собирайся в школу».
И надо сказать, что красные совершенно смяли противника, когда Сова вдруг остановился, опустив руки.
– Ребята! – сказал он только одно слово.
Все оглянулись и сразу поняли, почему прекратился бой.
Два деревца были сломаны и мертвые лежали на земле.
В этот момент в ворота зашел Кузьма Ильич. Все разбежались. Алешка Сова один остался во дворе, готовый в одиночку принять полную меру наказания.

…Был июнь 1941 года; через несколько дней началась война.
Кузьма Ильич служил в нашей ополченческой дивизии – старшиной знаменитой седьмой роты. Я собирался заехать повидаться с ним, но все не выходило, а потом мне сказали, что он тяжело ранен, потерял руку и после операции работает в армейских тылах.
Встретились мы после войны в эшелоне, который вез демобилизованных. Кузьма Ильич мало изменился, но похудел, бородка стала совсем белой. Был он попрежнему молчалив и беспокоен. Как-то подбежал мелкими своими шажками к проводникам, хотел помочь динамо наладить: все ему казалось – не так они берутся, не то делают. Потом вспомнил, что нет правой руки, шевельнул зашитым рукавом и отошел.
Ночью вижу: он не спит. Я сел к нему на полку и попробовал сказать, что все это ничего, привыкают же люди. Но он не дал договорить:
– По моему делу никогда я не привыкну. Никогда! Всю войну думал: приеду, все в порядок приведу, а теперь… Даже и спешить нечего…
В темноте он расчесал бородку вечным своим самодельным металлическим гребнем и, повернувшись к стенке, сделал вид, что уснул.
Поезд останавливается у станции Лесная. Отсюда до нашего городка можно узкоколейкой – на рабочем, или пешком – через лес километров пятнадцать. Неустроев пошел было со мной, но передумал, сказал, что утром приедет с рабочим; у него на Лесной знакомый путейский сторож – есть где передохнуть.
А я пошел.
Сколько лет я не ходил этой глухой лесной тропой! Всю войну, да и до войны с той поры, когда построили узкоколейку. Но мне показалось, что ничего не изменилось, как будто бы я узнавал каждое дерево: и этот дуплистый дуб и согнутый клен. В детстве, когда я шел из Лесной от отца (он работал в депо), мне всегда казалось, что это не дерево, а притаившийся зверь. Хотелось скорее пробежать мимо, но я нарочно задерживал шаг. И сейчас, после войны, сердце резко забилось, когда я увидел странно изогнувшееся дерево и длинную тень, преградившую дорогу.
И, как в давние годы, через овраг я прошел с закрытыми глазами. Спустился вниз, почувствовал влажный запах ручья; не открывая глаз, снял ботинки и перебрался старым бродом. Ноги скользили по гладким камешкам. Вода с журчаньем текла мимо; было слышно, как рядом плеснула рыба.
Только выбравшись на тот берег, я открыл глаза. И уж дальше бежал мимо знакомого ряда красных трехэтажных домов к своему – шестьдесят четвертому, который для меня не похож ни на один другой во всем свете.
У забора остановился и прислушался.
Из ворот выскочил Алешка Сова; я сразу узнал его, хотя он сильно вытянулся. Увидев меня, Алешка подбежал и как-то испуганно сказал:
– Дмитрий Егорович! А мы думали, что вы завтра. И Кузьма Ильич с вами?
Я объяснил, что Неустроев приедет утром, и мне показалось, что лицо Алешки выразило облегчение.
Впрочем, я не успел хорошенько рассмотреть его, он сразу исчез и не появлялся весь вечер. Да мне было и не до него. Надо было побывать во всех квартирах, рассказать, расспросить, вспомнить тех, кто больше не вернется.
Соседка заметила, что я часто подхожу к окну, прислушиваюсь, и сказала, что соловушка поет теперь редко: может, испугался в тот единственный раз, когда немцы бомбили город, а может быть, просто – старость.
Со двора послышалось:
– Несчастье мое! Куда ты пропал?
Сова не откликался.
Заснул я около часу и проснулся от резкого свиста. Посмотрел на часы – три. Свист не повторялся. Я подумал: может быть, он просто примерещился мне, но какое-то беспокойство заставило подойти к окну.
Торжественно светила луна, липы отбрасывали узорчатую тень. Я разглядел между стволами знакомую фигуру Алешки. Он был один. Но вот протяжно заскрипела дверь, и на дворе вереницей появились ребята. Тут были все решительно, даже Лида Рюмнева; когда мы уходили, она только еще начинала ходить, а теперь – глядите: самостоятельная девица.
Ребята молча выстроились, и Сова быстрым шагом прошел по фронту шеренги. На левом фланге он остановился, неодобрительно посмотрел на Лиду и строго распорядился:
– Иди спать, ты маленькая, тебе тут совсем нечего делать!
Но Лида отчаянно заревела, и Алешка махнул рукой: мол, оставайся. Плач мгновенно прервался.
Строй стоял неподвижно; теперь можно было разглядеть: ребята вооружились лопатами, метлами, ножами, заступами, ведром с известкой, а у Лиды в руке совок, которым роют песок.

Сова вполголоса отдал приказание, и строй бесшумно разошелся. Я смотрел сквозь сон – то засыпал тут же у окна, роняя голову на руки, то, не совсем очнувшись, открывал глаза. Каждый раз прежде всего в глаза бросалась Лида: у нее в руках была ложка – никелированная, очень блестящая – и совок для песочных форм. Она наполняла совок опавшей листвой и шла от колодца к углу двора, где находится мусорная куча.
Потом я заметил, что все деревья побелели, как привидения, приблизились, выступили из темноты – это от соединенного действия известки и луны.
В самый глухой час ночи вдруг чирикнул воробей; так дирижер ударяет палочкой по пульту. Помолчал. И неожиданно тишина наполнилась высокой и гордой трелью; с той минуты я уже не знал: сплю или нет. Все преобразилось: свет луны стал в сто раз ярче. Ребята двигались быстрее. Громоздились выметенные из глубины двора кучи прошлогодней листвы. Только что посаженные липы выстроились у опушки.
Вот что я увидел в ночь возвращения с войны во дворе нашего дома 64 по Рымниковской улице.
Утром обнаружилось, что ребята закрыли посадки полотнищем с надписью: «Привет К. И. Неустроеву!» Пониже были выведены чуть переиначенные строки из поэмы Ландышева:
Вы врага побеждали
И жизнь украшали!
Я сошел во двор. Вблизи было видно, что полотнище сшито из самых разнородных вещей. Я разглядел и розовую скатерть с бахромой, которую в квартире семь, у Сомовых, стелили лишь в особо торжественных случаях, и две знакомые серые фронтовые простыни с армейской печатью – это, очевидно, пожертвовал мой племянник Ремка, – и атласную шаль Лидиной прабабушки – Клавдии Назаровны.
Час был ранний. Все в доме спали: ребята – утомившись за ночь, взрослые – по случаю воскресного дня.
Кузьма Ильич показался совсем неожиданно: ясно, что старик не дождался рабочего поезда и приехал с ночным товарным. Кузьма Ильич постоял, долго шевелил губами, читая надпись, зашел с другой стороны – пересчитал деревья, попробовал землю…

Легостаев принимает командование

Это история о том, как в связи с переходом армии на мирное положение была расформирована славная Н-ская орденоносная танковая бригада и как, повинуясь некоторым обстоятельствам, она родилась вновь через несколько месяцев под командованием кавалера трех медалей «За боевые заслуги», лейтенанта административной службы запаса Алексея Ивановича Легостаева.
Танковая бригада была расформирована в начале июня 1946 года. Через три месяца, к сентябрю, от боевого соединения оставалось только два человека: бывший комбриг, полковник запаса Василий Федорович Степунов, и начфин бригады Алексей Иванович Легостаев; остальных демобилизовали или перевели в другие части. Степунов и Легостаев находились в Москве уже больше месяца, заканчивая последние дела, связанные с жизнью воинского соединения, в котором служили с первого до последнего дня войны. Надо было завершить хлопоты о пенсионном обеспечении старых военнослужащих, награждении тех, о ком по разным причинам забыли во время войны, и сотни других дел – с одной стороны, малозначительных, а с другой – очень важных и больших, если сравнить их с единственно точным масштабом – человеческой судьбой.
Вечерами, набегавшись за день по московским учреждениям, они садились за стол, и Легостаев, перелистывая общую тетрадь в жестком черном переплете страницу за страницей, читал заметки из истории бригады, которые вел всю войну, а полковник дополнял прочитанное, заставляя прибавлять к каждой фамилии имя и отчество, как этого требовало уважение к памяти погибших и славе живых, уточняя замысел операции: последнее обстоятельство по роду работы Легостаева часто ускользало из его записок.
От поправок история бригады – эти записи предполагалось сдать в музей Красной Армии – становилась значительнее и весомее.
К утру седьмого сентября все дела были закончены. Степунов и Легостаев сидели вместе в маленькой комнате, которую занимали временно. Полковник громким командирским голосом называл фамилию, а Легостаев, сверившись с документами, ставил в своей тетради звездочку, означавшую завершение дела.
– Механик-водитель Башкиров Петр Семенович, – называл Степунов.
– Постановление № 24913/Ф о пенсии вдове погибшего, – сообщал Легостаев. – Справка Марии Башкировой выслана второго августа сего года.
– Командир танка Румянцев Александр Максимович.
– Выписка о награждении орденом Отечественной войны первой степени получена. Отослана Румянцеву по его адресу: село Вешняки, Полтавской области…
Казалось, мертвые вместе с живыми являлись по команде на эту последнюю перекличку, собирались в маленькой, тесно заставленной вещами московской комнате. Мертвые и живые, сражавшиеся, побеждавшие под Москвой, Курском, Берлином, Дрезденом, Прагой…
К двенадцати часам дня перекличка была закончена, и Легостаев поставил последнюю звездочку. Оставалось еще прочесть короткую завершающую главу истории бригады; поскольку она заключала только общее описание праздничных дней, пережитых после освобождения Праги, Степунов слушал не перебивая.
Закончив чтение, Легостаев, вопросительно посмотрев на полковника, внизу страницы написал: «Конец».
Степунов взял ручку и зачеркнул это слово.
– Как можно ставить «конец» на истории бригады, когда существует имя ее, ничем не запятнанное, знамя и люди? – сказал он. – Это еще раз показывает, товарищ лейтенант, что вы не стали и никогда не станете военным человеком.
– Да, теперь, видно, не стану, – согласился Легостаев.
Степунов уже имел назначение – он уезжал на партийную работу в один из дальних районов Сахалина. Поезд уходил вечером. Последний день они решили использовать для прогулки по улицам Москвы и некоторым, особенно дорогим для них местам. Степунов, тщательно уложив китель в чемодан, впервые за все эти годы надел просторный штатский костюм. Что касается Легостаева, он не имел штатского, а потому остался в форме.
День был ясный, по-осеннему солнечный. Первые листья, пожелтевшие у черенка, отрывались от деревьев, но не падали сразу на землю, а долго плыли навстречу пешеходам по широкому течению Ленинградского шоссе. Легостаев и Степунов шагали по своему тысячу раз мысленно пройденному маршруту. Они побывали на стадионе «Динамо», где тогда, в 1941 году, проходили призывную комиссию, съездили на станцию Зеленогорскую. «Санаторий швейников», где бригада становилась бригадой, видно, давно уже принял домашний, уютный облик: занавески на окнах, гирлянды цветных лампочек, переброшенные через аллеи. Но на деревьях, ограничивающих старое бригадное стрельбище, Степунов нашел незатянувшийся след ружейной пули и так строго посмотрел на Легостаева, точно спрашивал: «Не ваша ли это пуля, товарищ лейтенант, вследствие небрежности и недостатка умения посланная мимо мишени, в лес?»
Потом они вернулись в Москву. До станции добрались лесной короткой дорогой, по которой тогда, в 1941 году, торопливо шли, сжимая в ладони увольнительную, боясь потерять даже минуту из последнего предфронтового отпуска.
…Вечером Степунов и Легостаев, захватив вещи, отправились на вокзал. Поезд стоял на путях. В вокзальном ресторане Степунов заказал водки и, разлив строго по сто граммов, сказал:
– Все же, Алексей Иванович, правильней было бы вам поехать вместе со мной. Времени еще достаточно. Мы успеем взять второй билет.
Легостаев отрицательно покачал головой. Он не объяснял и себе этого решения словами. Но, видимо, наступил момент, когда человеку, который столько лет прослужил под требовательным взглядом воинских начальников, захотелось испытать свои силы в одиночку, один на один с жизнью. В тридцать восемь лет это не такое уж непростительное желание.
Степунов не стал больше настаивать.
– Тогда выпьем, – предложил он. – За нашу солдатскую службу!
Вступая в некоторое противоречие с предыдущими своими замечаниями, однако совершенно искренне, он закончил:
– Потому что вы всегда были хорошим солдатом – первый год, когда мы служили рядовыми, так же как все последующее время.
Через двадцать минут поезд отошел от Северного вокзала.
Легостаев отправился домой, на свою временную московскую квартиру, пешком. Ему незачем было торопиться; кроме того, в толпе пешеходов меньше чувствовалось одиночество.
Дома он сразу лег спать, но, поворочавшись полчаса, поднялся, оделся и сел к столу. Завтра должны были вернуться хозяева, отдыхавшие в санатории, а он уезжал на юг Украины, в городок С., в котором родился и где решил устроить свою жизнь, хотя там не осталось никого из близких.
Как она сложится, эта штатская жизнь?
Чтобы скоротать время до утра, Легостаев открыл тетрадь в черном переплете и начал перелистывать испещренные поправками Степунова записи боевых дел бригады. Некоторые заметки он только просматривал, а другие, хотя знал их почти наизусть, перечитывал от начала до конца.
На странице двадцать четвертой было написано:
«Тринадцатого апреля 1944 года бригада, сильно измотанная в предыдущих десятидневных боях, прикрывала выход Н-ской дивизии из окружения в районе трех высот северо-восточнее Винницы.
В 16 часов 00 минут командир Н-ской дивизии вызвал к телефону комбрига, полковника Ивана Семеновича Горенко. В заключение разговора комдив сказал:
– Прошу вас держаться до последней физической возможности. Мне бы очень хотелось обнять вас и поцеловать за все, что вы для нас сделали и делаете, потому что без вас…
Разговор прекратился. Связь была прервана, и восстановить линию не удалось вследствие гибели последнего бойца подразделения связи. Все остальное записано впоследствии со слов гвардии сержанта механика-водителя Николая Торбозова».
Легостаев поднял глаза от тетради. Записи не помогали, они даже мешали вспоминать. Казалось, в строгий прямоугольник окна входит само «минувшее», разлучиться с которым было невозможно. Перед глазами одно за другим проходили дорогие лица. Как будто собранная днем на перекличку, бригада все еще находилась в строю, побатальонно и поротно, ожидая боевого приказа.
…Вот так же стоял тогда в темноте третий резервный батальон северо-восточнее Винницы, в двух километрах от района боя. Степунов – он в то время командовал батальоном – первым заметил гигантскую фигуру Торбозова, механика-водителя командирского танка, и пошел ему навстречу.
– Товарищ майор, – доложил Торбозов, – по израсходовании боекомплекта и уничтожении вражеским огнем всех остальных машин наш танк вырвался на дорогу Очередицы – Сокол. У перекрестка два снаряда ударили в машину. Она загорелась. Я выбрался через свой люк, побежал, забыв обо всем.

Докладывая, Торбозов стоял совершенно прямо, не опуская на землю завернутое в плащ-палатку тело, которое держал на руках. Он докладывал не только комбату, но каждому своему товарищу, каждому живому солдатскому сердцу.
– Я отбежал, забыв обо всем, но стрельба прекратилась, стало совсем тихо, и я услышал, что меня кличет командир. Я вернулся, наклонился над ним и разобрал, что он говорит: «Было бы мне горько умирать, думая, что танкист нашей бригады бросил раненого в бою». Больше он ничего не сказал. Я перевязал комбрига индивидуальным пакетом, но только донести живым, товарищ майор, не удалось.
Тело мертвого командира лежало перед танкистами на теплой украинской земле, невидимое в темноте. Строй застыл в почетном карауле. Доносились близкие разрывы снарядов, слышалось, как бьется переполненное горем и гневом сердце батальона.
Степунов ушел доложить о происшедшем. Кто-то в шеренге сказал:
– Сын остался у командира – Горенко Петр Иванович, девяти лет, в городе Ровеньки.
Другие голоса быстро отозвались, как бы радуясь, что найдена разрядка душевному напряжению:
– Имеем право усыновить!
– Полное законное право!
– Сейчас бы и лист пустить, а то в дело пойдем, кто знает…
Через двадцать минут вернулся Степунов. Был отдан приказ:
– По машинам!
Один из танкистов, бегом выполняя команду, успел сунуть в руку Легостаева подписной лист:
– Проследите, товарищ начфин! На вас надежда…
Когда же все это произошло? В апреле 1944 года. А теперь…
Документы хранились в конце тетради. Легостаев развернул лист, пожелтевший от времени, потемневший на сгибах. Выведенные в темноте строки наползали одна на другую – только фамилии да цифры. Приказ живых и завещание тех, кто погиб в бою, – нерушимая воля бригады!
Тогда были собраны деньги. Сумму, которой должно было хватить на несколько лет, переслали в тыл, где ее передали отделению банка с поручением ежемесячно переводить в адрес Петра Ивановича Горенко четыреста рублей.
Сколько же времени прошло с той поры?
Легостаев неторопливо, как всегда, когда занимался важной работой, вновь подсчитал по листу собранную сумму и разделил итог на четыреста. Выходило, что деньги были исчерпаны в июле, ровно два месяца назад. В хлопотах, связанных с расформированием части, начфин не заметил этого и не доложил во-время Степунову.
Легостаев поднялся из-за стола и несколько раз прошелся по комнате, собираясь с мыслями. В памяти возникли слова Степунова: «Бригада жива, она имеет незапятнанное имя, знамя, которое до времени хранится в музее Красной Армии, и главное – свои незавершенные обязательства. А мертвым можно назвать лишь того, кто порвал или растерял связи с жизнью».
Бригада была жива – это определяло решение.
Утром с Центрального почтамта Легостаев отправил в Ровеньки срочный перевод за истекшие два месяца. В извещении он коротко написал, что часть меняет свою полевую почту, а новый адрес дать пока нельзя, и, обещав при первой возможности сообщить все подробно, подписался: «За командира Легостаев».
Потом он пересчитал оставшиеся деньги. Состояние финансов напоминало, что больше в Москве задерживаться нельзя. Нельзя, да и незачем.
Поезд шел, точно по компасу, с севера на юг. Листья, окрашенные ранней московской осенью, еще кружились, прилипали к стеклам, лежали на вокзальных перронах до станции Навля, а там окончательно отстали. В районе Конотопа жаркое украинское лето ворвалось в вагон. Легостаев сидел у окна, разглядывал медленно проплывающие поля. Пассажир напротив обстоятельно перечислял, какие витамины имеются в арбузе. Сосед его горячо возражал, что вообще в арбузе нет никаких витаминов, только баловство – вода да сладость. Третий пассажир пытался внести умиротворение:
– Чего там «витамины»? Одно название. Соленые арбузы – это действительно, от них польза.
Легостаев думал: «Приеду, устроюсь на работу, напишу письмо в Ровеньки, ну, а там спишусь со Степуновым – полковник решит, как быть дальше».
В С. поезд пришел ранним утром. Легостаев шагал по бульвару, от вокзала к центру, не узнавая города, покинутого им двадцать два года назад. Между старыми кленами стеной тянулись акации с пожелтевшей от жары листвой. Посадки были огорожены металлическими прутьями, соединявшими каменные столбики.







