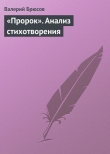Стихотворения 1823-1836
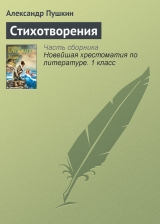
Текст книги "Стихотворения 1823-1836"
Автор книги: Александр Пушкин
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 12 страниц)
* * *4848
«Ночной зефир...». Напечатано впервые под заглавием «Испанский романс» в альманахе «Литературный музеум на 1827 год», к которому приложены и ноты романса – музыка А. Н. Верстовского.
[Закрыть]
Ночной зефир
Струит эфир.
Шумит,
Бежит
Гвадалквивир.
Вот взошла луна златая,
Тише... чу... гитары звон...
Вот испанка молодая
Оперлася на балкон.
Ночной зефир
Струит эфир.
Шумит,
Бежит
Гвадалквивир.
Скинь мантилью, ангел милый,
И явись как яркий день!
Сквозь чугунные перилы
Ножку дивную продень!
Ночной зефир
Струит эфир.
Шумит,
Бежит
Гвадалквивир.
* * *4949
Ненастный день потух; ненастной ночи мгла...". Стихотворение вызвано воспоминаниями, связанными с чувством к Е. К. Воронцовой. Автографа не сохранилось, поэтому нельзя сказать, был ли какой-нибудь текст в строках, обозначенных в печати многоточием. Но можно допустить, что эти строки должны выразить лирическое волнение, заставляющее поэта замолкнуть (именно это выражено в последнем, оборванном на полуслове, стихе). Такой поэтический прием был совершенно новым в поэзии того времени.
[Закрыть]
Ненастный день потух; ненастной ночи мгла
По небу стелется одеждою свинцовой;
Как привидение, за рощею сосновой
Луна туманная взошла...
Все мрачную тоску на душу мне наводит.
Далеко, там, луна в сиянии восходит;
Там воздух напоен вечерней теплотой;
Там море движется роскошной пеленой
Под голубыми небесами...
Вот время: по горе теперь идет она
К брегам, потопленным шумящими волнами;
Там, под заветными скалами,
Теперь она сидит печальна и одна...
Одна... никто пред ней не плачет, не тоскует;
Никто ее колен в забвенье не целует;
Одна... ничьим устам она не предает
Ни плеч, ни влажных уст, ни персей белоснежных.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Никто ее любви небесной не достоин.
Не правда ль: ты одна... ты плачешь... я спокоен;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Но если . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ДРУЖБА
Что дружба? Легкий пыл похмелья,
Обиды вольный разговор,
Обмен тщеславия, безделья
Иль покровительства позор.
ПОДРАЖАНИЯ КОРАНУ5050
«Нечестивые, пишет Магомет (глава Награды), думают, что Коран есть собрание новой лжи и старых басен». Мнение сих нечестивых, конечно, справедливо; но, несмотря на сие, многие нравственные истины изложены в Коране сильным и поэтическим образом. Здесь предлагается несколько вольных подражаний. В подлиннике Алла везде говорит от своего имени, а о Магомете упоминается только во втором или третьем лице.
[Закрыть]
ПОСВЯЩЕНО П. А. ОСИПОВОЙ.
I5151Подражания Корану. Цикл «Подражаний Корану» написан в духе магометанской священной книги «Коран», из разных сур (глав) которой в «Подражаниях» имеются многочисленные свободные заимствования. Многие образы цикла имеют автобиографическое значение. Вместо Магомета – пророка Ислама, к которому обращен Коран, в «Подражаниях Корану» выступает пророк – поэт. Здесь впервые в поэзии Пушкина возник этот образ. Посвящение цикла Прасковье Александровне Осиповой, соседке по имению, владелице Тригорского, объясняется тем, что у нее нашел Пушкин «сень успокоенья», когда он принужден был уехать из Михайловского после ссоры с отцом (С. Л. Пушкин взял на себя перлюстрацию переписки сына. См. письма к Жуковскому от 31 октября 1824 г. и к брату Льву от начала ноября 1824 г. – «Я в Михайловском редко»).
[Закрыть],
II
Клянусь четой и нечетой5252
«Клянусь четой и не четой...». – Центральные образы стихотворения – «зоркое гоненье», «могучая власть» языка «над умами», отсутствуют в Коране.
[Закрыть]
Клянусь мечом и правой битвой,
Клянуся утренней звездой,
Клянусь вечернею молитвой:5353
В других местах Корана Алла клянется копытами кобылиц, плодами смоковницы, свободою Мекки, добродетелью и пороком, ангелами и человеком и проч. Странный сей риторический оборот встречается в Коране поминутно.
[Закрыть]
Нет, не покинул я тебя.
Кого же в сень успокоенья
Я ввел, главу его любя,
И скрыл от зоркого гоненья?
Не я ль в день жажды напоил
Тебя пустынными водами?
Не я ль язык твой одарил
Могучей властью над умами?
Мужайся ж, презирай обман,
Стезею правды бодро следуй,
Люби сирот, и мой Коран
Дрожащей твари проповедуй.
III
О, жены чистые пророка,
От всех вы жен отличены:
Страшна для вас и тень порока.
Под сладкой сенью тишины
Живите скромно: вам пристало
Безбрачной девы покрывало.
Храните верные сердца
Для нег законных и стыдливых,
Да взор лукавый нечестивых
Не узрит вашего лица!
А вы, о гости Магомета,
Стекаясь к вечери его,
Брегитесь суетами света
Смутить пророка моего.
В паренье дум благочестивых,
Не любит он велеречивых
И слов нескромных и пустых:
Почтите пир его смиреньем,
И целомудренным склоненьем
Его невольниц молодых5454
«Мой пророк, прибавляет Алла, вам этого не скажет, ибо он весьма учтив и скромен; но я не имею нужды с вами чиниться» и проч. Ревность араба так и дышит в сих заповедях.
[Закрыть].
IV
Смутясь, нахмурился пророк,
Слепца послышав приближенье:5555
Из книги Слепец.
[Закрыть]
Бежит, да не дерзнет порок
Ему являть недоуменье.
С небесной книги список дан
Тебе, пророк, не для строптивых;
Спокойно возвещай Коран,
Не понуждая нечестивых!
Почто ж кичится человек?
За то ль, что наг на свет явился,
Что дышит он недолгий век,
Что слаб умрет, как слаб родился?
За то ль, что бог и умертвит
И воскресит его – по воле?
Что с неба дни его хранит
И в радостях и в горькой доле?
За то ль, что дал ему плоды,
И хлеб, и финик, и оливу,
Благословив его труды,
И вертоград, и холм, и ниву?
Но дважды ангел вострубит;
На землю гром небесный грянет:
И брат от брата побежит,
И сын от матери отпрянет.
И все пред бога притекут,
Обезображенные страхом;
И нечестивые падут,
Покрыты пламенем и прахом.
V
С тобою древле, о всесильный,
Могучий состязаться мнил,
Безумной гордостью обильный;
Но ты, господь, его смирил.
Ты рек: я миру жизнь дарую,
Я смертью землю наказую,
На все подъята длань моя.
Я также, рек он, жизнь дарую,
И также смертью наказую:
С тобою, боже, равен я.
Но смолкла похвальба порока
От слова гнева твоего:
Подъемлю солнце я с востока;
С заката подыми его!
VI
Земля недвижна – неба своды,
Творец, поддержаны тобой,
Да не падут на сушь и воды
И не подавят нас собой5656
Плохая физика; но зато какая смелая поэзия!
[Закрыть].
Зажег ты солнце во вселенной,
Да светит небу и земле,
Как лен, елеем напоенный,
В лампадном светит хрустале.
Творцу молитесь; он могучий:
Он правит ветром; в знойный день
На небо насылает тучи;
Дает земле древесну сень.
Он милосерд: он Магомету
Открыл сияющий Коран,
Да притечем и мы ко свету,
И да падет с очей туман.
VII
Не даром вы приснились мне5757
«Недаром вы приснились мне...». – Здесь поэт изображает, по-видимому, ожидаемую им победу его единомышленников, будущих декабристов.
[Закрыть]
В бою с обритыми главами,
С окровавленными мечами,
Во рвах, на башне, на стене.
Внемлите радостному кличу,
О дети пламенных пустынь!
Ведите в плен младых рабынь,
Делите бранную добычу!
Вы победили: слава вам,
А малодушным посмеянье!
Они на бранное призванье
Не шли, не веря дивным снам.
Прельстясь добычей боевою,
Теперь в раскаянье своем
Рекут: возьмите нас с собою;
Но вы скажите: не возьмем.
Блаженны падшие в сраженье:
Теперь они вошли в эдем
И потонули в наслажденьи,
Не отравляемом ничем.
VIII
Восстань, боязливый:
В пещере твоей
Святая лампада
До утра горит.
Сердечной молитвой,
Пророк, удали
Печальные мысли,
Лукавые сны!
До утра молитву
Смиренно твори;
Небесную книгу
До утра читай!
IX
Торгуя совестью пред бледной нищетою,
Не сыпь своих даров расчетливой рукою:
Щедрота полная угодна небесам.
В день грозного суда, подобно ниве тучной,
О сеятель благополучный!
Сторицею воздаст она твоим трудам.
Но если, пожалев трудов земных стяжанья,
Вручая нищему скупое подаянье,
Сжимаешь ты свою завистливую длань, -
Знай: все твои дары, подобно горсти пыльной,
Что с камня моет дождь обильный,
Исчезнут – господом отверженная дань.
И путник усталый на бога роптал:5858
И путник усталый на бога pоптал...". – Смысл этого «подражания» в преодолении пессимистического начала, характерного для лирики Пушкина 1823 г. и начала 1824 г.
[Закрыть]
Он жаждой томился и тени алкал.
В пустыне блуждая три дня и три ночи,
И зноем и пылью тягчимые очи
С тоской безнадежной водил он вокруг,
И кладез под пальмою видит он вдруг.
И к пальме пустынной он бег устремил,
И жадно холодной струей освежил
Горевшие тяжко язык и зеницы,
И лег, и заснул он близ верной ослицы -
И многие годы над ним протекли
По воле владыки небес и земли.
Настал пробужденья для путника час;
Встает он и слышит неведомый глас:
«Давно ли в пустыне заснул ты глубоко?»
И он отвечает: уж солнце высоко
На утреннем небе сияло вчера;
С утра я глубоко проспал до утра.
Но голос: "О путник, ты долее спал;
Взгляни: лег ты молод, а старцем восстал;
Уж пальма истлела, а кладез холодный
Иссяк и засохнул в пустыне безводной,
Давно занесенный песками степей;
И кости белеют ослицы твоей".
И горем объятый мгновенный старик,
Рыдая, дрожащей главою поник...
И чудо в пустыне тогда совершилось:
Минувшее в новой красе оживилось;
Вновь зыблется пальма тенистой главой;
Вновь кладез наполнен прохладой и мглой.
И ветхие кости ослицы встают,
И телом оделись, и рев издают;
И чувствует путник и силу, и радость;
В крови заиграла воскресшая младость;
Святые восторги наполнили грудь:
И с богом он дале пускается в путь.
* * *
Лизе страшно полюбить.
Полно, нет ли тут обмана?
Берегитесь – может быть,
Эта новая Диана
Притаила нежну страсть -
И стыдливыми глазами
Ищет робко между вами,
Кто бы ей помог упасть.
* * *5959
«Ты вянешь и молчишь; печаль тебя снедает...». Стихотворение названо было в рукописи «Подражание Андрею Шенье» и представляет собой вольный перевод элегии Шенье «Jeune fille, ton coeur avec nous veut se taire...».
[Закрыть]
Ты вянешь и молчишь; печаль тебя снедает;
На девственных устах улыбка замирает.
Давно твоей иглой узоры и цветы
Не оживлялися. Безмолвно любишь ты
Грустить. О, я знаток в девической печали;
Давно глаза мои в душе твоей читали.
Любви не утаишь: мы любим, и как нас,
Девицы нежные, любовь волнует вас.
Счастливы юноши! Но кто, скажи, меж ими
Красавец молодой с очами голубыми,
С кудрями черными?.. Краснеешь? Я молчу,
Но знаю, знаю все; и если захочу,
То назову его. Не он ли вечно бродит
Вкруг дома твоего и взор к окну возводит?
Ты втайне ждешь его. Идет, и ты бежишь,
И долго вслед за ним незримая глядишь.
Никто на празднике блистательного мая,
Меж колесницами роскошными летая,
Никто из юношей свободней и смелей
Не властвует конем по прихоти своей.
ЧААДАЕВУ6060
Чаадаеву («К чему холодные сомненья?..»). Положение черновика среди рукописей 1824 г., а также непосредственная связь стихотворения с книгой И. М. Муравьева-Апостола «Путешествие по Тавриде» (1823), которую Пушкин прочел «с жадностью» (см. черновой текст «Отрывка из письма к Д.», то есть к Дельвигу – от середины декабря 1824 г.), опровергают пушкинские слова в «Отрывке из письма к Д.», что стихотворение написано в Крыму в 1820 г. Первая часть стихотворения – размышление над развалинами храма Артемиды, который, по преданию, находился у мыса Георгиевского монастыря на южном берегу Крыма (в достоверности этого предания сомневался автор «Путешествия по Тавриде»). С храмом Артемиды связан древнегреческий миф об Оресте, брате Ифигении, жрицы Артемиды в Крыму. Для избавления от преследований богинь мщения Эвменид Орест должен был похитить статую Артемиды из Тавриды (древнегреческое название Крыма). Он отправляется туда со своим другом Пиладом. Царь Тавриды, захватив Ореста, обрекает его в жертву Артемиде. Но Пилад, желая спасти друга, выдает себя за Ореста. Орест отказывается от спасения такою ценою. После этого великодушного спора Ифигения узнает брата, спасает его и бежит с ним в Грецию. От дружбы Ореста и Пилада поэт обращается к своей дружбе с Чаадаевым.
[Закрыть]
К чему холодные сомненья?
Я верю: здесь был грозный храм,
Где крови жаждущим богам
Дымились жертвоприношенья;
Здесь успокоена была
Вражда свирепой Эвмениды:
Здесь провозвестница Тавриды
На брата руку занесла;
На сих развалинах свершилось
Святое дружбы торжество,
И душ великих божество
Своим созданьем возгордилось.
. . . . . . . . . . . . . . . .
Чадаев, помнишь ли былое?
Давно ль с восторгом молодым
Я мыслил имя роковое6161
Я мыслил имя роковое // Предать развалинам иным – напоминание о стихах: «И на обломках самовластья // Напишут наши имена» («К Чаадаеву» – «Любви, надежды, тихой славы...»; см. т. 1).
[Закрыть]
Предать развалинам иным?
Но в сердце, бурями смиренном,
Теперь и лень и тишина,
И, в умиленье вдохновенном,
На камне, дружбой освященном,
Пишу я наши имена.
АКВИЛОН6262
Аквилон. Пушкин датировал стихотворение в единственном сохранившемся автографе (в 1830 г.) и в печати (в 1837 г.) 1824 годом. Однако нет сомнения в том, что за образами природы в «Аквилоне», подобно тому как это было в стихотворении «Арион», стоят современные события и едва ли стихотворение могло быть написано до восстания 14 декабря 1825 г.
[Закрыть]
Зачем ты, грозный аквилон,
Тростник прибрежный долу клонишь?
Зачем на дальний небосклон
Ты облачко столь гневно гонишь?
Недавно черных туч грядой
Свод неба глухо облекался,
Недавно дуб над высотой
В красе надменной величался...
Но ты поднялся, ты взыграл,
Ты прошумел грозой и славой -
И бурны тучи разогнал,
И дуб низвергнул величавый.
Пускай же солнца ясный лик
Отныне радостью блистает,
И облачком зефир играет,
И тихо зыблется тростник.
* * *
Пускай увенчанный любовью красоты6363
«Пускай увенчанный любовью красоты...». Вызвано воспоминанием о Е. К. Воронцовой.
[Закрыть]
В заветном золоте6464
Заветное золото – вероятно, медальон с ее портретом.
[Закрыть] хранит ее черты
И письма тайные, награда долгой муки,
Но в тихие часы томительной разлуки
Ничто, ничто моих не радует очей,
И ни единый дар возлюбленной моей,
Святой залог любви, утеха грусти нежной -
Не лечит ран любви безумной, безнадежной
ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К ЦЕНЗОРУ6565
Второе послание к цензору. Обращено к А. С. Бирукову, как и первое «Послание цензору» (см. т. 1), о котором говорится во вступительных стихах (Я, вспыхнув, говорил тебе немного крупно). Бируков был цензором в 1821-1826 гг.; его деятельность Пушкин назвал «самовластной расправой трусливого дурака».
[Закрыть]
На скользком поприще Тимковского6666
Тимковский, Иван Осипович (1768-1837) – петербургский цензор в 1804-1821 гг., не разрешивший стихотворения Пушкина «Русалка», но разрешивший семнадцать его стихотворений в 1817-1820 гг., а также «Руслана и Людмилу».
[Закрыть] наследник!
Позволь обнять себя, мой прежний собеседник.
Недавно, тяжкою цензурой притеснен,
Последних, жалких прав без милости лишен,
Со всею братией гонимый совокупно,
Я, вспыхнув, говорил тебе немного крупно,
Потешил дерзости бранчивую свербежь -
Но извини меня: мне было невтерпеж.
Теперь в моей глуши журналы раздирая,
И бедной братии стишонки разбирая
(Теперь же мне читать охота и досуг),
Обрадовался я, по ним заметя вдруг
В тебе и правила, и мыслей образ новый!
Ура! ты заслужил венок себе лавровый
И твердостью души, и смелостью ума.
Как изумилася поэзия сама,
Когда ты разрешил по милости чудесной
Заветные слова божественный, небесный6767
Заветные слова божественный, небесный – имеется в виду запрещение цензором Л. И. Красовским стиха «Улыбку уст твоих небесную ловить» (в стихотворении Олина «Стансы к Элизе») и эпитета «божественные» в применении к гуриям.
[Закрыть],
И ими назвалась (для рифмы) красота,
Не оскорбляя тем уж господа Христа!
Но что же вдруг тебя, скажи, переменило
И нрава твоего кичливость усмирило?
Свои послания хоть очень я люблю,
Хоть знаю, что прочел ты жалобу мою6868
Жалобу мою – «Послание цензору».
[Закрыть],
Но, подразнив тебя, я переменой сею
Приятно изумлен, гордиться не посмею.
Отнесся я к тебе по долгу моему;
Но мне ль исправить вас? Нет, ведаю, кому
Сей важной новостью обязана Россия.
Обдумав наконец намеренья благие,
Министра честного наш добрый царь избрал6969
Министра честного нам добрый царь избрал, // Шишков наук уже правленье восприял – 15 мая 1824 г. министром народного просвещения был назначен А. С. Шишков.
[Закрыть],
Шишков наук уже правленье восприял.
Сей старец дорог нам: друг чести, друг народа,
Он славен славою двенадцатого года7070
Он славен славою двенадцатого года – Шишков писал во время Отечественной войны 1812 г. все манифесты, подписанные царем.
[Закрыть];
Один в толпе вельмож он русских муз любил,
Их, незамеченных, созвал, соединил7171
Он русских муз любил, // Их, незамеченных, созвал, соединил – речь идет об организации Шишковым «Беседы любителей русского слова». (Изменение отношения к Шишкову объяснено самим Пушкиным в письме к П. А. Вяземскому от 25 января 1825 г. – см. т. 9.).
[Закрыть];
Осиротелого венца Екатерины7272
Венца Екатерины... лавр единый – Державин.
[Закрыть]
От хлада наших дней укрыл он лавр единый.
Он с нами сетовал, когда святой отец7373
Святой отец – предыдущий министр народного просвещения и министр духовных дел, кн. Александр Николаевич Голицын (1773-1844), известный своим мистицизмом и ханжеством.
[Закрыть],
Омара да Гали прияв за образец7474
Омар – Омар ибн Хаттаб, второй мусульманский халиф, взявший штурмом Александрию (642 г.) и, по преданию, сжегший ее ценнейшую библиотеку.
Гали – Али бен-Аби Талеб (602-661), четвертый халиф.
Прияв за образец – имеется в виду сожжение в 1821 г. труда лицейского учителя Пушкина, профессора Петербургского университета А. П. Куницына, «Право естественное», СПб. 1818-1820.
[Закрыть],
В угодность господу, себе во утешенье,
Усердно задушить старался просвещенье.
Благочестивая, смиренная душа
Карала чистых муз, спасая Бантыша7575
Спасая Бантыша – см. ниже прим. к эпиграмме «Вот Хвостовой покровитель...».
[Закрыть],
И помогал ему Магницкий7676
Магницкий, Михаил Леонтьевич (1778-1855) – один из самых ярых реакционеров александровского времени, в качестве попечителя учебного округа (в 1819-1826 гг.) разгромивший Казанский университет за «безбожное направление».
[Закрыть] благородный,
Муж твердый в правилах, душою превосходный,
И даже бедный мой Кавелин7777
Кавелин, Дмитрий Александрович (1778-1851), в качестве директора Петербургского университета (1819-1823) проявил себя как злейший обскурант; моим назван, вероятно, потому, что был в свое время членом «Арзамаса».
[Закрыть]-дурачок,
Креститель Галича7878
Креститель Галича – возбудив в 1821 г. дело против ряда профессоров Петербургского университета, в том числе против А. И. Галича (лицейского профессора Пушкина), за его атеизм и дискредитирование власти в лекциях, а также за книгу «История философских систем», Кавелин вынудил Галича признать свое учение «ложным и вредным», повел его в церковь, где священник читал над ним молитву и кропил его святой водой.
[Закрыть], Магницкого дьячок.
И вот, за все грехи, в чьи пакостные руки
Вы были вверены, печальные науки!
Цензура! вот кому подвластна ты была!
Но полно: мрачная година протекла,
И ярче уж горит светильник просвещенья.
Я с переменою несчастного правленья
Отставки цензоров, признаться, ожидал,
Но, сам не зная как, ты, видно, устоял.
Итак, я поспешил приятелей поздравить,
А между тем совет на память им оставить.
Будь строг, но будь умен. Не просят у тебя,
Чтоб все законные преграды истребя,
Все мыслить, говорить, печатать безопасно
Ты нашим господам позволил самовластно.
Права свои храни по долгу своему.
Но скромной истине, но мирному уму
И даже глупости невинной и довольной
Не заграждай пути заставой своевольной.
И если ты в плодах досужного пера
Порою не найдешь великого добра,
Когда не видишь в них безумного разврата,
Престолов, алтарей и нравов супостата,
То, славы автору желая от души,
Махни, мой друг, рукой и смело подпиши.
* * *
Тимковский царствовал7979
«Тимковский царствовал – и все твердили вслух...». Эпиграмма на трех цензоров (см. прим. к стих. «Второе послание к цензору»).
[Закрыть] – и все твердили вслух,
Что в свете не найдешь ослов подобных двух.
Явился Бируков, за ним вослед Красовский:
Ну право, их умней покойный был Тимковский!
* * *
Полу-милорд, полу-купец8080
«Полу-милорд, полу-купец...». Эпиграмма на новороссийского генерал-губернатора гр. Михаила Семеновича Воронцова (1782-1856), в канцелярии которого Пушкин служил в 1823-1824 гг. Взаимоотношения их были враждебными и кончились высылкой Пушкина из Одессы в Михайловское.
Полу-милорд – намек на английское воспитание Воронцова (он был сыном русского посла в Лондоне) и на его англоманию.
Полу-купец – Воронцов был материально заинтересован в операциях Одесского порта.
[Закрыть],
Полу-мудрец, полу-невежда,
Полу-подлец, но есть надежда,
Что будет полным наконец.
* * *
Певец-Давид был ростом мал8181
«Певец Давид был ростом мал...». В эпиграмме проводится аналогия между нравственной борьбой Пушкина с его начальником и физической борьбой юного музыканта Давида с великаном Голиафом (библия). Два последних стиха написаны настолько неясно, что чтение их предположительно.
[Закрыть],
Но повалил же Голиафа,
Который был и генерал,
И, побожусь, не ниже графа.
* * *
Не знаю где, но не у нас8282
«Не знаю где, но не у нас...». Эпиграмма на М. С. Воронцова, напечатанная в «Северных цветах» на 1823 г. в «Отрывках из писем, мыслях и замечаниях» (см. т. 6). Последний стих был напечатан так:
Провозгласить решились тонким, и пр. По-видимому, окончание стихотворения (не дошедшее до нас) делало явным, кого назвал поэт лордом Мидасом. Смысл обозначения и пр. – обращение к памяти того широкого круга лиц, которые знали стихотворение изустно. Написано между 1824 и 1827 гг., вероятно в 1824 г. Первый стих – отклик на аналогичное выражение в эпиграмме Вяземского (1821 г.).
Сбираясь в путь, глупец почетный(Не знаю где, у нас иль нет)...Этим оборотом подчеркивалось: именно у нас.
[Закрыть],
Достопочтенный лорд Мидас,
С душой посредственной и низкой, -
Чтоб не упасть дорогой склизкой,
Ползком прополз в известный чин
И стал известный господин.
Еще два слова об Мидасе:
Он не хранил в своем запасе
Глубоких замыслов и дум;
Имел он не блестящий ум,
Душой не слишком был отважен;
Зато был сух, учтив и важен.
Льстецы героя моего,
Не зная, как хвалить его,
Провозгласить решились тонким...
* * *
Вот Хвостовой покровитель8383
«Вот Хвостовой покровитель...». Эпиграмма на кн. А. Н. Голицына (см. выше прим. к стих. «Второе послание к цензору»). Общепринятую датировку эпиграммы – 1817-1820 – следует заменить – летом 1824 г.: она написана в связи со скандальной историей отставки Голицына. Чтобы добиться падения министра, близкого к Александру I, объединились Аракчеев, митрополит Серафим, архимандрит Фотий и Магницкий (Напирайте бога ради // На него со всех сторон!). Они не пренебрегли доносом и на противоестественные свойства Голицына и В. Н. Бантыша-Каменского (1778-1829), за что последний высылался в 1823 г. из Петербурга; Голицын выступил с защитой Бантыша (покровитель Бантыша).
Хвостова, Александра Петровна (1765-1853), находившаяся в дружбе с Голицыным – член мистического общества, была в 1823 г. удалена из Петербурга за организацию собраний изуверской секты хлыстовского типа.
[Закрыть],
Вот холопская душа,
Просвещения губитель,
Покровитель Бантыша!
Напирайте, бога ради,
На него со всех сторон!
Не попробовать ли сзади?
Там всего слабее он.
* * *
Охотник до журнальной драки8484
«Охотник до журнальной драки...». Эпиграмма на автора статьи «Второй разговор между классиком и издателем „Бахчисарайского фонтана“» («Вестник Европы», 1824, э 5). Статья была подписана буквой N, за которой скрывался М. А. Дмитриев. Полагая, что автором ее является редактор «Вестника Европы» Каченовский, Пушкин метил в своего старого врага. Статья М. А. Дмитриева была вызвана анонимной статьей Вяземского «Разговор между издателем и классиком с Выборгской стороны или с Васильевского острова», помещенной им «Вместо предисловия» в издании «Бахчисарайского фонтана» 1824 г.
[Закрыть],
Сей усыпительный зоил
Разводит опиум чернил
Слюнею бешеной собаки.
* * *
Лихой товарищ наших дедов,
Он друг Венеры и пиров,
Он на обедах – бог обедов,
В своих садах – он бог садов.
1825
СОЖЖЕННОЕ ПИСЬМО8585
Сожженное письмо. «Сестра поэта, О. С. Павлищева, говорила нам, – писал П. В. Анненков, – что когда приходило из Одессы письмо с печатью, изукрашенною точно такими же кабалистическими знаками, какие находились и на перстне ее брата, – последний запирался в своей комнате, никуда не выходил и никого не принимал к себе» («Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху», 1874, стр. 283). Речь шла о письмах Воронцовой, запечатанных таким же перстнем, как и перстень-талисман Пушкина, подаренный ему Воронцовой.
[Закрыть]
Прощай, письмо любви! прощай: она велела.
Как долго медлил я! как долго не хотела
Рука предать огню все радости мои!..
Но полно, час настал. Гори, письмо любви.
Готов я; ничему душа моя не внемлет.
Уж пламя жадное листы твои приемлет...
Минуту!.. вспыхнули! пылают – легкий дым
Виясь, теряется с молением моим.
Уж перстня верного утратя впечатленье,
Растопленный сургуч кипит... О провиденье!
Свершилось! Темные свернулися листы;
На легком пепле их заветные черты
Белеют... Грудь моя стеснилась. Пепел милый,
Отрада бедная в судьбе моей унылой,
Останься век со мной на горестной груди...
* * *
Лишь розы увядают,
Амврозией дыша,
В Элизий улетает
Их легкая душа.
И там, где волны cонны
Забвение несут,
Их тени благовонны
Над Летою цветут.
ОДА ЕГО СИЯТ. ГР. ДМ. ИВ. ХВОСТОВУ8686
Ода его сият. гр. Дм. Ив. Хвостову. Пародия на оды самого Хвостова, Петрова, Дмитриева, направленная главным образом против архаических форм в стихах молодых поэтов – Кюхельбекера, Рылеева. В «Оде» воспроизведен литературный стиль одописцев; славянизмы наряду с просторечием, риторическая выспренность выражений, архаический словарь, авторские примечания к стихотворениям.
Намекая на оду Хвостова «На смерть Байрона», Пушкин иронически приглашает Хвостова заменить Байрона, умершего в Греции деятелем национально-освободительной борьбы греков против турецкого владычества (см. прим. к стих. «К морю»).
Кровь... резвоскачет – выражение из стихотворения Кюхельбекера «Грибоедову», только что напечатанного в «Московском телеграфе» (1825, э l): «И резвоскачущая кровь».
Пит – Вильям Питт (Младший) (1759-1806), английский государственный деятель, известный жестоким подавлением мятежа в Ирландии (1798).
Просторечие Где от крови земля промокла и рифма промокла – Фемистокла – пародия на выражение Рылеева «Давно от слез и крови взмокла // Эллада средь святой борьбы» и на его рифму «взмокла – Фемистокла» (в стихотворении «На смерть Байрона», тогда еще не напечатанном).
[Закрыть]
Султан8787
Султан – Махмуд II (1785-1839).
[Закрыть] ярится8888
Подражание г. Петрову, знаменитому нашему лирику.
[Закрыть]. Кровь Эллады
И peзвocкачет8989
Слово, употребленное весьма счастливо Вильгельмом Карловичем Кюхельбекером в стихотворном его письме к г. Грибоедову.
[Закрыть], и кипит.
Открылись грекам древни клады9090
Под словом клады должно разуметь правдивую ненависть нынешних Леонидов, Ахиллесов и Мильтиадов к жестоким чалмоносцам.
[Закрыть],
Трепещет в Стиксе лютый Пит9191
Г. Питт, знаменитый английский министр и известный противник Свободы
[Закрыть].
И се – летит продерзко судно
И мещет громы обоюдно.
Се Бейрон, Феба образец.
Притек, но недуг быстропарный9292
Горячка.
[Закрыть],
Строптивый и неблагодарный
Взнес смерти на него резец.
Певец бессмертный и маститый,
Тебя Эллада днесь зовет
На место тени знаменитой,
Пред коей Цербер днесь ревет.
Как здесь, ты будешь там сенатор,
Как здесь, почтенный литератор,
Но новый лавр тебя ждет там,
Где от крови земля промокла:
Перикла лавр, лавр Фемистокла;
Лети туда, Хвостов наш! сам.
Вам с Бейроном шипела злоба,
Гремела и правдива лесть.
Он лорд – граф ты! Поэты оба!
Се, мнится, явно сходство есть. -
Никак! Ты с верною супругой9393
Графиня Хвостова, урожденная княжна Горчакова, достойная супруга маститого нашего Певца. Во многочисленных своих стихотворениях везде называет он ее Темирою (см. последн. замеч. в оде «Заздравный кубок»).
[Закрыть]
Под бременем Судьбы упругой
Живешь в любви – и наконец
Глубок он, но единобразен,
А ты глубок, игрив и разен,
И в шалостях ты впрям певец.
А я, неведомый Пиита,
В восторге новом воспою
Во след Пиита знаменита
Правдиву похвалу свою,
Моляся кораблю бегущу,
Да Бейрона он узрит кущу9494
Подражание его высокопр. действ. тайн. сов. Ив. Ив. Дмитриеву, знаменитому другу гр. Хвостова
К тебе я руки простиралУже из отческия кущи,Взирая на суда бегущи
[Закрыть],
И да блюдут твой мирный сон9595
Здесь поэт, увлекаясь воображением, видит уже Великого нашего лирика, погруженного в сладкий сон и приближающегося к берегам благословенной Эллады. Нептун усмиряет пред ним продерзкие волны; Плутон исходит из преисподней бездны, дабы узреть того, кто ниспошлет ему в непродолжительном времени богатую жатву теней поклонников Лжепророка; Зевес улыбается ему с небес; Цитерея (Венера) осыпает цветами своего любимого певца; Геба подъемлет кубок за здравие его; Псиша, в образе Иполита Богдановича, ему завидует; Крон удерживает косу, готовую разить; Астрея предчувствует возврат своего царствования; Феб ликует; Игры, Смехи, Вакх и Харон веселою толпою следуют за судном нашего бессмертного Пииты
[Закрыть]
Нептун, Плутон, Зевс, Цитерея,
Гебея, Псиша, Крон, Астрея,
Феб, Игры, Смехи, Вакх, Харон.
КОЗЛОВУ9696
Козлову («Певец! когда перед тобой...»). Козлов, Иван Иванович (1779-1840), поэт, начал писать стихи лишь на сорок третьем году жизни, после того как ослеп. Печатая стихотворение, Пушкин сопровождал его (в оглавлении) подзаголовком: «По получении от него „Чернеца“» («Чернец» – поэма Козлова). Козлов благодарил Пушкина за послание восторженным письмом, в котором писал: «Не мой слабый талант, но восхищение перед вашим дарованием и искренняя привязанность, которую я к вам питаю, оправдывают первое полустишие 7-го стиха; еще раз спасибо, большое спасибо; оно тронуло меня до глубины души!» (См. Акад. изд. Собр. соч. Пушкина, т. XIII, стр. 176 и 536.)
[Закрыть]
Певец, когда перед тобой
Во мгле сокрылся мир земной,
Мгновенно твой проснулся гений,
На все минувшее воззрел
И в хоре светлых привидений
Он песни дивные запел.
О милый брат, какие звуки!
В слезах восторга внемлю им.
Небесным пением своим
Он усыпил земные муки;
Тебе он создал новый мир,
Ты в нем и видишь, и летаешь,
И вновь живешь, и обнимаешь
Разбитый юности кумир.
А я, коль стих единый мой
Тебе мгновенье дал отрады,
Я не хочу другой награды -
Недаром темною стезей
Я проходил пустыню мира;
О нет! недаром жизнь и лира
Мне были вверены судьбой!
ЖЕЛАНИЕ СЛАВЫ9797
Желание славы. Стихотворение обращено к Е. К. Воронцовой.
[Закрыть]
Когда, любовию и негой упоенный,
Безмолвно пред тобой коленопреклоненный,
Я на тебя глядел и думал: ты моя, -
Ты знаешь, милая, желал ли славы я;
Ты знаешь: удален от ветреного света,
Скучая суетным прозванием поэта,
Устав от долгих бурь, я вовсе не внимал
Жужжанью дальному упреков и похвал.
Могли ль меня молвы тревожить приговоры,
Когда, склонив ко мне томительные взоры
И руку на главу мне тихо наложив,
Шептала ты: скажи, ты любишь, ты счастлив?
Другую, как меня, скажи, любить не будешь?
Ты никогда, мой друг, меня не позабудешь?
А я стесненное молчание хранил,
Я наслаждением весь полон был, я мнил,
Что нет грядущего, что грозный день разлуки
Не придет никогда... И что же? Слезы, муки,
Измены, клевета9898
Слезы, муки, измены, клевета – см. выше прим. к стих. «Коварность».
[Закрыть], все на главу мою
Обрушилося вдруг... Что я, где я? Стою,
Как путник, молнией постигнутый в пустыне,
И все передо мной затмилося! И ныне
Я новым для меня желанием томим:
Желаю славы я, чтоб именем моим
Твой слух был поражен всечасно, чтоб ты мною
Окружена была, чтоб громкою молвою
Все, все вокруг тебя звучало обо мне,
Чтоб, гласу верному внимая в тишине,
Ты помнила мои последние моленья
В саду, во тьме ночной, в минуту разлученья.
П. А. ОСИПОВОЙ9999
П. А. Осиповой («Быть может, уж недолго мне...»). Написано в связи с планами бегства за границу, которые Пушкин уже давно обдумывал.
[Закрыть]
Быть может, уж недолго мне
В изгнанье мирном оставаться,
Вздыхать о милой старине
И сельской музе в тишине
Душой беспечной предаваться.
Но и в дали, в краю чужом
Я буду мыслию всегдашней
Бродить Тригорского кругом,
В лугах, у речки, над холмом,
В саду под сенью лип домашней.
Когда померкнет ясный день,
Одна из глубины могильной
Так иногда в родную сень
Летит тоскующая тень
На милых бросить взор умильный.
* * *
Храни меня, мой талисман100100
«Храни меня, мой талисман...». См. выше прим. к стих. «Сожженное письмо»
[Закрыть],
Храни меня во дни гоненья,
Во дни раскаянья, волненья:
Ты в день печали был мне дан.
Когда подымет океан
Вокруг меня валы ревучи,
Когда грозою грянут тучи, -
Храни меня, мой талисман.
В уединеньи чуждых стран,
На лоне скучного покоя,
В тревоге пламенного боя
Храни меня, мой талисман.
Священный сладостный обман,
Души волшебное светило...
Оно сокрылось, изменило...
Храни меня, мой талисман.
Пускай же ввек сердечных ран
Не растравит воспоминанье.
Прощай, надежда; спи, желанье;
Храни меня, мой талисман
АНДРЕЙ ШЕНЬЕ101101
Андрей Шенье (1762-1794) – французский поэт, во время революции оставался в лагере умеренных и выступал в печати в защиту жирондистов, а во время процесса короля Людовика XVI – в его защиту. Это вызвало подозрение якобинского правительства, Шенье был обвинен в заговоре в пользу монархии и казнен 7 термидора (26 июля 1794 г.), за два дня до падения диктатуры Робеспьера (об отношении Пушкина к якобинцам см. в статье о стихотворениях Пушкина; т. 1).
Стихи Приветствую тебя, мое светило до Так буря мрачная минет были запрещены цензурой и заменены в печати четырьмя строками точек. После восстания декабристов они стали распространяться в рукописных копиях с неправильным заглавием «На 14 декабря» (стихотворение было написано за полгода до восстания на Сенатской площади). Стихи эти дошли до правительства, началось расследование, и Пушкину пришлось четыре раза в продолжение 1827 г., в Москве и Петербурге, давать официальные объяснения о происхождении и смысле предъявляемых ему стихов из «Андрея Шенье». Приводим объяснение самим Пушкиным этого текста (из показания 27 января 1827 г.):
"Они явно относятся к французской революции, коей А. Шенье погиб жертвою. Он говорит:
Я славил твой небесный гром,Когда он разметал позорную твердыню.Взятие Бастилии, воспетое Андреем Шенье.Я слышал братский их обет,Великодушную присягуИ самовластию бестрепетный ответ -Присяга du jeu de paume {1} и ответ Мирабо: allez dire a votre maitre etc. {2}.И пламенный трибун – и проч.Он же, Мирабо.Уже в бессмертный ПантеонСвятых изгнанников входили славны тени -Перенесение тел Вольтера и Руссо в Пантеон.Мы свергнули царей – в 1793 г.Убийцу с палачамиИзбрали мы в цари -Робеспьера и Конвент". «Андрей Шенье» – одно из важнейших автобиографических стихотворений Пушкина, сближавшего свою судьбу гонимого тираном поэта с судьбой Андрея Шенье. Эпиграф из Андрея Шенье первоначально был эпиграфом к тетради лирических стихотворений, в которой поэт писал в ссылке.
Стихи Гордись и радуйся, поэт до Кинжал и деву-эвмениду намекают на стихотворения «Вольность»; и «Кинжал», политические эпиграммы. Стихи ...а ты, свирепый зверь до Разбудит утомленный рок были обращены, в сущности, к Александру I. Поэт писал 13 июля 1825 г. Вяземскому: «Читал ты моего А. Шенье в темнице? Суди обо мне, как иезуит – по намерению» (см. т. 9). После смерти Александра I, 4-6 декабря 1825 г., он писал Плетневу:
«Душа! я пророк, ей-богу пророк! Я Андрея Шенье велю напечатать церковными буквами во имя отца и сына etc.» (см. т. 9).
Первые три строфы – посвящение стихотворения H. H. Раевскому (младшему), о чем сам поэт писал Плетневу около 19 июля 1825 г. (см. т. 9).
1) В зале для игры в мяч (франц.). Имеется в виду клятва депутатов французского Национального собрания от третьего сословия – сопротивляться деспотизму короля.
2) Идите, скажите своему господину, и т. д. (франц.). Начало известного ответа Мирабо 23 июня 1789 г. церемониймейстеру короля на его предложение очистить «зал для игры в мяч»: «Идите, скажите своему господину, что мы находимся здесь по воле народа и что изгнать нас можно только штыками».
1) Как последний луч, как последнее веяние ветра
Оживляет вечер прекрасного дня,
Так у подножья эшафота я еще пробую свою лиру.
(См. Последние стихи Андрея Шенье) (франц.).
2) Авель, милый наперсник моих юношеских тайн (Элегия I) (франц.).
3) Фанни, одна из любовниц Андрея Шенье. См. оды, к ней обращенные (франц.).
4) См. Юная Пленница (М-ль де Куаньи) (франц.).
5) См. его ямбы.
Шенье заслужил ненависть мятежников. Он прославлял Шарлотту Корде, клеймил Колло д'Эрбуа, нападал на Робеспьера. – Известно, что король испрашивал у Конвента письмом, исполненным спокойствия и достоинства, права апеллировать к народу на вынесенный ему приговор. Это письмо, подписанное в ночь с 17 на 18 января, составлено Андреем Шенье, (А. де ла Туш) (франц.).
6) В свои последние минуты они беседовали о поэзии. Она была – для них, после дружбы, прекраснее всего на свете. Предметом их разговора и последнего восхищения был Расин. Они решили читать его стихи. Выбрали они первую сцену Андромахи.
(А. де ла Туш) (франц.).
7) все же здесь у меня кое-что было (франц.).
[Закрыть]
ПОСВЯЩЕНО Н. Н. РАЕВСКОМУ.
Ainsi, triste et сарtif, mа lyre toutefois
S'eveillait...
Меж тем, как изумленный мир
На урну Байрона взирает,
И хору европейских лир
Близ Данте тень его внимает,
Зовет меня другая тень,
Давно без песен, без рыданий
С кровавой плахи в дни страданий
Сошедшая в могильну сень.
Певцу любви, дубрав и мира
Несу надгробные цветы.
Звучит незнаемая лира.
Пою. Мне внемлет он и ты.
Подъялась вновь усталая секира
И жертву новую зовет.
Певец готов; задумчивая лира
В последний раз ему поет.102102
Comme un dernier rayon, comme un dernier zephyre Anime le soir d'un beau jour, Au pied de l'echafaud j'essaie encor ma lyre. (V. Les derniers vers d'Andre Chenier).
[Закрыть]
Заутра казнь, привычный пир народу;
Но лира юного певца
О чем поет? Поет она свободу:
Не изменилась до конца!
"Приветствую тебя, мое светило!
Я славил твой небесный лик,
Когда он искрою возник,
Когда ты в буре восходило.
Я славил твой священный гром,
Когда он разметал позорную твердыню
И власти древнюю гордыню
Развеял пеплом и стыдом;
Я зрел твоих сынов гражданскую отвагу,
Я слышал братский их обет,
Великодушную присягу
И самовластию бестрепетный ответ.
Я зрел, как их могущи волны
Все ниспровергли, увлекли,
И пламенный трибун предрек, восторга полный,
Перерождение земли.
Уже сиял твой мудрый гений,
Уже в бессмертный Пантеон
Святых изгнанников входили славны тени,
От пелены предрассуждений
Разоблачался ветхий трон;
Оковы падали. Закон,
На вольность опершись, провозгласил равенство,
И мы воскликнули: Блаженство!
О горе! о безумный сон!
Где вольность и закон? Над нами
Единый властвует топор.
Мы свергнули царей. Убийцу с палачами
Избрали мы в цари. О ужас! о позор!
Но ты, священная свобода,
Богиня чистая, нет, – не виновна ты,
В порывах буйной слепоты,
В презренном бешенстве народа,
Сокрылась ты от нас; целебный твой сосуд
Завешен пеленой кровавой:
Но ты придешь опять со мщением и славой, -
И вновь твои враги падут;
Народ, вкусивший раз твой нектар освященный,
Все ищет вновь упиться им;
Как будто Вакхом разъяренный,
Он бродит, жаждою томим;
Так – он найдет тебя. Под сению равенства
В объятиях твоих он сладко отдохнет;
Так буря мрачная минет!
Но я не узрю вас, дни славы, дни блаженства:
Я плахе обречен. Последние часы
Влачу. Заутра казнь. Торжественной рукою
Палач мою главу подымет за власы
Над равнодушною толпою.
Простите, о друзья! Мой бесприютный прах
Не будет почивать в саду, где провождали
Мы дни беспечные в науках и в пирах
И место наших урн заране назначали.
Но, други, если обо мне
Священно вам воспоминанье,
Исполните мое последнее желанье:
Оплачьте, милые, мой жребий в тишине;
Страшитесь возбудить слезами подозренье;
В наш век, вы знаете, и слезы преступленье:
О брате сожалеть не смеет ныне брат.
Еще ж одна мольба: вы слушали стократ
Стихи, летучих дум небрежные созданья,
Разнообразные, заветные преданья
Всей младости моей. Надежды, и мечты,
И слезы, и любовь, друзья, сии листы
Всю жизнь мою хранят. У Авеля, у Фанни103103
У Авеля, y Фанни.
Abel, doux confident des mes jeunes mysteres (El. I): один из друзей А. Ш. Fanni, l'une des maitresses d'An. Ch. Voyez les odes qui lui sont adressees.
[Закрыть],
Молю, найдите их; невинной музы дани
Сберите. Строгий свет, надменная молва
Не будут ведать их. Увы, моя глава
Безвременно падет: мой недозрелый гений
Для славы не свершил возвышенных творений;
Я скоро весь умру. Но, тень мою любя,
Храните рукопись, о други, для себя!
Когда гроза пройдет, толпою суеверной
Сбирайтесь иногда читать мой свиток верный,
И, долго слушая, скажите: это он;
Вот речь его. А я, забыв могильный сон,
Взойду невидимо и сяду между вами,
И сам заслушаюсь, и вашими слезами
Упьюсь... и, может быть, утешен буду я
Любовью; может быть, и Узница моя104104
И Узница моя. V. La jeune Captive (M-lle de Coigny).
[Закрыть],
Уныла и бледна, стихам любви внимая..."
Но, песни нежные мгновенно прерывая,
Младой певец поник задумчивой главой.
Пора весны его с любовию, тоской
Промчалась перед ним. Красавиц томны очи,
И песни, и пиры, и пламенные ночи,
Все вместе ожило; и сердце понеслось
Далече... и стихов журчанье излилось:
"Куда, куда завлек меня враждебный гений?
Рожденный для любви, для мирных искушений,
Зачем я покидал безвестной жизни тень,
Свободу, и друзей, и сладостную лень?
Судьба лелеяла мою златую младость;
Беспечною рукой меня венчала радость,
И муза чистая делила мой досуг.
На шумных вечерах друзей любимый друг,
Я сладко оглашал и смехом и стихами
Сень, охраненную домашними богами.
Когда ж, вакхической тревогой утомясь
И новым пламенем незапно воспалясь,
Я утром наконец являлся к милой деве
И находил ее в смятении и гневе;
Когда, с угрозами, и слезы на глазах,
Мой проклиная век, утраченный в пирах,
Она меня гнала, бранила и прощала:
Как сладко жизнь моя лилась и утекала!
Зачем от жизни сей, ленивой и простой,
Я кинулся туда, где ужас роковой,
Где страсти дикие, где буйные невежды,
И злоба, и корысть! Куда, мои надежды,
Вы завлекли меня! Что делать было мне,
Мне, верному любви, стихам и тишине,
На низком поприще с презренными бойцами!
Мне ль было управлять строптивыми конями
И круто напрягать бессильные бразды?
И что ж оставлю я? Забытые следы
Безумной ревности и дерзости ничтожной.
Погибни, голос мой, и ты, о призрак ложный,
Ты, слово, звук пустой...
О, нет!
Умолкни, ропот малодушный!
Гордись и радуйся, поэт:
Ты не поник главой послушной
Перед позором наших лет;
Ты презрел мощного злодея;
Твой светоч, грозно пламенея,
Жестоким блеском озарил
Совет правителей бесславных;105105
Voyez ses iambes.
Chenier avait merite la haine des factieux. Il avait celebre Charlotte Corday, fletri Collot d'Herbois, attaque Robespierre. – On sait que le roi avait demande a l'Assemblee, par une lettre pleine de calme et de dignite, le droit d'appeler au peuple du jugement qui le condamnait. Cette lettre signee dans la nuit du 17 au 18 janvier est d'Andre Chenier.
(H. de la Touche.)
[Закрыть]
Твой бич настигнул их, казнил
Сих палачей самодержавных;
Твой стих свистал по их главам;
Ты звал на них, ты славил Немезиду;
Ты пел Маратовым жрецам
Кинжал и деву-эвмениду!
Когда святой старик от плахи отрывал
Венчанную главу рукой оцепенелой,
Ты смело им обоим руку дал,
И перед вами трепетал
Ареопаг остервенелый.
Гордись, гордись, певец; а ты, свирепый зверь,
Моей главой играй теперь:
Она в твоих когтях. Но слушай, знай, безбожный:
Мой крик, мой ярый смех преследует тебя!
Пей нашу кровь, живи, губя:
Ты все пигмей, пигмей ничтожный.
И час придет... и он уж недалек:
Падешь, тиран! Негодованье
Воспрянет наконец. Отечества рыданье
Разбудит утомленный рок.
Теперь иду... пора... но ты ступай за мною;
Я жду тебя".
Так пел восторженный поэт.
И все покоилось. Лампады тихий свет
Бледнел пред утренней зарею,
И утро веяло в темницу. И поэт
К решетке поднял важны взоры...
Вдруг шум. Пришли, зовут. Они! Надежды нет!
Звучат ключи, замки, запоры.
Зовут... Постой, постой; день только, день один:
И казней нет, и всем свобода,
И жив великий гражданин
Среди великого народа106106
Он был казнен 8 термидора, т. е. накануне низвержения Робеспиерра.
[Закрыть].
Не слышат. Шествие безмолвно. Ждет палач.
Но дружба смертный путь поэта очарует107107
На роковой телеге везли на казнь с Ан. Шенье и поэта Руше, его друга. Ils parlerent de poesie a leurs derniers moments: pour eux apres l'amitie c'etait la plus belle chose de la terre. Racine fut l'objet de leur entretient et de leur derniere admiration. Ils voulurent reciter ses vers. Ils choisirent la premiere scene d'Andromaque.
(H. de la Touche.)
[Закрыть].
Вот плаха. Он взошел. Он славу именует...108108
На месте казни он ударил себя в голову и сказал: pourtant j'avais quelque chose la.
[Закрыть]
Плачь, муза, плачь!..