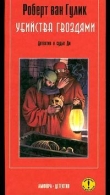Текст книги "Отравление"
Автор книги: Александр Потупа
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 3 страниц)
Но Томка, паразитка, все выложит как есть, что же делать – очная ставка будет, ага, я ей так скажу: для чего ж ты, скажу, Томочка, под меня бомбы суешь, ведь следователь – не Бог, он же только человек, вину мою, скажу, никто не докажет, потому что нет этой вины, но по ошибке могут и в тюрьме подержать, подумай, скажу тихим таким голосом, чтоб ее озноб до костей пробрал, подумай, Томочка, прежде чем сестру в ложке злобы своей топить, подумай, что с Коленькой будет, вот если по правде все вышло бы, у меня, тетки родной, Коленька стал бы жить, а иначе пропадет он, мои-то дочки – взрослые, а я могу и целый годик невинно страдать, другие инстанции разберутся – выпустят, а ты все равно надолго сядешь, что ж с Коленькой-то станется? Ай да Надька, ай да Васильевна, в самую точку влепила, а вдруг и вправду Томка весь грех на себя примет, тогда я на что угодно пойду, и Колю к себе возьму, выращу – поумней, чем у отца с матерью получится, и передачи Томке каждый месяц делать буду, только бы на себя подговор взяла и меня выгородила, для чего ж вдвоем нам гореть, ей – все равно, от доставания яда не отвертеться, а я чистой могу выйти, и перед бабой Настей обелиться постараюсь, простит как-нибудь...
Молодец, Надька, – умная баба всегда ум покажет.
И есть вроде расхотелось...
Так и сделаю, сейчас на допрос пойду, будь что будет, а Томка поймет меня, только бы не перла, как тогда на работе, царапаться не лезла, только бы выскочить мне дала, и ей пристанище будет после тюрьмы, не расстреляют же, все-таки женщина с дитем, да и я на суде выступлю с жалостливой речью, эх, Томку бы мне сюда на пяток минут, я бы с ней быстро договорилась, и ей легче, а то и сговор и корысть припишут, за это и срок добавят, ну да черт с ней, пойду.
Ради ее же Коленьки пойду...
VIII
Спать хочется.
Хорошо, что пешком надумал пойти.
Голова не работает, транспорт не работает.
Обойдусь, придется обойтись без того и без другого...
Три пятнадцать.
Вот-вот посереет, уже началось, фонари расплываются, прохладно и пусто, хоть посреди мостовой топай.
А начиналось так просто – прогулка в парке, опасное место сентябрьский парк, не углядишь, и голова наполнится желто-зеленой скрипичной каруселью – это нечто оттуда, из юности.
Ходили, взявшись за руки, десяток годов как ветром сдуло, Лена молчала, я молчал, а годы все убывали, хорошо хоть до нашей скамейки дошли, пока мне восемнадцать не стукнуло и не начались акробатические номера, и тут молчание лопнуло, как воздушный шарик, потом – пожар, настоящий пожар, очнулись часа в два, Лена готовит кофе, а я валяюсь и чувствую – сгорела моя неприкосновенная свобода, по крайней мере, ожоги неизлечимы, и комната моя медленно вокруг своей оси вертится...
Три двадцать, к четырем доберусь, странно – до чего же спать хочется, ничего, полвоскресенья в моем распоряжении, потом знакомство с будущей тещей, она завтра из отпуска возвращается, обязательно что-нибудь насчет подарочка отпустит: приготовила доченька к приезду...
Жаль, что без всех этих декораций не обойтись, но ничего не поделаешь – традиция, Ромео в джинсах – это для нее, а для тещи – другое – черная тройка, жалованье, превосходное у вас печенье, лучше чайку...
В понедельник писанины по уши, закрываю сестриц, гора с плеч, н-да, дельце, чушь собачья, а не дельце, это ж надо – так быстро следствие завершилось, бедняга прокуратор Ваня, придется ему искать поставщика циана, с Тамарой Васильевной возиться, ну он-то ее за день-другой до ума доведет, расколет.
А с убийством все же пришлось помучиться, когда ехал к старшей сестре, думал, как утешить, ее-то утешить, ну и баба, спаси нас судьба от таких леди Макбет местного значения, рано ее с первого допроса погнал, надо было прямей атаковать, переусложнил, понимаю – врет, а подозрениям своим верить боюсь, хотя попробуй такому поверь – на реальное дело не похоже, а сюжеты для черных романов не по моей части.
Ловко она на втором допросе вывернуться хотела, огромная сила воли собраться успела, рассчитать на несколько ходов вперед, и очную выдержала отлично, надо же, какую едкую мыслишку сестрице подкинула, сынишку, значит, от полного сиротства спасти, и здесь, пожалуй, вторая моя ошибка – ведь Тамара чуть-чуть не спряталась в эту версию, пришлось бы потом еще несколько дней возиться, однако, как часто бывает, две ошибки сложились в полезный шаг, во-первых, до рези в глазах ясно стало, что главарь Надежда, характер она спрятать позабыла, а Тамара – "женщина слабая, беззащитная", даже не Мерчуткина, просто слезистого строения человек, в сущности, не глупа, может быть, поумней сестры, но абсолютно неустойчива, а колебания ее понять несложно – мать, ребенок без присмотра остается, и вообще, привыкла старшенькой подчиняться, во-вторых, очень уж, складно Надежда Васильевна оборону строила, вроде не подкопаешься – ад Тамара доставала, тарелку, такую, чтоб ни в одном из домов аналогичной не было, она же покупала, на тарелке ни одного следа – пользовались перчатками, а перчатки, конечно, ликвидированы, холодец Надя варила – не отрицает, так ведь ко дню рождения, что особенного, но очень уж хотелось Надежде Васильевне начисто оправдаться, настолько поверила она в свою линию обороны, что на третьем допросе стала с жалостью на меня погладывать, тут я понял – созрела, пора козырь показать, а козырь, как чаще всего случается, в акте экспертизы спрятан, в мелком, на первый взгляд, факте – ад в холодце не локализован, практически равномерно распределен по объему, следовательно, введен был в жидкое варево и тщательно размешан.
Недурно придумала эта Орлова, в девичестве Горобчук, – съест пожилая гражданка Анастасия Кузьминична неизвестно чем отравленный холодец из неизвестно чьей тарелки, брякнется сморщенным трупиком под стол, полежит денек-другой, тут сердобольные дочушки навестят, дверь взломают, заохают, запричитают, похороны устроят, милиция побегает, побегает и успокоится, может, бабка самоубийством покончила, мало ли, и вдруг – дикий зигзаг судьбы, целились в мать, поубивали собственных мужей, и Тамара теряет голову – ушел любимый человек, на остальное ей наплевать, остальное полностью вытеснено, а вот Орлова – по-другому, она в нокдауне, но быстро, почти сразу приходит в себя, инстинкт самосохранения требует еще одной жертвы, и она начинает толкать на плаху сестру, ведь не дура же – понимает, что дело пахнет вышкой, однако толкает.
Холодец готовила, разумеется, в ночь перед днем рождения, еле застыть успел, разумеется, никто не присутствовал, разве что муж раз на кухню заглядывал, – с удовольствием подписала эти показания, вполне, между прочим, правдивые, у Тамары в тот вечер допоздна засиделась соседка, так что участвовать в приготовлении младшая сестра никак не могла, это проверено, а потом пришлось объяснить, что холодец бы отравлен до затвердения...
И выстрелила в меня Надежда Васильевна Орлова таким жутким взглядом, что спина взмокла, мгновенно она ситуацию оценила и весь заряд своего несостоявшегося спасения в мою переносицу выпустила, многое в своем кабинете повидать мне пришлось, но такую злость – никогда, и получилось так, словно с этим взглядом вся сила покинула гражданку Орлову, попуталась она немного, повиляла для порядка и вышла на полное признание, прорвало ее, все изложила, причем совпадение с показаниями матери и сестры почти стопроцентное.
С профессиональной точки зрения – скучное дело, в сущности, простое, неопытны сестрицы Горобчук, могли бы и получше кашу заварить, думали по наивности своей, что убийство – легкий способ наживы, но век не тот, одиночке-дилетанту и здесь путь заказан, всему учиться надо, всерьез учиться, кстати, у Орловой в этом направлении задатки есть, может в заключении ума-разума поднабраться, дадут ей лет десять – гуманность, то да се, а по сути дела, ни в какую нормальную колею ей уже не войти, скажем, отсидит, а потом что – дети знать не захотят, мать помрет, вряд ли и полсрока протянет, мужа нет, дикое положение, найдется ли святой, который помочь не побрезгует, нет ведь, пожалуй, тот случай, когда тюрьма родней любой свободы покажется, тем более, что Орлова очень быстро станет не последним человеком в арестантской иерархии, вообще это заблуждение, что каждый человек предпочитает любую свободу любой тюрьме – в клетке можно иметь не так уж много, зато вполне определенных благ, а на воле нередко только одно благо – сама воля, да и то при внимательном рассмотрении оказывается не воля – иллюзия, хорошо сработанная иллюзия, ползал ведь на коленях по моему кабинету Митюхин – двенадцать ограблений с применением огнестрельного – ползал и хрипел: посадите, хрипел с пеной на губах, как отца родного прошу, Богом заклинаю, Марксом вашим заклинаю, посадите, любое дело пришейте, только чтоб до конца моих дней сидеть, стукну ведь кого под горячую руку, насмерть стукну, сердце мое чует – насмерть, вышку отхвачу, будет на вас и его и моя кровь, а помирать насильственно неохота; в основном, верно – там он туз, на воле – никто, даже не нуль, а сильно отрицательная величина, ничего, кроме формулы "жизнь или кошелек" не знает, а формула-то скользкая – вдруг кто-нибудь предпочтет сохранить кошелек, потому Митюхин и пришел ко мне через месяц после завершения своей последней отсидки, свобода его смертью пахла.
А другой полюс, сто тысяч световых лет от Митюхина, и все-таки Тимоша, знал ведь, что в клетку прыгает, однако плюс сто и должность, года полтора прошло, и стал Тимоша называть клетку работой, распасовку входящих-исходящих – литературной деятельностью, стишки – хе-хе – грешком молодости, телерыженькую – замечательным представителем нашей транспортной молодежи, и самое любопытное, что все это правда, абсолютная истина в новой Тимошиной системе отсчета, и служба не такая уж клетка, можно привыкнуть, и бумагодвижение требует серьезности, и рыженькая – чудо, особенно, когда улыбается, просто весь фокус нового восприятия – в смене системы отсчета, Тимоша сменил вроде бы безболезненно, но думается, – сел в чужую, и вскоре это скажется, вскинет однажды Тимоша голову, взглянет поверх своего солидного служебного положения, увидит горизонты иного цвета и смысла взвоет, взвоет и ползком поползет к этим иным горизонтам, только поздно не было бы...
Без четверти четыре.
Тишина.
Вовсю светает, и спать расхотелось, может, не усну теперь?
Обидится Иван Константиныч, прокуратор Ваня: сливки Русецкий снял, а самую грязь мне оставил, хм, сливочки, скисшие сливочки, впрочем, эти яды дело долгое и грязное, наверняка сестры зацепили лишь самый кончик длинной ниточки.
Почему-то Тамара Васильевна обо всем рассказала, а о том, как циан добывала – ни слова, спросишь – она в истерику, плачет, о муже причитает, сначала и внимания не обратил, думал – естественная реакция, случайное совпадение, но уже на втором допросе понял – нет, увиливает она, скрывает что-то, что?
Впрочем, нет преступлений без какого-нибудь неясного хвостика, во всяком случае, мне встречать не приходилось, хоть одна ниточка для размышлений обязательно найдется, человек связан с прошлым гораздо сильней, чем кажется, вырвешь его, изолируешь, но ведь тысячи нитей, тысячи нитей, одни сразу обрываются, другие лопаются, но есть и такие, что по-прежнему куда-то ведут, с чем-то связывают, бывает, что через десятки лет они снова раскаляются и обжигают, возможно, что и здесь такая нитка, лет восемь назад, еще до моего прихода в отдел велось очень крупное дело по ядам – до сих пор легенды ходят, подпольное производство, отлично налаженный сбыт, даже попытки выйти на международный рынок, и не исключено, что одна из ниточек этого дела не обнаружилась тогда, ушла в тень, чтобы теперь проявиться в трагедии сестер Горобчук, а может, и новый подпольный трест, поинтересуюсь потом у прокуратора Вани, обязательно поинтересуюсь...
Еще два квартала, и дома.
Настроение чего-то испортилось, какого дьявола в такую чудесную ночь о таких вселенских пакостях думать, серенады петь надо, воспарять, влюбился ведь, сам не ожидал, а влюбился по уши, как пацан, а тут эти проклятые бабы по извилинам топчутся, Митюхин ползает, мерзкая все-таки профессия, и не потому, что с грязью возиться кому-то надо – это пакостная выдумка бездельника, и не потому, что она кому-то вымирающей кажется – для них все на свете тождественно собственному символу веры; а потому что все время находишься среди изломов и трещин, судьбы, характеры, пропасти душ – иногда такое наружу выхлестывает, темное, необозначенное и страшное, что ни одному профессору психологии в бреду не представится, как будто и не пронеслись над нами пятьдесят веков цивилизации, и не должно это нечто необозначенное затопить мир, отравить его забвением человека и истории – в этом цель, но цена зачастую непомерна, и кусочек этой ночи тоже входит в цену сражения с нечто...
Все, спать, немедленно спать, никаких трещин, думать только о Лене, о цветах – обязательно добыть хороший букет цветов, сигареты кончились, к лучшему, вдохну напоследок эту сентябрьскую ночь без дыма, чистую ночь...
IX
Сальца бы кусочек.
Сало волей пахнет.
Может, дачка будет на следующей неделе.
Холодно.
И здесь зябко, а в мастерской точно недотапливают, еще повезло, все ж не работы на воздухе.
Совсем распустилась, колтун расчесать завтра надо, опять у Купревны чесало одалживать...
Сейчас бы под толстое одеяло из ваты, настоящую стеганку, простыню крахмальную, а хрен с ней, с простыней, главное – одеяло, чтоб залезть под него целиком и покряхтывать от теплоты и мягкости, и под спину чего-нибудь помягче, хоть диван какой завалящий, и чтоб не трогал никто, досыта нахрапелась бы, часов до двенадцати.
Хорошая штука одеяло, если ваты не жалели, чтоб толстенное было и большое – под ноги подоткнуть и голову укутать, чтоб пахло хорошо настоящими духами, и если б еще Борьку на несколько минут рядом, тело теплое, пусть сопит вовсю, третий сон досматривает, ничего мне такого не надо, только чтоб возле уха сопел, голову ему под мышку суну, а руками, боже мой, чтоб я только руками не делала, на волю бы руки выпустила, хоть вы погуляйте, но тихо – Боречку не разбудить, пусть хоть на год еще раскрутят, один хрен, Надька вон десятку получила и жива, пусть хоть год подкинут, а Борьку дадут на несколько минут, чтоб под мышку к нему ткнуться.
А проснулся бы случайно, боже, как целовала бы, он с ума сошел бы от поцелуев моих, Купревна научила – опытная стервь, вроде платы за прокат, все у нее водится – и расческа хорошая, и жидкости всякие вроде одеколона, и все чего пожелаешь, только вцепится потом, обкусает, обслюнявит – целый день отмываешься, добрая вроде баба, а тошнючая, липкая какая-то...
Очухался бы Боренька, а я ему: не желала я того злого случая, Боренька, лапочка ты мой, котенок мягонький, не желала, травили мы с Надькой мамашу свою, дуры бабы, а вышло – мужикам нашим в гробы полечь, и не проводила я тебя даже, не попрощалась с тобой, вот выйду, Боренька, отсюда, цветов раздобуду, на могилу твою приду, тогда попрощаемся, а ты Генку за меня попроси, ничего я к нему плохого не имела, так уж получилось, ты добрый, Боренька, поймешь меня, дуру невообразимую, семью нашу вконец искромсала, как-то сейчас наш Колюшка с бабкой мается, а она расхворалась совсем, куда ей трое внуков...
Ох, Надька, Надька, курва хренова, ну какие черти тебя на ужас этот пихнули, и сейчас-то норов свой собачий смирить не можешь, всем поперек, наказание лишнее терпишь, а лаешься, характер свой поганый всем под нос суешь – шпонкой тебя ущемили, пайку отобрали, по шее врезали, так ведь муть все это, Надька, главное-то своими руками испохабили и угробили.
Все угробили, и прощения не будет, выйду я почти через шесть лет, статейка-то звонкая – от звоночка до звоночка отсиживать, сколько ж похабели тут на меня налипнет, да хрен с ней, с похабелью, времечко отмыло бы, но куда выйду-то, кого другого – семья ждет, а меня кто ждать будет, детки наши, Надька, дуреха горькая, и знать нас не желают, а потом – тем паче, стыдиться станут, наляпаемся мы пятнами черными на их биографии: где твой отец, спросит твою Люську жених: а она: отравлен матерью; а где мать, спросит невеста моего Колюшку: в тюрьме отбывает за отравление отца моего, ответит Колюшка и сдохнуть мне пожелает; нет, конечно, врать будут, сказки придумывать про летчика-испытателя и про мать, которая не выдержала его геройской гибели и от разрыва сердца скончалась, или другую сказку придумают и будут зубами за нее хвататься, даже поверят в нее, а появишься – посмотрят, как на выходца с того света, лишнего человека, который явился – мало семьи, – чтобы и сказку тоже разрушить, гнать станут поганой метлой, и вообще, сбегут они подальше отсюда, от людского злого языка, сбегут и адреса не оставят, не доищешься – вроде и деток никогда не было, а баба Настя плоха совсем, еле ходит, годик какой протянет, может, два, и упорхнет ее добрая душа, хоть внуки проводят – не одиноко помрет.
Не пойму вот – простила она или нет, неужели простила?
Не хочет разговаривать об этом, а внуки у нее вечно заняты, то да се, а попросту – видеть они нас не могут, Надька, такое дело – старую шлюху Купревну и то дети навещают, а нас не желают, и не увидим мы их никогда, эта факт.
Холодно, нету Бореньки, не появится – как ни зови, хоть бы одеяло ватное, пусть год-другой сроку накинут, один хрен, выходить-то все равно некуда, вот только к Бореньке съездить, прощения у него по-настоящему попросить, Колюшку издали увидеть, издали, чтоб не помешать ему в новой его жизни – и всех делов-то, других и нет, потому и выходить-спешить некуда мне, за одеяло, ей-богу, пару лишних лет приняла бы, глазом не моргнула, теплота была бы и мягкота сплошная.
Охоньки, спать надо.
Может, приснится что похожее.
Хоть бы приснилось...
X
Осень-то опять ладная.
Теплехонько.
Посижу какую минутку на скамеечке, Коленьку подожду, вот уже из школы бежать должен.
Совсем развалюхой стала, дай Бог хоть зиму перезимовать, изнутри нечто долбит, наружу просится, и ходить – ногам невмоготу.
И как косточки мои старые терпят, хрустят, а терпят...
Девки чего-й-то с Коленькой загрызаться стали, что ни день загрызаются, и меня слушать совсем не хотят, Люсенька взрослая уже, кавалера завела, домой поздно приходит, Надькин у ней характер, чисто Надькин, горластая, а Наташенька – невесть в кого, сама не жмотничает, но за сестру держится, та ей деньжонок рупь-другой подбрасывает, скоро и Наташенька на работу пойдет, полегче нам, только с мальцом беда – как его-то одного оставить, не опора ему девки, не опора, да и я уже скопытилась, вот-вот с работы погонят, руки тряпку-то выжать не могут, спасибо Коленьке – помогает когда, а девки стесняются, думают – зазорно возле бабки старой крутиться, все из дому убежать норовят.
Ведь недавно ж резвая была, смотришь – и бутылочек соберешь, а теперь – куда там, ведра с водой не поднять, грехи тяжкие, за что это Господь покарал-то, за что?
Уж лучше было бы мне одной того холодца съесть, и мучений таких не выпало бы – поплакали бы надо мной, денежки поделили, может, и памятничек какой на могилку поставили, вышло бы все куда как к лучшему, жили бы детки и внуки, бабку изредка добрым словом поминали, а дочки с годами казниться стали бы, но я уж за них замолила на том свете.
Съела бы того холодца поганого и покоилась вместо хлопот, а то три внука в мои-то годы – за всех трясусь, а трястись-то нечему, рухлядь и есть рухлядь.
И деньжата вчистую слизаны, как ударил Господь по жизни нашей, так и пошло – зятьев похоронила, полторы тыщи на похороны-памятники утекло, и то ж глупость получилась, потому на памятниках каждому надпись заказала "вечная память от жены и деток", так Генкина родня скандал учинила, брат его в милицию даже попал, хотел Генкин памятник порушить, не понимают баламуты, что девки-то мои ничего против мужей не умышляли, любили их, смотрели, как могли, обхаживали, хорошие они жены были, нечего зря пинать, а что против меня, старухи, затеяли, пусть их бог судит, я им не судья, а уж родня мужнина и подавно.
Тоже мне родня называется – хоть к детишкам подошли бы, приласкали когда, гостинчику принесли, к себе зазвали на обед-ужин, хоть спросили бы меня, старую, каково сладко мне с тремя-то внуками приходится, а внуки совсем не виноваты, что отцов-матерей потеряли, ох, родня-родня...
Опять на следующей неделе к дочкам ехать, змеюки они, понятно, а все ж жалко, маются там в неволе, ни деток, ни мужиков, харч казенный – горький, а детки-то и ухом не ведут, хоть бы пару слов написали, так нет – знать не хотим, ведать не желаем, простить не умеют за отцов своих.
Знала б я, как дело повернется, на себя всю вину взяла, что со старухой-то сделаешь, сказала бы: по злобе зятьев потравила, простите дуру окаянную; в тюрьму бы, конечно, пошла, так доченьки не оставили бы, сподручней им по очереди было бы передачки возить, да и померла бы вскоре, все едино долго не протяну, зато детки при матерях – другой спрос, как-никак легче росли бы...
Эх-хэ, если бы да кабы, ведь тот милиционер в гражданском никаким вракам не поверит – там яд некий страшный был, где купила да почем, может, запираться стала бы, только пользы мало, ловкий он больно, с подходом, запутал бы меня, темноту древнюю, вон и Надька на суде на него наговаривать пошла, извернуться хотела, а пшик получился, потому что правда она на свет вылезет, куда не сунь ее, горемычную, в одну щель засунешь, из другой вылезет.
Людям в глаза теперь смотреть стыдно, и прошло уж два годика с половинкою, почитай, три уже с той осени, а все стыдно, которые поумней те ласково, а которые поверх души глазенками шныряют, те норовят уколоть побольней, то внучатами с подковыркой поинтересуются – не безобразничают ли без отцовского присмотра, то про дочек всякую пакость спрашивают, тошно с такими умниками, кому я что плохого сделала – работала всю жизнь, не разгибаясь, копейку добывала, дочек подняла, теперь вот внуков тяну, как могу.
Только дочки нелюдские такие вышли, где ж такое видано, чтоб на родную мать отраву насылали за рубли паршивые, для них же и для внуков старалась, а они дождаться моей кончины не хотели – вот и наказал господь, да как наказал-то, подумать страшно, волосы дыбом встают, жадюги получились, но и то правда, что от меня они не много премудрости видели – одна работа с утречка, другая с вечера, и разговоров-то всех – что купить, да почем продать, еда, одежда, дрова, да чтоб в люди выйти, да платили чтоб хорошо, чтоб хату обставили всем, как у людей, чтоб все, как у людей, а у каких людей-то, люди-то разные, и копейка к ним по-разному идет, к одним прямо так и валит одна к одной, а к другим – мимо да мимо, только нельзя ж вслед за каждой копейкой дорожку свою кривить, а дочушек-то некогда было обучать этой премудрости, кто сам понятие заимеет – хорошо, а у них не пришло такого понятия, а может, надо было успеть и рассказать – бутылочек не добрала бы малость, зато не вышло бы конца прижизненного, копеечка живая нужна, да, живая, а вот дочушки теперь вроде мертвые...
Эх-хэ, хоть бы зиму перезимовать, Коленька еще чуток подрастет.
И как косточки мои старые терпят, хрустят, а терпят...
Надо у Сергеевны пятерку одолжить, на передачку последние пятнадцать рубликов затратились, теперь на дорогу набрать надо, билетик на поезд купить.
Осень-то какая знаменитая, совсем, как та, совсем...
XI
Зануда эта Зинаида, каракатица.
Ну, заехал Саньке в морду, чего приставать: за что, почему?
Надо – вот почему, ему-то чего плохого моя мамка сделала, дразнить вздумал, так и в морду получил, и все тут.
Если Зинаида еще раз Люську в школу вызовет – сбегу, совсем сбегу, нельзя с Люськой дел иметь, дешевка она, только и давит – вроде моя виновата, а ее – не тронь, святая прямо, так не дали бы ей в суде на два года больше, не дали бы, а Люська тогда злится, краснеет, как помидор, и обязательно пакость какую-нибудь придумывает, пуговицы на штанах пообрезает – утром хвать, и в школу опоздал, или тетрадку во что-нибудь вонючее умакнет, еще и в ботинок пописать догадалась, унитаза ей, психичке дурной, мало – настоящая психичка, недаром три года назад, когда это случилось, в больнице лежала с вывихом мозгов, хоть и говорит, что теперь здоровая, а все равно с вывихом, пристает все время – скажи ей, что ее мамаша не виновата, а моя виновата, скажи и все, скажешь – целую трешку дать может, и давала, только противно, вроде что-то свое стыдное из-под полы продаешь, за мамку-то некому заступиться, стерва она, конечно, это Люська точно говорит, но и тетя Надя – стерва, да и побольше еще, нечего тут врать, только Люське правда до фонаря, ей так подай, чтоб она довольна осталась – это и будет правдой.
И Наташка на ее стороне, она Наташке рубль сунет, тогда вдвоем в меня вцепятся, спасения никакого, но и бабушка говорит: нельзя за каждым рублем себя ломать; а Наташка потом на этот гадкий рубль меня же мороженым угощает или в кино зовет – пойми девчонок.
После случая с ботинком пришлось пригрозить Люське, что все-все Ибрагиму расскажу, он парень хороший, жалко, что уедет, когда отслужит здесь, а сначала хочет на Люське жениться, дурак, конечно, я лучше бы руку отрезать дал, чем на Люське жениться, съест она его, и про наших родителей Ибрагим ничего не знает, Люська врет ему, что погибли они в автомобильной катастрофе на собственной машине, хочет показать, что жили не хуже, чем на юге живут, а Ибрагиму эта выдумка страшно нравится, и любит он повторять: родителей я тебе не верну, говорит, а вот машину, как только из армии приеду и про невесту скажу, отец сразу подарит, будет у нас своя машина.
Люська тогда разревелась, как маленькая: Колюсенька, хлюпает, родненький, не надо говорить, может, жизнь моя в нем, перепортишь ты все: жалко мне ее стало, и вообще, всех мне жалко, даже Саньку, хотя в морду я ему правильно дал.
Сбежать бы куда подальше, в Сибирь на стройку, а лучше на корабле поплавать, только не возьмут, мал еще, скажут, не посмотрят, что по росту здоровый лоб, да и как сбежишь – бабушка совсем разболелась, часто говорит: ради тебя, Коленька, тяну еще; а тогда бабушка сразу умерла бы, тяжко ей, Люська и Наташка ничего не понимают, думают с бабушкой спорить можно, как с молодой, а у нее сердце больное, чего с ней спорить, она ведь нас в детдом не отдала, к себе взяла, и Люська и Наташка живут при ней как за пазухой, а лаются чуть не каждый вечер: как же ты дочек воспитала, кричат, если они убийцами получились, смотри, нас так не воспитай, мы тебе не позволим так воспитывать...
Да разве бабушка кого-нибудь воспитывает, она не вредная, не ругается, только плачет; если что не так сделаешь или Люська поздно загуляется, или кричать они на нее начинают – тогда я готов глаза им повыкалывать, над бабушкой-то зачем издеваться, ничего, вот кончу восемь классов, уведу от них бабушку, сам работать буду, а ей не разрешу, и к мамке тогда поеду, чтоб бабушке спокойней было, страшно, правда, еще разревусь, как девчонка, вспомню, как мы с папой в кино ходили, хорошо было, и папа рисовать учил, до сих пор лучше всех в школе рисую, когда работать пойду, сам учиться буду, красок накуплю, кистей, а папин мольберт еще долго выдержит, только ножку приклеить надо, тогда я осень рисовать буду, скверик нарисую и большой-пребольшой желтый лист посреди дорожки, папа говорил, что в картине надо обязательно что-нибудь главное найти, главный образ того, о чем хочешь сказать, вот я и напишу большущий желтый лист и небо такое, как сейчас, хоть ныряй в него, напишу сентябрь, а потом попробую бабушкин портрет сделать, руки ее рисовать трудно, карандаш вязнет, главного в них поймать не может, ну ничего, подучусь и нарисую, обязательно бабушку нарисую.
XII
Теплый сентябрь.
Пронзительное сентябрьское небо.
Слегка подкрашенный сентябрем скверик.
По скверику идет мальчик с потрепанной сумкой.
Мальчик думает о портрете, который он непременно должен сделать.
Он сворачивает налево, перебегает улицу, входит во двор.
Со скамейки навстречу ему подымается старушка.
Мальчик улыбается, старушка тоже.
Они рады друг другу.
И солнцу.
Минск, 1979