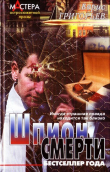Текст книги "Шпион и разведчик - Инструменты философии"
Автор книги: Александр Секацкий
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
* Подобным же образом определяется понятие "вещи-в-себе" у Канта: мы знаем, что за явлением стоит нечто, но не можем сказать, что именно. Гегель попытался отменить "вещь в себе" за "ненадобностью", но фактически лишь удалил ее из сферы самоотчета. Дело в том, что вердикт о сосуществовании выносится не интенцией чистого разума и не законодательством практического разума, а "отдельной способностью души".
Надо тем не менее сказать, что исходы из заброшенности всегда образуют некое поле возможностей. Рассмотрим еще одну типичную конфигурацию: приключения шпиона, вторая серия. Перед нами вновь "юноша, обдумывающий житье". Реализуя "обыкновенное шпионское", он решает внедриться "к ним" – в какую-нибудь религиозную общину, секту, политическую партию, – словом, в некую компактную подсистему "их" лицемерного мира. Целью внедрения является абстрактное продвижение наверх – вообще, дальность броска представляет собой самодостаточную ценность во всякой заброшенности. Лазутчик имеет весь набор соответствующих преимуществ – имитируя внешние "правила игры", он не тратит времени на обживание внутреннего. Ценностная проблематика сообщества предстает перед ним в форме тригонометрической задачи, которую он/она решает с помощью встроенного интригометра, своеобразной логарифмической линейки, входящей в устройство штирлица и, особенно, матахари.
Неудивительно, что недавний выпускник разведшколы внутренней философии (где главная дисциплина – как быть самому-себе-хитрым) получает преимущество в скорости иерархического продвижения. И можно себе представить реверберации штирлица, когда интригометр не подводит! Открываются нужные двери, отстраняются ненужные люди – агент трепещет от кульминаций штирлица, по сравнению с которыми сексуальный оргазм просто буря в стакане воды, – это тем более относится к растянутой во времени кульминации матахари, типа салона госпожи де Севинье (или госпожи де Вердюрен, если обратиться к Прусту).
Однако наш шпион наивен и девственно чист – хотя бы потому, что не знает, в чем состоит главная трудность, которую невозможно ни рассчитать, ни даже предусмотреть с помощью интригометра. Дело в том, что в своем карьерном движении вверх, проходя через слои верных, агент нарушает технику безопасности при обращении с групповыми ценностями. Чужие убеждения, если они в течение какого-то времени высказываются от первого лица, начинают проявлять радиоактивные свойства – происходит процесс их спонтанного деления, и ничего не подозревающий носитель начинает против воли разделять их. Как раз отсюда шпион не ждет подвоха, ибо он не учитывает риск "утечки вовнутрь" и самопроизвольного отравления принципами, первоначально принятыми в качестве формальных правил игры. Сколько верных адептов, надеясь половить рыбку в мутной воде, сами попались на крючок!*
* Неудача миссии точно так же вытесняется в подсознание, как и "любовные неудачи" и другие травматические факторы. Шпион, совершивший фактическую явку с повинной, может пребывать в полной уверенности, что у него и не было никаких диверсионных измерений – подобно тому, как пациент психоаналитика пребывает в неведении относительно своих инцестуозных влечений.
Альтернативный исход из заброшенности связан с уже знакомой нам фигурой Супершпиона, которому удалось сохранить всю полноту беспринципности, необходимую для прорыва на самый верх. Сверхобманщик избегает замедления, поскольку его штирлиц справляется с помехами, интригометр работает на полную мощность и ежедневно соблюдается завет Талейрана: "Бойтесь первых порывов души, они могут быть искренними".
Супершпион в экзистенциальном смысле – это тот, кто проходит в святая святых, ни разу не провзаимодействовав с благодатью. И, поскольку рядовой агент справиться с такой задачей явно не в состоянии, понятно, что именно из числа сверхобманщиков формируются высшие эшелоны власти – во всяком случае, в компактных подсистемах Weltlauf. История только христианских религиозных сект полна подтверждениями преимуществ двойной игры. Ересь катаров, распространившаяся в конце XIII века на юге Франции, может служить характерным примером. Катары отличались исключительной радикальностью в соблюдении христианских заповедей, стремясь восстановить "чистоту первоначальной веры". Даже простые крестьяне, примыкавшие к секте, соблюдали обет безбрачия, не говоря уже о строгости постов. Что же касается духовных вождей движения, так называемых "parfais" ("совершенных"), то они, как водится, только руководствовали истиной других, но отнюдь не руководствовались ею сами. Карая рядовых верующих за малейшие послабления, лидеры буквально купались в разврате. Так, во время следствия выяснилось, что один из кюре, принадлежавший к числу parfais, имел целый гарем наложниц*.
* См. сводку данных в работе Ю. Л. Бессмертного "К изучению матримониального поведения во Франции XII-XIII ее." (альманах "Одиссей". 1989. С. 98-114).
Естественно, катары не являются исключением, как не являются исключением секты – достаточно вспомнить череду непогрешимых монстров, сменявшихся на папском престоле, – подобные экземпляры нечасто встречаются даже в уголовном мире. Об истории политических партий говорить излишне. Шеф гестапо Мюллер как-то сказал Штирлицу, своему коллеге по шпионскому делу: "Никому верить нельзя. Даже себе". И помолчав, добавил: "Мне – можно".
Нам тем не менее следует исходить из факта, что мир до сих пор не обрушился. Это значит, что экзистенциальные спецслужбы каким-то образом справляются и с двойными агентами, и с супершпионами. Каким же?
Во-первых, даже среди шпионов по профессии двойных агентов не так уж много – они представляют в основном "гильдию мастеров", вписанных золотыми буквами в историю разведок. Во-вторых, что касается собственно экзистенциальных супершпионов, то они выполняют исключительно важную функцию "контролеров ОТК" – проверяют на прочность устои общества. Сверхобманщики прочесывают горизонты социальности, разрушая все, что может быть разрушено, и оставляя после себя лишь воистину незыблемые установления. Они – санитары общества.
Вспомним: за исторически сопоставимый период времени римская курия и духовные вожди катаров насчитывали в своих рядах примерно равное количество "подонков". Однако католическая церковь, в отличие от катаров, существует и по сей день, она прошла и выдержала испытание сверхобманщиком. По-видимому, свой "Хаким-под-покрывалом" должен появиться в каждом союзе верных, и, покуда этого не произошло, говорить о подлинной жизнеспособности рано.
Наконец, роль двойного агента крайне важна для создания общей ауры гиперподозрительности, атмосферы крайне необходимой для принятия решения о заброске в мир. Пронизывающее лицемерие улавливается встроенным детектором лжи, и срабатывает импульс третьего рождения*: пробуждается штирлиц (матахари) как самостоятельная инстанция психики – Dasein начинает внедряться и конспирироваться, а не груши околачивать. Суммарная энергетика мира возрастает. Так, в хасидской космологии мир создается путем сжатия (контрактации) – "цимцум" и "разбиения сосудов": первичная аскеза Бога ограничивает самодостаточность и дает место активности.
* М. К. Мамардашвили в свое время заметил, что эпитет "дваждырожденный" относится не только к брахману, но и к каждому человеку, поскольку он человек. Под вторым рождением имеется в виду выбор духовного отечества. Но для подлинности первого лица необходимо еще и третье рождение – акт заброшенности в мир. Если нет во мне шпиона, то нет и меня. Поэтому картезианская экспликация самодостоверности – cogito, ergo sum принципиально предназначена для других, она не может быть внутренним рефреном. Первичные позывные Я (внутреннее самоозвучивание) гораздо точнее сформулированы в песне колобка:
Я от бабушки ушел,
Я от дедушки ушел,
От тебя, лицемерный мир,
и подавно уйду.
5. Краткая феноменология шпионажа
Источники, свидетельствующие о наличии разведывательной миссии у каждого посланца, разнообразны: феноменология шпионажа простирается от теории познания до высших этажей чувственности и структур обыденной жизни. Многие вещи в этом мире останутся необъясненными и даже неопознанными, если мы не обратимся к функциям штирлица и матахари. Мишель Фуко, указав на родство опыта в широком смысле и практики пыток, был, безусловно, прав* (достаточно вдуматься в значение русского слова "пытливость"), но он, так сказать, начал с конца, с интерпретации дознания как специфического приема контрразведки. Между тем очная ставка с природой, вызванной в лабораторию, возможна лишь как результат предшествующих усилий по выведыванию тайн и сбору улик. Назвав свою книгу "Надзирать и наказывать", Фуко оставляет лакуну для подразумеваемого первого тома, который можно было бы озаглавить "Шпионить и выслеживать".
* Foucault M. Surveiller et punir. P., Seul, 1975.
Почему сладчайшее имеет форму тайны, независимо от того, идет ли речь о тайне природы или о тайном наслаждении? Почему истина есть нечто принципиально потаенное и сокровенное, и даже "несокрытость" истины, провозглашенная Хайдеггером, при ближайшем рассмотрении оказывается особой, наиболее изощренной формой сокрытости, своеобразной "светомаскировкой". Шпион (допустим, агент познания) повсюду находит следы камуфляжа. Иногда он обнаруживает умело расставленные ловушки, а иногда обнаруживает себя уже в такой ловушке и тогда понимает, что передавал в Центр дезинформацию, попавшись на видимость (на блесну) и не распознав сущность (невидимое). Стойкий интерес к детективу объясняется просто – в нем на конкретном, хорошо очерченном примере воспроизводится всеобщий опыт бытия. В самом деле сыщиков в мире едва ли больше, чем сварщиков, но детали работы сварщика никого не интересуют, тогда как тайны профессиональной деятельности сыщика способны удерживать наше внимание часами; более того, структура обладает такой принудительностью, что от нее "невозможно оторваться", пока не выяснится, "кто шпион". Опыт сыщика и шпиона, мягко говоря, оказывается ближе к телу, чем опыт сварщика, – по степени достоверности он вполне сопоставим с опытом любящего и возлюбленного. Любопытно, что интерес к предмету не уменьшается, даже если мы осознаем, что мы все заброшены в мир со своей миссией и легендой (разумеется, подобная мысль приходила в голову не только Хайдеггеру) – все равно душа наша трепещет, когда шпиона называют по имени и предъявляют улики, – такой же резонанс возникает и когда разведчик обводит всех вокруг пальца – ибо у нас есть орган для отреагирования и того и другого исхода как сладчайшего; в экзистенциальном шпионаже каждый сам себе и разведчик, и контрразведчик – четные и нечетные состояния чередуются – в пульсации штирлица.
Подробная феноменология шпионажа как пребывания в мире пока еще дело будущего, сейчас достаточно указать на отдельные узловые моменты. Вот музыкальная шкатулка с секретом – она доставляет специфическое удовольствие своему обладателю, если устройство механизма неведомо другим – мы имеем дело с простой, атомарной манифестацией штирлица, с наслаждением их невинным неведением... В современном "научном мире" такие простейшие выплески проявляются в основном в мистификации детей: ребенок радуется Деду Морозу, неожиданному подарку под елкой, а родители радуются, что манипуляции скрытой пружинки создают такую прекрасную видимость. Другим примером элементарной конспиративной эмоции может служить кредо Владимира Юмангулова: "Тайком выпьешь грамм сто коньячка и занимаешься своими делами. Главное – никто даже не подозревает; все кругом ходят трезвые, как идиоты, и думают, что ты один из них". Впрочем, ввиду крайней популярности подобной конспиративной эмоции (особенно в среде актеров, преподавателей и вообще "учителей жизни" всех мастей) не исключено, что некоторые из этих "ничего не подозревающих окружающих" к числу трезвых идиотов причисляют тебя.
Вообще говоря, полюс "утаивания от всех" и полюс "персонального выведывания" резонируют эмоцией равной мощности; эту эталонную величину можно отсчитывать как один хитрован по шкале штирлица. Экзистенциальный шпионаж проходит через аттракторы в несколько таких единиц, а в случае двойной и тройной игры интригометр способен развивать мощность в десятки и даже сотни хитрованов. Эрос в чистом виде никогда не может породить заряд подобной мощности, поэтому контроль за предельной мотивацией поведения всегда остается у штирлица и матахари (чем более длительные промежутки времени мы рассматриваем, тем более это верно).
Как бы ни был человек охоч до зрелищ, организованное шоу остается лишь эрзацем сладчайшего. Именно к подглядыванию человек испытывает страсть, а к зрелищу только склонность. Определение Бога-Перводвигателя, данное Аристотелем – "тот, кто движет, оставаясь неподвижным", – подвергается корректировке со стороны Dasein. Для агента, заброшенного в мир, Бог есть тот, кто видит, оставаясь невидимым. Неоднократно обращавшийся к этому вопросу Фуко в одной из последних работ формулирует его следующим образом: "Позволю себе указать на общую и тактическую причину, представляющуюся мне самоочевидной: власть выносима только в том случае, если она маскирует существенную часть своей субстанции... Ее успех пропорционален способности скрывать свой собственный механизм"*. Важно, однако, не то, в какой мере власть выносима, а в какой мере она действительно представляет собой сладчайшее.
* Foucault M. Tlie Historv of Sexuality. Vol. 1. N.Y., 1978. P. 86.
Открытая экспозиция своего места в иерархии может, конечно, служить мотивом к обладанию властью, но в чистом беспримесном виде такой мотив занимает среди движущих сил Weltlauf достаточно скромное место. Позиционная составляющая власти предполагает полное безразличие к конкретной личности. Кем бы ни оказался случайный наполнитель ячейки, ему перепадет положенная порция фимиама, поскольку она изначально адресована не имени собственному, а соответствующему топосу, некоему месту в системе мест. Желанность именно первого места объясняется, прежде всего, дальностью броска как самодостаточной ценностью во всякой заброшенности, однако величина этого показания, измеренного в хитрованах, не слишком значительна. Можно вспомнить вылазки, периодически совершаемые из позиционной системы, – от Нерона до Петра I, но еще характернее многочисленные анекдоты, приписывающие властителям подобные вылазки. Рассказчики этих анекдотов, стремясь передать наслаждение властью, безошибочно связывают его с реакцией штирлица как совершенно необходимого резонатора для экстаза высшей пробы. Только периодическая миграция из позиционной обозримости в гущу Weltlauf позволяет сохранять свежесть присутствия во власти, подставлять под восходящие струи воскурений не мертвую раковину (место в системе мест), а живое внутреннее.
Аналогичным образом дело обстоит и с эротическим наслаждением. Физиологический порог насыщения достигается здесь довольно быстро, и дальнейшая прогрессия сладчайшего связана уже с задействованием шпионских струнок, с подглядыванием и подслушиванием, с монопольным знанием тайных пружинок. Наблюдатель пребывает в экстазе, пока его НП не запеленгован и не отслежен, тогда штирлиц и эрос заходятся в резонансе, измеряемом уже десятками хитрованов. Фрейд, считавший вуайеризм частной разновидностью фетишизма, проглядел здесь саму суть дела, прекрасно известную, например, создателям порноиндустрии, которые всегда вводят фигуру наблюдателя для усиления эффекта (хотя, конечно, сама форма зрелища не позволяет по-настоящему задействовать любопытство Dasein).
Ближе всего к истине подошел Жак Лакан: "Зрелище мира в этом смысле оказывается всевидением. Фантазия находит подтверждение в перспективе абсолютного бытия Платона, которое трансформируется во все-видимость, видимость отовсюду. На предельном горизонте опыта созерцания мы находим этот аспект все-видения в самоудовлетворении женщины, которая знает, что на нее смотрят, при условии, что смотрящий не знает, что она знает, или не показывает этого.
Мир во всевидимости, но не в эксгибиционизме – вот абсолютная приманка для взора (gaze)"*.
* Lacan Jacques. The Four Foundamental Concepts of Psycho-Analysis. N.Y., 1978. P. 75.
Лакан, очевидно, прав в том, что максимум резонансного (шпионско-эротического) возбуждения можно отложить именно по шкале матахари, причем лишь в том случае, если речь идет, как минимум, о двойной игре – что как раз и имеет место в описываемом им случае. Важно также отметить, что очертания мира, открывающиеся подглядывающему, нессобщаемы напрямую. Трансляция подсмотренного непременно оказывается уже неким "шоу", зрелищем само "чувство первооткрывателя" передаче не подлежит, его может провоцировать только супершпион в обход прямой визуализации (явленности).
Переизбыток зрелищных форм характерен для наиболее примитивной организации Weltlauf, когда "глазение" и "праздношатание" Dasein отвлекает агента от всматривания и подглядывания, т.е. от углубленной сущностной работы, и оптическая пелена застилает онтологический горизонт. "Пуританская Америка, где религия – это грандиозное представление, шоу Иисуса, основанное на спецэффектах, является, несмотря на всю свою технологию, последним оставшимся примитивным обществом. Социальность здесь исчислима"*. Наблюдение Бодрийара свидетельствует, конечно, об упущениях в работе спецслужб, однако эти "упущения" создают специфическую атмосферу, в известном смысле уравнивающую рядового агента и Супершпиона, – Америка предстает как грандиозная разведшкола низшей ступени, которую благополучно заканчивают и агенты с недоразвитым штирлицем.
Baudrillard J. America. L.-N.Y., 1988. P. 9.
Перейдем теперь к гносеологическому измерению субъекта, где шпионские аксессуары играют не меньшую роль, чем в эротическом или "властном" измерении. "Тайное знание" притягивает агента, независимо от того, что является его предметом – скрытое наслаждение женщины, механизм музыкальной шкатулки или скрытые движущие силы "высокой политики". Ученый, подсматривающий в микроскоп за амебой, и вуайер, часами следящий за освещенными окнами, занимаются хотя и разной деятельностью, но сходящейся к одной и той же точке; у любопытства оказывается общий привод – штирлиц, непрерывно генерирующий свои импульсы. Структура "тайного знания" есть гносеологическая конструкция, аттрактор для познающих, приманивающий их еще до всякого содержания. Организация знания по рангам доступа (уровням посвященности) на протяжении веков была единственно возможной формой консолидации знания, прочным сосудом для хранения самовозрастающего логоса ибо только такая структура могла мобилизовать Sprung заброшенности, самую мощную мотивацию человеческой деятельности.
Тайные организации познающих периодически возникают и по сей день как шпионские явки в чистом виде; их устойчивость и притягательность обеспечивается законспирированностью, ограничением доступа для чужих, специальным паролем (использованием "языка посвященных", т.е. попросту жаргона, имитирующего отсутствующий язык Далекой Родины). Инкорпорация неофита осуществляется путем завербовывания, где решающая процедура состоит в оказании особого доверия и даже в приоткрывании горизонта тайны. Возникая на "ровном месте", подобные организации прежде всего изменяют рельеф – от "ровного места" не остается и следа; формируется ландшафт из проломов и трещин, где легко может укрыться шпион, – это и есть, собственно, горизонт человеческого, обладающий достаточной мерностью для "здесь бытия". История полна примеров таких объединений, которые являются чистыми манифестациями штирлица, при этом спектр целей может варьировать от чисто познавательных (получение эзотерического знания) до планетарных и мироопрокидывающих.
Диссидент Владимир Буковский описывает в своих мемуарах некий типичный образец эфемерного "общества", существовавшего лишь в силу соответствия шпионологическим критериям, т.е. на ровном месте:
" – Общество, – говорил он своим тихим бесцветным голосом, – это как организм: у него тоже должны быть мускулы, грубая сила, но должны быть и нервы и мозг, должны быть глаза и уши.
Он аккуратно намекал, что мы с ним относимся к мозгу, а мне полагалось ощущать трепет, восторг и благодарность, оттого что я причислялся к избранным. Он умел быть настойчивым, убедительным и ни разу не нарушил того стиля таинственной двусмысленности, который царил у нас в организации. От любого прямого вопроса он умел уйти весьма ловко, постоянно оставляя тебя в неясности относительно истинного значения своих слов. Поражало, что всех нас он знает на память, со всеми нашими особенностями, достоинствами и недостатками, но знает как-то внешне, не чувствуя. Вряд ли он понимал, что оказался абсолютным властелином нескольких десятков смертников. И наши устремления интересовали его постольку, поскольку помогали управлять. Мне казалось, что ничего, кроме личной власти, его не интересует"*.
* Буковский В. И возвращается ветер. М., 1990. С. 91-92. Буковский, минуя "первую истину" экзистенциального шпионажа (о том, что каждый есть шпион, заброшенный в мир), совершенно определенно усматривает "вторую истину": "Получалась какая-то нелепость – наше членство в подпольной организации делало нас совершенно безопасными для властей. Так, глубоко законспирировавшись и для камуфляжа вступив, например, в партию, человек может преспокойно всю жизнь прожить. Работать, ходить на партийные собрания и, практически, поддерживать эту власть. Для пущей конспирации можно даже в КГБ поступить на службу!" (Там же, с. 93). Иными словами, парадокс шпиона не укрылся от внимания опытного диссидента.
Можно, конечно, сказать, что ребятам попался неважнецкий резидент, не умеющий по-настоящему обращаться с паролем, использовать заложенную в нем творческую мощь: "Истинное и аутентичное слово (Parole) откровения есть слово, творящее из ничего, из своей собственной произнесенности, – тем самым оно открывает свою пустоту"*.
* Lacan J. Ecrits: A Selection. N.Y. 1977. P. 61/271.
Теперь самое время обратить внимание на принципиальные различия между двумя формами творческой активированности слова – приказом и паролем. Самостоятельная сила приказа как слова возможна лишь в том случае, когда он, так или иначе, снабжен паролем; или приказ не самостоятелен, а представляет собой простое словесное оформление экстравербальной силы, например системы принуждения. Пароль есть вообще универсальный адаптер влияния, его сверхпроводник, используемый как микродобавка к любой действенной инструкции. Но еще важнее топологические различия между повелевающими инстанциями, которые уже заложены к моменту заброски в мир. Одна из них, инстанция Сверх-Я, подробно описана Фрейдом. По большей части она и в самом деле воплощает авторитет Отца, но для нас важно, что инструкции Сверх-Я записаны субъектом, уже испытавшим вторую истину экзистенциального шпионажа: в содержании записи мы находим "размышления шпиона перед явкой с повинной" и даже предупреждения контрразведки. Привод Сверх-Я, опирающийся на совесть, страх и вообще "бдительность", влечет к дознавательно-следственной деятельности. Действие этого передатчика резко усиливается на излете заброшенности по мере угасания первоначального импульса.
Владеющего передатчиком Сверх-Я, умеющего включать его на полную мощность, мы обычно именуем харизматическим лидером. Он призывает к послушанию и подчинению, и Dasein повинуется, распознавая персональный оклик, предуказанную частоту радиовещания. И все же эхо приказа указывает на дистанцию удаления; упорствующий в шпионстве легко может скрыться от харизматического лидера, приняв, например, более строгие меры конспирации и по-прежнему оставаясь самому себе хитрым.
Совсем иначе обстоит дело, когда на связь выходит другая повелевающая инстанция, ласково выговаривающая слова пароля – вплоть до воспроизводства неповторимой интонации. Тогда Dasein слышит так называемый "мама-язык", и это слушание Хайдеггер определяет как "первичную и настоящую в собственном смысле открытость Dasein для своего наиглубочайше-личного можествования, как слушание голоса друга, которого всегда носит с собой любое Dasein. Dasein слушает, потому что понимает... и как понимающее бытие в мире пребывает вместе с другими и... в этой послушности принадлежит к ним"*.
* Хайдеггер. Бытие и время. 34// Работы и размышления разных лет. М., 1993. С. 26. Перевод А. В. Михайлова незначительно модифицирован.
Владеющий мама-языком Другой (насколько это возможно) по аналогии может быть назван матахаризматическим лидером. Слова мама-языка не создают эхо-эффекта дистанции, они вообще не поддаются представлению в виде внешней инструкции. Эти позывные Далекой Родины встроены изнутри в форму желания, они транслируются исключительно на собственной частоте матахари, совпадая с биением пульса.
В отличие от рупора Сверх-Я матахаризматические повеления передаются негромко – в них приходится вслушиваться, добиваясь предварительного уединения души, отключения гула бытия: оглохшие от гула бытия уже не реагируют на тумблер громкости. Как говорит герой одного из рассказов Владимира Маконина, "барабанов они не слышат, пойте им тихо". Разведчики, окликая друг друга, попадают на заповедную частоту невзначай. Только Супершпиону доступна клавиатура матахари (даже Ubermensch Ницше тут бессилен) – но и среди них еще не родился тот, кто мог бы исполнить на ней что-нибудь, кроме "собачьего вальса". Мир еще ждет заброшенности такого посланца (мессии).
Впрочем, даже простейший аккорд, составленный из интонаций матахаризматического повеления, может быть достаточен для перевербовки. У бедного Dasein нет сил противостоять прямому включению, ибо он еще не знает третью истину заброшенности. В отличие от двойного агента, он полагает, что "хотя другие могут за меня думать, решать, даже бояться, но во всяком случае никто не может за меня хотеть". Двойного агента на этом не проведешь, ибо ему ведома третья истина заброшенности, которая гласит: "В этом мире нет вещей неподдельных, есть только вещи еще не подделанные".
Именно с провоцирования хотения другого и начинается настоящая работа интригометра, зона сладчайшего, топос, куда вновь сходятся драйвы эроса, логоса и воля к власти. Поскольку, например, у каждого из заброшенных есть резонатор поиска истины (обыкновенное шпионское), отождествление с "путем ученичества" дается легко – естественна идентификация с Карлосом, а не с Диком Хуаном; вообще интерес сосредоточен на фигуре, получающей просветление, а не на фигуре, дающей просветление ("кеншо").
Наставляемый на путь истины может поверить гуру, а может оказаться самому себе хитрым, в любом случае он остается по эту сторону чувственно-сверхчувственного барьера – его штирлицу порой просто не хватает шкалы для отмеривания экстаза, который омывает дом бытия Супершпиона. Путеводитель по пространству интриг возможен лишь в рамках более подробной феноменологии шпионажа; иногда ее блестящие фрагменты попадаются в писаниях французских моралистов XVII-XVIII вв. – Ларошфуко, Лабрюйера, Сен-Симона, Шамфора и др. Здесь достаточно привести слова одного из лучших агентов Воли-к-Произведению, Льва Толстого, имеющие прямое отношение к теме: "Худший человек – это тот, кто живет чужими мыслями и своими чувствами, а лучший тот, кто живет своими мыслями и чужими чувствами".
6. Шпион внутри шпиона, а в нем сидит шпион
Про агента Dasein нам известно, что ему всегда противостоит Другой. Начиная с Сартра, почти все заметные представители французской философии писали об этом, далеко не всегда, впрочем, достигая уровня проницательности Хайдеггера. Собственно, против Другого (или Других) и осуществляется шпионаж – и наоборот, спецслужбы СМЕРШ, выслеживающие шпиона (бедного шпиончика), – это глаза и уши коллективного Другого.
Увы, такая упрощенная схема не дает представления о глубинах шпионологического измерения бытия. Тот, кто противостоит Я (Dasein), в качестве Другого не слишком опасен – он не претендует на мое имя, на местоимение "я" в моей речи, для его обмана достаточно элементарной конспирации. Шаг в сторону – и мой голос сливается с голосами других, еще шаг в сторону – и я, оставляя свой автоответчик в хоре других, продолжаю свой диверсионный рейд в тылу врага. Утверждение Лакана, что мое желание определяется признанностью Другого, сильно смахивает на легенду, разыгранную агентом Dasein для представителей спецслужб, – но мы пока отложим рассмотрение этого вопроса, тем белее что оппозиция Я и Другого, гораздо более примитивная, чем пара сущность/явление (и тем более видимое/невидимое), на сегодняшний день исчерпала свои эвристические возможности и смертельно надоела.
Реальная опасность, подстерегающая Dasein, а именно угроза собственной аутентичности, состоит не в столкновении с Другим, а в проникновении семян Чужого, паразитарных микрофрагментов, не признающих суверенитета Я ни в качестве "господина", ни даже в качестве "раба", пытающихся оккупировать территорию Я, захватить имя собственное (мое собственное имя). "Чужой" – это не "Другой" хотя бы потому, что для него не существует статуса Другого, для него Dasein не отвечает на вопрос "кто?"
Откуда же заносится во "внутренний мир" семя Чужого, как око там оказывается? Послушаем размышления Фрейда, высказанные им, правда, по другому поводу. "Импульсивные желания, которые никогда не переступают через Оно, а также впечатления, которые благодаря вытеснению опустились в Оно, виртуально бессмертны – спустя десятилетия они ведут себя так же, как и в момент возникновения"*.
* Фрейд 3. Введение в психоанализ. Лекции. М., 1991. С. 346.
Фактически мы присутствуем при начале истории под названием "Происхождение шпиона", но только речь идет не о Dasein, засылаемом в мир с миссией осуществления своей подлинности, "здесь-бытия", а об опаснейшем враге, засылаемом навстречу, о Чужом, проникающем во внутренний мир. Паразиты Weltlauf (мы, многогрешные) в свою очередь поражены паразитами: "Признать в них прошлое, суметь обесценить их и лишить заряда энергии можно только в том случае, если путем аналитической работы они станут осознанными, и на этом в немалой степени основывается терапевтическое действие аналитического лечения"*.
* Там же.
Следовательно, семена Чужого (или вообще "чужие") – это виртуально-бессмертные обитатели подсознания, как изначально дислоцированные в нем, так и проникшие извне – "Опустившиеся в Оно", по словам Фрейда. Все они – производные времени, отпавшие от его естественного течения, некие хронохимеры. Их отличительная особенность в том, что они "не проходят", остаются "теми же самыми" и спустя десятилетия. Психоаналитик борется с ними, играя на понижение ("обесценить"), используя, например, такое оружие, как история болезни. Ведь "болезнь" такого рода боится истории: возникшее не проходит лишь в том случае, когда удается скрыть следы своего возникновения.