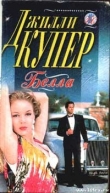Текст книги "Мама Белла"
Автор книги: Александр Попов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
Мужчина думает: "Тридцать седьмой год косил людей налево и направо. Валентин Вампилов, отец драматурга, был арестован и расстрелян. Сначала Валентина Никитича убьют, а после в казенной бумажке сообщат, что не по закону казнен. Вот так: плачь, не плачь, а дело сделано!"
Глаза юного Вампилова. Крупно, непременно крупно!
"Саша никогда не говорил об отце, разве что лишь с самыми близкими друзьями, – писал литератор Марк Сергеев. – Но жизнь нет-нет да и напоминала сыну незаконно погубленного человека об отце, жестоко и безжалостно. Не оттуда ли, не от этих ли переживаний в характере Александра Вампилова такая ранимость, такое беспощадное чувство справедливости и несправедливости?"
Музыка просветляется. Проходят фотографии матери, Саши, других детей семьи.
"Мать Вампилова, Анастасия Прокопьевна, была истинным другом своему сыну. Она вспоминала: "Саша родился в 1937 году. Это был год, когда исполнилось 100 лет со дня смерти Пушкина. И имя ему дали в честь великого поэта – Александр. В моей семье Саша был младшим и, разумеется, был любимцем своих братьев и сестер. Рос спокойным ребенком, очень любознательным. Еще в раннем детстве любил книги. И читали ему много бабушка и старшие дети. Был очень впечатлительным..."
В мелодию накатываются тревожные звуки, но в целом ее поток остается светлым.
Сцена, которую рабочие готовят к спектаклю. Потом – мальчик, похожий на Витьку – героя рассказа "Солнце в аистовом гнезде"; он широко открытыми глазами смотрит на сцену. Мелькают лица других детей.
"Однажды в Кутулике был выездной спектакль Иркутского драмтеатра, и рассказ молодого Вампилова "Солнце в аистовом гнезде" повествует о переживаниях маленького Витьки: его и других детей не пускают на спектакль и отправляют спать".
Непонятные действия, движения на сцене, все в синем свете, туманно, таинственно. Лицо мальчика, – его губы вздрогнули, рот приоткрылся.
"В половине одиннадцатого Витька сбежал со своей постели и через минуту занял место у окна, среди таких же, как он, готовых зареветь от любопытства зрителей. Витька прильнул к стене клуба. В зале было темно, а на сцене он увидел необыкновенный стог, необыкновенного человека, необыкновенное ружье. Человек вел себя необыкновенно. Все это было освещено необыкновенным ядовито-синим светом. И Витькино сердце запрыгало от предчувствия чуда".
Мужчина склонился над письменным столом, пишет, листает книгу. Барабанный, припускной шум вечного дождя.
"Обратите внимание, – восклицает Марк Сергеев, – на это слово "необыкновенный", которое в коротеньком отрывке звучит пять раз! И не кажется нам лишним! И ни у какого редактора не поднимется рука заменить его синонимом по газетному обычаю. Потому что приезд театра в дальнее село в те годы и в самом деле было необыкновенным чудом. Потому что детская вера в чудо, в то, что солнце непременно сядет рано или поздно в аистовое гнездо, неисчерпаема".
Из шума дождя выплывают томительные нотки какой-то сминаемой мелодии.
"Не тогда ли залетела в Сашино сердце искорка любви к театру?"
Кто-то медленно вошел в тоннель.
"Наверное, именно эта любовь была счастливой и скорбной одновременно причиной его поступления на филологический факультет университета. Почему скорбной? Потому что начался долгий, изнуряющий, полный загадок и неожиданностей путь в тоннеле".
Уставшее, небритое лицо мужчины. Шум дождя. Музыки нет.
"Прощание в июне"... какое грустное и загадочное название у пьесы, а ведь она всего лишь анекдот! Да и слабенькая. Кто это сказал? Неважно! Может быть, эти слова мои, по крайней мере я с ними согласен на все сто. Молодой человек заканчивает университет, полюбил девушку – дочь ректора его ВУЗа. Простенькими, скорее избитыми приемами Вампилов направляет Колесова к развилке дорог, и он должен решить – по которой идти. Примитивно? Неталантливо? Так спрашиваю не только я!"
Мужчина подходит к окну. Взволнованно, беспричинно поглаживает пальцами подбородок. Подгоняемые припускающим дождем, быстро идут люди.
Думает: "Странно, я мог ругать, критиковать эту пьесу вместе со многими, прикапываться к каким-то неудачным, несовершенным, неопытным деталям, но... но теперь не могу. Не могу! Потому что она меня все же волнует, тревожит. Она – да, да! – живет во мне. Может, потому что и мою молодость тоже когда-то хотели сломать? А может, все же сломали, ведь неспроста я чувствую себя Зиловым? А может, все же и Вампилова сломали? Не дали ему развиться до чего-то великого, всемирного, целостного? Слишком добрым и робким мальчиком был этот драматург! Как и в детстве, до конца своих дней верил – солнце сядет в аистовое гнездо... Не село!"
Из неясных грязновато-серых очертаний появляется лицо Репникова.
КОЛЕСОВ. Владимир Алексеевич! Я пришел сюда с надеждой, что вы меня поймете...
РЕПНИКОВ. Все, Колесов. Разговор окончен! Вы не пришли сюда – нет, вы ворвались, по своему обыкновению! И не с просьбой, а с требованием! Да знаете вы, как называются подобные визиты?
КОЛЕСОВ (тоже вспылил). Не знаю. Я пришел к вам с просьбой, но унижаться перед вами я не намерен. И если вы меня не понимаете, то это вовсе не значит, что вы можете на меня кричать.
РЕПНИКОВ. Так! Надеюсь, вы не будете меня душить. Здесь! В моем доме!
Неясные, но загустевшие серые очертания, и снова появляется лицо Репникова.
РЕПНИКОВ. ...Кто впустил в мой дом этого проходимца?!
РЕПНИКОВА (пожала плечами). Я впустила. Открыла дверь, вижу – приятный человек... За что все-таки ты его так не любишь?
РЕПНИКОВ. А за что мне его любить? За что?.. (Ходит вокруг стола.) Мне никогда не нравились эти типы, эти юные победители с самомнением до небес! Тоже мне – гений!.. Он явился с убеждением, что мир создан исключительно для него, в то время как мир создан для всех в равной степени. У него есть способности, да, но что толку! Ведь никто не знает, что он выкинет через минуту, и что в этом хорошего?.. Сейчас он на виду, герой, жертва несправедливости! Татьяна клюнула на эту удочку! Да-да! Он обижен, он горд, он одинок – романтично! Да что Татьяна! По университету ходят целыми толпами – просят за него! Но кто ходит? Кто просит? Шалопаи, которые не посещают лекции; выпивохи, которые устраивают фиктивные свадьбы, преподаватели, которые заигрывают с этой братией. Понимаешь? Он не один –вот в чем беда. Ему сочувствуют – вот почему я его выгнал! А не выгони я его, представь, что эти умники забрали бы себе в голову?! Хорош бы я был, если бы я его не выгнал!.. Одним словом, он вздорный, нахальный, безответственный человек, и Татьяна не должна с ним встречаться! Это надо прекратить раз и навсегда, пока не поздно!
Репников исчезает, появляется мужчина, он стоит у окна. Дождь. Дождь. Сквозь его шум пробивается надрывно-скрипучая мелодия. Идут и идут люди под дождем.
Думает-пишет: "Да, да! Юность обязательно нужно сломить, растоптать, унизить. Нельзя терпеть рядом с собой что-то оригинальное, своеобразное, живое, наконец! Вот вся философия репниковых – извечных российских надзирателей и гонителей. Мы, россияне, привыкли подминать свое "я", расплющивать и ломать его. Нас все и всюду поучают, исправляют, и мы начинаем опасаться всплесков собственного "я". Боимся обвинений в нескромности. Как же, ведь "я" – это эгоизм, индивидуализм. Как стать самим собой? Как увернуться от репниковых и бельчиковых? Мне жалко Колесова, но, честно скажу, и Репникова тоже жалко, потому что у них, репниковых, жизнь скучна и бесцветна. А в Колесова и колесовых мне хочется верить: Колесов уезжает, но, как подметил один мой товарищ, уезжает, чтобы непременно возвратиться – возвратиться к себе, истинному, настоящему, природному. Пьеса очищает и освежает наши души".
Череда фотографий сцен из разных вампиловских пьес.
"Потом родились "Провинциальные анекдоты", "Старший сын", "Прошлым летом в Чулимске". Рождалось и крепло то, что мы теперь называем театром Вампилова. Я легко сказал – "рождалось", а ведь рождение – это мучения, боли, тревоги".
Лица прохожих за окном. Дождь, но он уже иссякает, словно устал. Вечереет. Загустевают тени, будто тоже напитались влагой. Людей на улице стало меньше. Звучит тихая грустная мелодия – одинокий наигрыш на скрипке.
"Какой странный этот Сарафанов из "Старшего сына". Некоторые критики сравнивают его с мучительным стоном. Так не стонала ли и душа Вампилова в те годы? Почему его душе жилось на свете неуютно? Но – разговор о Сарафанове. Он, такой чистый, наивный, детски свежий, по существу чудак, напомнил всем нам, что, как бы нам не жилось плохо, как бы мы друг к другу не относились, но все люди все же, все же – братья и сестры. Наивно? Натяжка? Далеко от жизни? Но и небо далеко от человека, а все душа тянется к выси, к Богу, к высшей правде жизни. Хм, братья и сестры!.. Благородно! Но помнит ли моя издерганная душа об этом, помнят ли о Божьем, прекрасном эти люди, бредущие куда-то нам, под дождем?"
Фотографии сцен с Валентиной.
"Вышла на сцену Валентина, героиня из "Прошлым летом в Чулимске", и мы почувствовали, что – эх, правильно кто-то подметил! – предстала перед нами не просто героиня, а вышла на растерзание сама добродетель. Я чувствую, чувствую, что Валентина – это и есть сам Вампилов! Смеетесь? Помните: смеется тот, кто смеется последним? Валентинович – Валентина... понятно? Нет? Стоп! я снова отвлекся от сценария, от замысла. А замысел в чем? Написать простой сценарий для учебного фильма о жизни и творчестве Вампилова! Н-да, а сценарий, чувствую, у меня может не получиться".
Поднялся ветер. Он раскачивает ветви тополей и сосен. За окном неожиданно изменился пейзаж: уже не вечер, а день. И пронзительно голубое небо, кипенные облака и – томительные, ожидающе-тревожные звуки органа.
"Мы циники, мы устали, издергались, но наши сердца все равно с Валентиной! И с Сарафановым! Они такие слабые, незащищенные, но не могу сказать, что жалкие. Вы подумайте – сколько в них веры! Веры в нас, потерявших себя, запутавшихся не только в дремучем лесу жизни, но и в трех ее соснах. Я по-хорошему завидую Валентине и Сарафанову, но как, как я далек от них! Можно гадать, что станет с Валентиной за пределами сценического действия, но я не сомневаюсь, что своей любви и веры она не обронит, не предаст. Она будет ждать с горячей верой в сердце – ждать нас, истинных, покаявшихся, очистившихся от скверны, ну, может быть не всех нас, но... Я снова забыл о цели моего труда! Сценарий! А может, он никому не нужен, как и я, зилов, сейчас не нужен даже самому себе?"
Фотографии сцен из "Двадцати минут с ангелом".
"Эх, хорошо написал мой друг: "Через банальнейшую ситуацию в "Двадцати минутах с ангелом" Вампилов раскрыл в этой маленькой пьеске, анекдоте, самую суть российского народа. Да, да, народа в целом!" А может, мой друг мои мысли подслушал?"
Картины с изображением Христа, Его деяний. Звучит скорбный хор. Мужчина глубоко задумался, уперся лбом в ладонь, чему-то покачивал головой.
"Я себя часто спрашивал, почему соплеменники Христа все же убили Его? Ответы, которые мне давали, меня не совсем устраивали. Чем занимался Христос в Своей земной жизни? Творил добро ради добра. Правильно? И Его соплеменники с их окаменевшими взглядами на бытие, Вселенную, не могли понять Его. Точнее – принять. Принять этот новый взгляд на жизнь, который, кто знает, не покачнул бы устои царства земного. И чтобы сохранить эти устои, эти мещанские интересы быта – они убили слишком упрямого, настойчивого созидателя добра ради добра, созидателя новой морали, нового взгляда на человека и мир. Мы, как и простоватые, но не глупые герои вампиловского анекдота, тоже, как это ни странно, тоже не приняли этой новой старой морали. Анчугин и Угаров не поверили агроному Хомутову, предложившему помощь страждущим – просто так, безвозмездно. Они разозлились на него! (Мужчина неприятно усмехнулся.) О! Праведным гневом наполнились их сердца. Они –"распинали" его: заламывали руки, полотенцем "пригвоздили" к кровати, насмехались над ним, "бичевали" беднягу".
Появляется лицо Хомутова.
ХОМУТОВ. Вот уж в самом деле: сделай людям добро, и они тебя отблагодарят.
СТУПАК. Бросьте эти штучки. Кто вы такой, чтобы раскидываться сотнями? Толстой или Жан Поль Сартр? Ну кто вы такой? Я скажу, кто вы такой. Вы хулиган. Но это в лучшем случае.
ВАСЮТА. Да откуда ты такой красивый? Уж не ангел ли ты небесный, прости меня, Господи.
БАЗИЛЬСКИЙ. Увы, с ангелом у него никакого сходства. (Хомутову.) Вы шарлатан. Или разновидность шарлатана.
ХОМУТОВ. Ну, спасибо. Буду теперь знать, как соваться со своим участием.
СТУПАК. Бросьте. Никто вам здесь не верит.
Маленькая пауза.
ФАИНА (всем). А что, если в самом деле?.. Если он хотел им помочь. Просто так...
СТУПАК (кричит). Не говори глупостей!
Сцена исчезает. Появляется мужчина, он пишет, отрываясь, задумываясь. Он производит впечатление человека, который неожиданно понял, осознал нечто очень важное, быть может, поворотное – поворотное лично для него. Но, кто знает, может быть, и не только для себя. Он буквально захвачен работой и будто бы охотится за мыслями.
"Вот так оно бывает! И, наверное, не редко. Хомутов – хомут, –видимо, не случайная фамилия. Автор что-то в ней зашифровал. Новый взгляд на мир, новая мораль, – и они сначала для людей как хомут? Надо его сбросить, чтобы никто не посмел мною править, как лошадью? Интересно! Неожиданно. Вампилова, смело, талантливо предлагавшего новый взгляд на мир, человека, устои, как и этого героя, в жизни тоже мучили, но иначе: репниковы, бельчиковы, всевозможные литературные и нелитературные чиновники-мещане не пускали пьесы на сцену. А это терзало, угнетало и унижало Вампилова –Хомутова, Ангела. Разумеется, он не мог назвать себя Ангелом, назвал проще – Хомутовым. Да, теперь мне ясно, понятно, что Хомутов – это тоже Вампилов!"
Тоннель, в котором медленно, на ощупь бредет человек. Капает вода, стены черные, а впереди – слабенький, неверный свет.
"Вампилов шел в тоннеле на тусклый огонек – огонек надежды и веры. Потом, после его трагичной, бессмысленной кончины, начнут охотно ставить его пьесы, а пока... Тоннель! Долгий и мучительный путь в нем; его стены –бюрократы от литературы, холодные, эгоистичные, самоуверенные, -попробуй пробить такую стену! Им, как и нынешнему мещанскому большинству, не нужна литература, не нужно искусство слова, вообще искусство. Им подавай развлечения, щекотку для нервов! Им и Ангелов не надо, потому что у них уже есть надежный, хитрый, расчетливый и соблазнительный путеводитель по жизни – Сатана".
Улицы вечернего Иркутска, патриархальный покой деревянных домов, от них словно бы веет чем-то надежным, добрым и сильным. Быть может, они помогали Вампилову жить и выживать.
"Да, Александру Вампилову пришлось брести в мрачном длинном тоннеле, но впереди все же жил свет. Литератор Геннадий Николаев вспоминает: "О чем мы говорили в тот долгий, незаметно промелькнувший вечер? Прежде всего – о его последней пьесе "Прошлым лето в Чулимске". Я был составителем и редактором альманаха "Сибирь", в котором эта пьеса, принятая редколлегией, была набрана для второго номера. На мой взгляд, это была отличная пьеса, светлая, добрая... Но, увы, на ее пути встали непредвиденные трудности, которые в то время казались непреодолимыми.
Вампилов сидел на тахте, опершись подбородком о стиснутый кулак. После долгого раздумья он сказал:
– Слушай, неужели не ясно, о чем пьеса? Так обидно! И потом, ведь я написал Товстоногову, что пьеса принята. Они уже разворачивают репетиции. Выходит, я трепач?"
Снова мужчина, он листает книгу, читает про себя.
"А вот что вспоминает Елена Якушкина, заведующая литчастью театра имени Ермоловой: "Очень много времени и сил уходило в те годы на то, что мы называли "пробиванием" его пьес на сцены московских театров. Дело это было сложным, и колотиться, как говорил Саша, приходилось много. "Вы там сильно не расстраивайтесь и не берите все на себя, – с обычной своей дружеской заботой и теплотой писал он, – пусть режиссеры больше упираются".
Лицо улыбающегося, но уставшего Вампилова.
"Итак, суммированные замечания, – писал Вампилов Якушкиной в другом письме. – Что именно хотят от автора? Да сущие пустяки!
1. Чтобы пьеса ни с чего не начиналась.
2. Чтобы пьеса ничем не заканчивалась.
Другими словами – никакой пьесы от автора не требуется".
Лицо мужчины. Под скулами подрагивают косточки, в пальцах сжат карандаш.
"Во всех театрах одно и тоже – вроде бы "да", но и вроде бы "нет". Друзья Вампилова говорили, что от такого обращения можно было бы озлобиться на людей, на жизнь, закрыться, уйти в себя, но Александр скорее удивлялся и хотел все же понять тех людей, которые вели с ним эту непонятную игру. Иногда лишь сукровицей просачивалась горечь. Он писал Иллирии Граковой, редактору издательства "Искусство": "У меня впечатление, что завлит на меня махнула рукой, и мои пьесы со стола переложила на окно, где у нее форменная братская могила неизвестных авторов". Ей же он рассказывал о пьесе "Несравненный Наконечников":
– Представляешь, герой после всех своих мытарств бежит из театра, он ничего этого уже не хочет, бежит через зрительный зал, а за ним бежит режиссер, который все же надумал ставить его пьесу...
– Хочешь поделиться своим богатым опытом общения с театром? –спросила я.
– Да уж, есть о чем порассказывать, – засмеялся Саня".
Бег человека в тоннеле убыстряется, дыхание становится тяжелым, стонущим.
"Он шел, упрямо шел по этому мрачному тоннелю-пытке. Где-то там впереди мерцал слабый и неясный свет. Но главное, что свет все же был! "А иначе, зачем я послан на эту землю, а иначе, зачем мне дан талант, а иначе, зачем я столько мучался?" – быть может, думал Вампилов. Хотя иногда, по свидетельствам многих, драматург уже не верил, что когда-нибудь выберется из тоннеля: "Я не жалуюсь, – писал он Якушкиной, – я просто остервенел и просто-напросто брошу все к чертовой матери!" В этих словах глубокая и жестокая правда последних лет его жизни! Довели человека! Всю силу своего таланта он вынужден был направлять не на развитие своих способностей, а только на то, чтобы выжить, протянуть до "света", то есть не кончить жизнь самоубийством".
Одинокий голос скрипки. Тоннель, человек бежит очень быстро, нервными, отчаянными рывками. Запинается, падает, вскакивает, снова бежит. Мелькают темные, выложенные крупным серым камнем стены.
Мужчина. Думает: "Да, кажется, правильно сказал один из вампиловских героев: "Чтобы добиться признания, надо или уехать, или умереть". Пророческая мысль. Ангелы и хорошие писатели кому в какое время нужны были? А если писатель еще и Ангел? Уничтожить его, растоптать, сделать вид, что нет такого на белом свете?!"
Мужчина сутуло поднимается со стула, подходит к окну. Снова дождь. Темно. Возвращается за стол, с явной неохотой пишет.
"Грустно, господа, очень грустно. Да еще этот чертовый дождь... И снова меня беспокоит "Утиная охота", – неужели пьеса и обо мне? Нет, пусть она будет только о них! Нет, нет, лучше вообще ни о ком! Потому что Зилов вошел тоже, как и Вампилов, в тоннель... но – с тупиком. С тупиком!.. Господи, я что пишу? Сценарий для школьников! Так о каких таких тупиках я могу говорить, убивать в юных душах веру в завтрашний день!.."
Мужчина разрывает написанные им листки, сминает клочки в кулаке.
"Что я там вижу? Зилов? Ты?!"
Появляется Зилов... С ружьем и трубкой в руках некоторое время он стоит у телефона.
Не глядя, бросает трубку мимо телефона. Возвращается к столу, устанавливает на должном расстоянии сдвинутый недавно стул, и, как только он на него усаживается, Кузаков набрасывается на него сзади и выхватывает из его рук ружье. Зилов вскакивает. Небольшая пауза.
ЗИЛОВ. Дай сюда! (Бросается к Кузакову. Борьба.)
САЯПИН. Витя... Витя... Что с тобой?
Вдвоем они его одолели и усадили на тахту.
КУЗАКОВ (с ружьем в руках). Псих. Нашел себе игрушку.
Сцена исчезает. Появляется мужчина. Он стоит возле темного окна. Кажется, уже ночь. А дождь все льет и льет, но с тихим, крадущимся шорохом.
"Помешали!.. Может, для Зилова это был единственный выход из тупика. Кому не понятно: убиваешь себя – убиваешь свои страдания? А так –продолжается для Зилова путь в тоннеле... Но: если он упрется в тупик, то, получается, ему надо идти в обратную сторону? Или – как?.."
Вновь появляется Зилов.
ЗИЛОВ. Я еще жив, а вы уже тут? Уже слетелись? Своего вам мало? Мало вам на земле места?.. Крохоборы! (Бросается на них.)
КУЗАКОВ. Врешь... Врешь... Врешь...
ОФИЦИАНТ (спокойно). Возьми себя в руки!.. Ты можешь взять себя в руки?
ЗИЛОВ (вдруг перестает сопротивляться). Могу... (Спокойно.) Я могу... Но теперь вы у меня ничего не получите. Ничего. (Неожиданно берет у Саяпина ружье и отступает на шаг.) Вон отсюда.
Лицо мужчины. Он несколько нервно закуривает, роняя то папиросу, то спички.
"Н-да, в зиловском тоннеле, кажется, нет и с противоположного конца света, с того конца, откуда он начал свой страшный путь. Кто-то, наверное, предусмотрительно заделал выход. Кто? Репниковы-бельчиковы – охранители сгнивших устоев? Или народившееся и ныне утвердившееся мещанское большинство, которому в жизни не надо ничего такого, что хотя бы косвенно напоминало о совести, о больной страдающей душе, о поисках смысла жизни, Божьего? Но этак наступит тупик для всех, и мы начнем себя истреблять... Фу-у, прекрати!"
Мужчина устало вздыхает, закрывает глаза ладонями.
"Не надо раскисать. Я должен написать сценарий. Я должен, обязан сказать нечто такое подрастающему поколению, что бы они стали лучше меня, нас, взрослых. Им – жить! И их жизнь непременно должна быть счастливой, удачливой, доброй..."
Садится за письменный стол, листает книги, пишет, иногда неприятно усмехается. Опять встает, подходит к окну, снова закуривает, не докурив первую папиросу.
"А дождь, братцы, все идет и идет. Скорей бы он кончился... Эх, рвануть бы сейчас куда-нибудь, где тихо-тихо, ясно и свежо. Ну, хотя бы, как Зилов, на утиную охоту!"
Раздается торжественное, но тихое церковное пение. Озеро. Туман. Восходит солнце. Вдалеке неясен бледно-синий лес, неясны камышовые заросли, неясны, пригашены краски всего пробуждающегося маленького озерного мирка.
Мужчина с закрытыми глазами, губы сжимают погасшую папиросу.
В СЕРДЦЕ ВСЕГДА НАЙДЁТСЯ МЕСТО ДЛЯ ЛЮБВИ
Мои хорошие знакомые года два или три назад предложили мне почитать произведения Афанасия Никитовича Антипина (1922 – 1980) – иркутянина, талантливого педагога, сегодня забытого. Я говорил, что обязательно прочитаю, но не читал. И за книги Афанасия Никитовича, может быть, и не взялся бы никогда, если бы не его юбилей. Думаю, дай-ка почитаю. Прочитал. И все – я его люблю. Хотите – верьте, хотите – нет. И что любопытно: ничего особенного в его прозе я не нашел, многое хорошо знакомо: простой, человеческий язык, простые, жизненные ситуации и нравственные поиски героев. Да, его проза обычна, отражение того, что кем-то в русской литературе уже создано. Но вы когда-нибудь видели отражение неба и солнца в чистом пруду или озере, не вздрагивающем ни одной жилкой? Не буду описывать, вы сами прекрасно знаете: это не менее захватывающая картина, чем небо и солнце вживе, только она узко, тесно обрамлена берегами. Таким же прекрасным отражением лучших образцов русской литературы – Льва Толстого, Чехова, Бунина, Горького, Пришвина, Гайдара – видятся мне повести и рассказы Антипина.
Их первое и главное достоинство – нежная, светлая нравственность. Иногда сталкиваешься в художественных произведениях с нравственной энергией иного склада и заряда – тяжелой, воинственной, требовательной, непонятной, темной, и порой задумываешься: а что же в этом нравственного? У Антипина проза напитана именно нежной, ласковой, доходчивой – как все доброе –нравственностью дня и света. Она неназойливо, тихо, почти шепотом говорит тебе: пожалуйста, стань лучше, человек, хотя бы чуть-чуть. И Антипин несложными, понятными и взрослому, и малышу, ходами показывает, как же можно стать лучше, чище. Почитайте его повесть "Первый увал" (1973 год) и вы обязательно хотя бы немножко, но преобразитесь: станете, быть может, сговорчивее со своими близкими, вас потянет к уютной, ладной семейной жизни. Вам, быть может, захочется побыть рядом с мудрой, но несколько ворчливой бабушкой Степки Королева; с его деловым, вечно занятым, но спокойно-рассудительным отцом – надежным мужиком сибирской глубинки; с его хлопотливой матерью, о которой толком ничего не можешь сказать, но ясно понимаешь – славная она; с его маленькой сестрой Маняшкой, которая все сердит своего неугомонного брата, но которую он все равно любит, – и мы ее любим. Все они хорошие люди. Они сложились в семью, спаялись в нее, хотя все такие разные. В них редко побеждает раздражение друг к другу, с ними и в них всегда нежность. Вот посмотрите, как она с ними живет, как она воспитывает их, ведет друг к другу: Степка однажды долго пробыл на рыбалке, поймал большого окуня, дома его уже давно поджидали, готовились устроить ему основательную головомойку за то, что неизвестно где пропадал. И вот он заходит домой с "матерым окунем".
"...Человек, который закармливает семью свежей рыбой, заслуживает того, чтобы за ним иногда и поухаживали. Мать расчистила угол стола от еще не убранной после обеда посуды, насухо вытерла клеенку, поставила еду, даже стул пододвинула, словно я гость какой, и пригласила:
– Садись, рыбак, промялся, небось.
– Утром-то ведь чуть хватнул да и умелся, почитай, голодный, – в тон матери сочувственно сказала бабушка.
На другом конце стола лежал мой окунь. Отец с Маняшкой любовались им и вполголоса переговаривались:
– Большущий? Да, папа?
– Да, – вполне серьезно признавал отец.
– Другие мальчишки только гольянов ловят, а наш Степка ловконько: раз и окунища вон какого здоровенного поймал. Да, папа?
– Да, – признавал отец и это.
Маняша, считавшая своей обязанностью всеми мерами помогать взрослым и воспитывать меня – не замечать моих достоинств и не оставлять без внимания даже малейшего промаха, – тут на какой-то миг забылась и подарила мне взгляд, в котором я прочел сияние гордости: ее брат в рыбацких делах оказался на голову выше всех подъяровских мальчишек.
Я деловито заскребал остатки картошки на сковороде, стараясь показать, что все эти почести не кружат мне голову..."
Помнишь эту картинку и думаешь о ней. Хотя – о чем, казалось бы, особо размышлять и что помнить? Все так просто, чисто и ясно, как воздух. Но –как без воздуха?
В первой книжке Антипина "Разговор о детях" (1964 год) много историй, все они о детях, о воспитании. Они нас волнуют. Невозможно, к примеру, не сопереживать – а значит, становиться хотя бы на капельку лучше – тому, как Юра, пятиклассник, совершил в походе скверный поступок и "по существующему в отряде суровому закону" его следовало за это отправить домой. Юра стал горячо просить, чтобы его оставили в отряде, обещая хорошим поведением искупить свою вину. Ребята заколебались и уже, видимо, готовы были смягчиться и пойти на уступки, как вдруг случилось нечто совершенно невероятное. Юра опустился на колени и, молитвенно сложив руки, начал слезно причитать и просить:
– Ну, ребята, простите, пожалуйста... Я никогда в жизни не буду больше так. Вот честное благородное...
Ребята почти с испугом смотрели на Юру. Перед ними никто никогда не вставал на колени. А Юра все хныкал и жалобно твердил:
– Ну, простите, ну, пожалуйста...
Учительница возмутилась:
– Встань сейчас же!
Юра поднялся, лицо его сразу стало спокойным, а глаза сухими и холодными. Он не спеша надел свой рюкзак, стряхнул с брюк мусор и деловито осведомился:
– А где мои деньги, которые я давал на поход?
Теперь это был совсем другой Юра. Теперь он не зависел от товарищей, а они от него, потому что у них были его, Юрины, деньги... Теперь он не просил, а требовал..."
Что бы мы ни думали об этом, но такой сюжет остается в голове и волнует. В прозе Антипина вообще все волнует – это ее второе важное достоинство. Волнует то, как трудно маленький, подрастающий человек формируется, развивается, сколько в человеческом становлении, вхождении в мир неожиданного, отчаянного, гибельного, сколько ошибок, непонятного и тайного. Почему, как и зачем, например, появляются такие люди, как Юра? Автор переживает за него, и мы переживаем. "Вот он, Юра, успевающий средний ученик, – пишет Афанасий Никитович, – обыкновенный мальчишка, у которого нет еще никакого характера. Каким он будет человеком, если он сейчас хорошо умеет пустить слезу, где это выгодно, улыбнуться, чтобы казаться удобным, угодить тому, кто посильнее, и даже встать на колени?
У учащихся бывают, например, серьезные пробелы в математике, в русском языке. Они постоянный предмет забот, волнений учителей и родителей. Но куда опаснее и тревожнее вот тот пробел, который есть в Юриной душе".
Не буду говорить, сколь современен разговор, начатый тридцать с лишним лет назад Антипиным. Вы и сами явственно видите: в нашей расчетливо-холодной жизни уже штамповочно, поточно формируются "Юры" – механические, бесчувственные наживалы, привыкающие с малолетства поступать только так, как выгодно им, их делу – бизнес ли это или наука, производство или искусство. "Я, мне, мое" – три стенки их души, которые никак не прошибешь, как сейф.
Антипин – чуткий, деликатный художник: он вам никогда не будет надоедать напоминанием о том, какие мы "Юры". Он всю жизнь искал нравственный житейский и педагогический идеал, тот идеал, который вел бы человека с детства и до глубокой старости и смерти к простому и хорошо понимаемому всеми: живи с собой и людьми в мире и ладу. Этот поиск автора –третье важное достоинство его прозы. И не случайно, конечно, Антипин писал только о детстве: он глубоко понимал, что именно там камушек к камушку начинает расти в душе фундамент мира и лада. "Внимательно отбирай, воспитатель, камушки, – как бы говорит нам с каждой страницы своей прозы Афанасий Никитович, – крепко-накрепко скрепляй их. А иначе – надежно ли стоять твоему дому?"
В повести "Сначала я был маленьким" (1971 год) юный, шестилетний, герой Степка Королев – да, снова он! – не желает воспитываться, ему просто-напросто недосуг воспитываться: игры, общение с теми, кого он любил, и выяснение отношений с теми, кого он не любил или любил-любил, да неожиданно разлюбил на минуту, на час, на день... Но любовь к нему все равно возвращается, как воздух с очередным глотком. Вздорит Степка с бабушкой, обижается на нее, однако пробегают минуты, часы – и его маленькое сердце снова не может не любить старенькую бабушку.