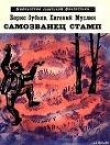Текст книги "Антология советской фантастики"
Автор книги: Александр Казанцев
Соавторы: Еремей Парнов,Роман Подольный,Георгий Гуревич,Илья Варшавский,Север Гансовский,Генрих Альтов,Анатолий Днепров,Евгений Войскунский,Исай Лукодьянов,Владимир Савченко
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 29 страниц)
На космическом корабле были представлены почти все профессии. Был там и философ. Он осмысливал все происходящее и с помощью мысли приводил в должный порядок.
Однажды, встретив философа в отделении логических машин, мальчик набрался храбрости и спросил, что такое обыденность.
Философ ласково улыбнулся мальчику.
– Обыденность, – ответил он, – это цепь привычек, которых мы, в сущности, не замечаем, как не замечаем одежды, когда мы одеты. Но стоит нам раздеться и выйти на мороз…
Философ вдруг замолчал, вспомнив, что говорит не Со взрослым, а с мальчиком.
Он улыбнулся еще раз и ушел. Мальчик больше не спрашивал. И старался не думать об этом. Он догадался, что обыденность существует только для взрослых, а у детей ее нет и не может быть. И действительно, все казалось необычным и новым мальчику, даже то, что он видел много раз.
Он видел, как все трудились, что-то вычисляя, изобретая или изучая. Он заходил в лаборатории. Ему везде были рады, и особенно почему-то там, где занимались исследованием самых сложных явлений, например в лаборатории субмолекулярной биологии. Может быть, это происходило потому, что исследователи, углубясь в невидимое и неведомое, доступное только сложнейшим приборам, на целые часы теряли связь с окружающим миром и мальчик являлся им как посланец этого прекрасного мира, напоминая об этом мире всем своим видом?
Потом мальчик уходил, и в лаборатории наступала тишина. Но все знали, что мальчик где-то рядом, потому что хотя корабль и был большой, но на нем все было рядом, все было близко. А мальчик, выйдя из лаборатории, сосредоточенно думал о субмолекулярном мире, и мысль его уносилась уже не за пределы корабля в просторы вселенной, а в бесконечное малое. И тогда он сам себе начинал представляться бесконечно большим, состоящим из множества миров.
В свободные от исследовании часы некоторые участники экспедиции играли в шахматы. Мальчик через плечо игрока заглядывал на доску и гадал, какой будет следующий ход. Слабее всех играл в шахматы музыкант. Он всем проигрывал – и машинам и живым партнерам. И очень огорчался проигрышами, но не в силах был удержаться от игры. У мальчика его частые проигрыши вызывали досаду.
Проиграв партию, музыкант уходил в свое помещение сочинять музыку. Однажды он поманил мальчика, привел его в свою каюту и включил проигрыватель, чтобы мальчик мог послушать новую мелодию.
Мальчик слушал, и звуки лились, тонкие и светлые. Это бились где-то друг о друга льдинки, это пела вода, то журча, то гремя и налетая на камни.
И постепенно мальчику представилась незнакомая планета с множеством рек, речек и ручейков. Вода пела удивительную песню.
И мальчик вдруг почувствовал, что песня уже есть, но нет еще уха и разума, чтобы понять ее и услышать. На планете еще не наступил черед для разумных существ… Да, на той планете, о которой рассказывала музыка.
А звуки лились, тонкие и светлые. И мальчику казалось, что реки, ручьи, потоки и льдинки – здесь, рядом с ним, такой ясной и красивой была мелодия.
Потом наступила тишина. Молчали оба – и композитор и мальчик. Но мальчик все-таки был мальчиком, и он не мог долго молчать.
– Расскажи, пожалуйста, – попросил он музыканта.
– О чем?
– Все о том же, – сказал тихо мальчик.
И музыкант догадался, о чем просит мальчик, и стал рассказывать о планете, на которой родился и провел свою молодость. Он был хорошим музыкантом, но рассказчиком неважным, часто сбивался, топтался на месте и все повторял одно и то же.
Он родился в лесу под герой, на вершине которой было озеро. Прямо от дверей домика его отца, хранителя заповедника, начиналась тропка. Петляя, она уходила в лес и там терялась.
Но, кроме тропки, деревьев и горы с озером на вершине, рассказывал дальше музыкант, было еще нечто иное, называемое необходимостью. Когда будущий музыкант подрос, ему пришлось расстаться с тропой, с речкой, с горой и с озером, которое было на самой верхушке возле синего облака. Быстрая, как молния, машина доставила его в город. В городе тоже было хорошо. Но там не было горы с озером на вершине. Жизнь отобрала у будущего музыканта эту гору и это озеро. Однако музыкант не отчаивался, он уже догадался тогда, что жизнь состоит не только из приобретений, но и утрат.
– Что же ты приобрел? – спросил мальчик.
– Я приобрел опыт, – ответил музыкант.
– Но ведь ты за него отдал гору с озером.
– Может быть, я когда-нибудь и вернусь к этой горе, – сказал задумчиво композитор.
– Когда?
– Разве я это знаю? Нам еще надо побывать на загадочной планете. Потом много лет займет возвращение на родину. А жизнь коротка…
Музыкант вдруг замолчал, и на его лице появилась тень заботы. На всем корабле это был самый беззаботный человек. Но сейчас он стал похож на других. И мальчик впервые подумал, что расстояние, которое нужно преодолеть кораблю, измеряется не пространством и временем, а жизнью. И это было удивительно… Годы уходят, и если даже музыканту удастся увидеть еще раз гору своего детства, то только тогда, когда он станет дряхлым стариком. А может быть, он и не доживет.
Желая сказать музыканту приятное и облегчить его тоску по озеру на вершине горы, мальчик сказал:
– Если ты не увидишь, то, может, я увижу эту гору. Я передам ей от тебя привет.
Наступила пауза. Неловко почувствовали себя оба – и взрослый и мальчик. Потом мальчик подумал, что музыкант сказал не все. Самого главного он не сказал, и это хорошо. Мальчик знал, что от музыканта ушла любимая женщина, предпочтя ему другого. И если даже она и раскается в своем проступке, дела уже не поправить – композитор теперь слишком далеко от нее и вернется домой стариком.
На корабле был только один очень старый человек. Это был главный техник-вычислитель, специалист, распоряжавшийся вычислительными машинами. Все знали, что он уже не вернется домой, для этого он был слишком стар. Но он был очень крепкий. И повар-фармацевт, не отличавшийся крепким здоровьем, однажды позавидовал ему и сказал, что этот старик переживет всех, даже мальчика, и если кому суждено вернуться домой, то именно ему.
Мальчик украдкой разглядывал старика. Между ним и стариком было нечто общее. Старик был всех старше, а мальчик всех младше.
Было ли когда-нибудь детство у этого старика? Возможно, и было, не сразу же он состарился. Когда он встречался с мальчиком, он с изумлением спрашивал:
– Откуда ты взялся, мальчик?
Мальчик понимал, что это была шутка. Но стоило ли повторять одно и то же столько раз? И старик смотрел на мальчика, у которого не было прошлого, а у старика его было почти столько, сколько в памяти у машин, хранителей сведений и фактов. Примерно года два назад старик уличил одну машину в неточности, и все долго смеялись и подшучивали, вспоминая этот случай.
Глядя на старика, мальчик слышал прошлое. Прошлое жило в старике, в его глазах, неласково смотревших из-под седых бровей. Оно хранилось в нем, как в памяти машин. Но оно молчало из чувства собственного достоинства. Ведь старик не был памятной машиной, готовой отвечать всем и каждому на любой легкомысленный вопрос. И прошлое в старике было совсем другое, не такое, как в памяти информационных приборов. Машины помнили даты, факты, события и происшествия. А старик помнил среди всех этих фактов и происшествий еще и себя и других.
Странно, что именно о старике мальчик вспоминал в ту самую ночь, когда бездна чуть не поглотила корабль. Но об этом будет дальше: о бездне, о корабле и о мальчике.
– Пока все, – сказал Герман Иванович, не то огорчаясь, не то радуясь, и закрыл тетрадь. – Будем ждать продолжения.
Все молчали. Даже первые ученики и выскочки, любившие задавать вопросы. Только Дроводелов не вытерпел и, наклонившись ко мне, сказал:
– Муть! Ну и муть! Даже голова заболела от этой мути. При чем тут старик или это озеро на вершине горы? Зачем оно там? К чему?
Я тоже чувствовал: рассказу о мальчике чего-то не хватает. Громов увлекся информационными машинами и стариком и ушел в сторону от главного. Нужно будет ему об этом сказать.
5
Конечно, Дроводелов был не прав, когда заявил, что рассказ о мальчике муть и одна скука. Но начало мне понравилось больше, чем продолжение. Я, как и все другие, впрочем, ожидал, что мальчик совершит какой-нибудь героический поступок. А поступка не было. В рассказе все шло слишком обычно и томительно медленно, как перед экзаменами, и только к концу что-то случилось. Но что именно – неизвестно. Выходило, что кое в чем Дроводелов прав. И со стороны Громова это была ошибка. Нельзя допускать, чтобы такие, как Дроводелов, могли хвастаться своей правотой. Но довольно о Дроводелове. Тем более Что он потом отсутствовал целую неделю, уехал с матерью к каким-то родственникам в Лугу.
Громов отмалчивался и на все вопросы о мальчике отвечал кратко:
– Я тут при чем? Не я же летел в этом корабле.
К нему подошел первый ученик Дорофеев и, улыбаясь, спросил, чем, собственно, замечателен мальчик.
Громов ответил:
– Он замечателен тем, что родился в космическом пространстве, где рождаются только звезды. А ты где родился?
– Я родился на Васильевском острове в больнице имени Отто.
– А как ты думаешь, – спросил Громов, – есть какая-нибудь разница между больницей имени Отто и той точкой пространства, где родился мальчик?
Дорофеев пожал плечами и ответил, что большой разницы он не видит. Ответив так, он посмотрел на всех нас свысока.
Громов же никогда ни на кого не глядел свысока, даже когда в газетах писали о находках его отца. Но после того как перестали писать, Громов немножко сник. И мы тоже стали на него смотреть так, словно между его поведением и судьбой всех находок тянулась какая-то ниточка и эта ниточка оборвалась. Вообще неясно все это было.
Но с того времени, как он стал писать рассказ о мальчике, эта ниточка вдруг снова появилась. Тоненькая это была ниточка, невидимая, но тем не менее ощущаемая почти всеми. Кое-кому хотелось порвать эту ниточку, особенно Дроводелову. Эта ниточка мешала ему, такой уж он был. Ему все мешало, что можно отрезать или порвать. Однажды он срезал трубку у телефона-автомата и принес в класс. Мы спросили его:
– Тебе что, мешала эта трубка?
– Нет, помогала, – сказал он.
– А сколько людей из-за тебя потеряли время?
– Мне на это наплевать, – сказал он, – время для того и существует, чтобы его теряли.
Возвратившись из. Луги, куда он ездил с матерью, Дроводелов опять принялся за свои прежние штучки. Можно было подумать, что рассказ о мальчике нарушил нормальное течение его жизни. Он приходил в класс, садился и, вытянув длинные ноги, просил: пусть ему объяснят, может ли в космическом корабле родиться мальчик и жить так много лет, летя неизвестно куда.
И ему отвечали:
– Как гипотеза это возможно.
– Хорошо, это я еще могу допустить, – соглашался он, – но зачем на корабле философ, старик и композитор? Разве без них нельзя было обойтись?
И мы отвечали:
– Конечно, можно обойтись в без них. Но все-таки с ними лучше. Один писал музыку, другой вспоминал, а третий силой своей мысли боролся с предрассудками и суевериями.
– Отлично, – не успокаивался Дроводелов. – Композитор, философ, старик и еще мальчик, без которого тоже можно вполне обойтись. Но теперь давайте подсчитаем, сколько на корабле ушло энергии, пищи, кислорода, медикаментов и других необходимых вещей. Ведь корабль находился в пути много лет.
– Может, и сейчас находится. Мы же конца еще не знаем…
– Нет, давайте подсчитаем.
И он брал карандаш и бумагу и начинал считать. Разумеется, он ждал, что мы тоже присоединимся. Сам он считал плохо и легко мог ошибиться. Но никто из нас не собирался заниматься такого рода бухгалтерией и считать, сколько мальчик съел, выпил и надышал. Пусть себе ест, пьет и дышит на здоровье. Однако это не давало покоя Дроводелову, и он садился с карандашом, чтобы вести свои подсчеты.
Мы тоже вели подсчеты, но совсем другие. Мы вычисляли, какой величины должен быть корабль, чтобы нести все необходимое для столь длинного пути. То и дело спрашивали Громова, сколько на корабле живых единиц, машин, какой энергией пользовался корабль – фотонной, атомной или связанной с использованием антигравитационных сил? С чем имел дело корабль, с обыкновенным эйнштейновым временем? Или с нуль-пространством, о котором не раз уже писали фантасты?
О нуль-пространстве у нас были большие споры. Никто толком не мог понять, что это такое. Первый ученик Дорофеев сказал, что это такое понятие, которое еще пока никому не понятно, кроме самих фантастов. Тогда мы стали приставать к Громову. Он объяснил, что о нуль-пространстве не может быть и речи, мальчик жил во вполне реальном трехмерном мире и двигался со скоростью, близкой к световой.
Теперь вернемся к ниточке, которую так старался порвать Дроводелов. Мы все чувствовали ее. Какая-то странная связь – не телефонная, не телеграфная, не радио и не квантовая, а чисто психическая, что ли, соединяла нас с мальчиком, который находился не то в прошлом, не то в будущем, где-то в неизвестной точке вселенной.
Где-то я читал, что связь еще недостаточно изучена. Ведь существует, как утверждают некоторые ученые, поле-пси, физическая сущность которого еще не известна. Космический мальчик приобрел реальность и прочно вошел в нашу жизнь. Чтобы понять обстановку, которая окружала мальчика, мы начали следить за новинками науки и техники. Нас всех буквально лихорадило. А Леонид Староверцев завел даже картотеку, записывая на отдельную карточку каждое отдельное событие в науке и технике. Карточки он обычно носил с собой, рассовав по карманам, и, щуря близорукие глаза, рассматривал их во время уроков. О чем только не говорилось в этих карточках! Там было и про сверхновые звезды, и про нуклеиновые кислоты, и про автоматическую родовую память птиц, и про разумных животных дельфинов, и про язык древнего народа майя, и про общественных насекомых – пчел и муравьев, которые общаются исключительно при помощи ультразвуков.
Староверцев сидел передо мной, и, заглядывая через его плечо, я мог пополнить свои знания.
Однажды я спросил Староверцева:
– А про снежного человека у тебя что-нибудь есть?
– Нет. Эту карточку я пока оставил незаполненной.
– Это почему же? – спросил я.
– Потому что я жду, когда наука решит этот спорный вопрос.
Мне от этих холодных слов стало как-то не по себе. Значит, та карточка, где должно быть записано об открытии Громова-отца, тоже не заполнена и ждет, когда наука решит спорный вопрос.
6
Громов аккуратно посещал все уроки. Должно быть, его родители отложили переезд в новый дом на Черную Речку по не зависящим от них обстоятельствам. Может, строители не выполнили обязательства закончить дом к сроку или оказалась слишком непокладистой комиссия и не захотела принять дом. У меня лично не было никаких претензий к строителям и комиссии. Мне очень не хотелось расставаться с Громовым и перерезать ниточку.
Громов приходил и уходил. Он сидел на своем месте у окна, и, когда я хотел посмотреть на Громова, я делал вид, что хочу взглянуть в окно. Окно было большое, широкое, светлое, а за окном вниз улица, и деревья, и люди не тротуарах. А напротив окна дом, а там тоже окно, и в окно выглядывает толстая старуха, и ест сливы, и выплевывает косточки прямо из окна на тротуар. И, глядя на нее, можно подумать, что она так и живет, ни на минуту не отходя от окна, так часто ее видно.
И, глядя в окно, я думал, что мальчик не имел ни малейшего представления об окнах (какие же окна в наглухо замурованном корабле?), и окна ему заменял экран, но, разумеется, не мог заменить полностью. И я думал также, что окно прекрасная вещь, стены словно и нет совсем, и видны даль, небо, облака, деревья и старуха, которая ест сливы. И я спросил Староверцева, не написано ли в его карточках что-нибудь об окнах, в каком веке или тысячелетии появилось первое окно.
Староверцева немножко смутил мой вопрос, и он сказал, что на эту тему у него карточка осталась незаполненной.
– Почему? – поинтересовался я.
– Потому что окно – это изобретение далеких эпох, – ответил он. – А я заношу в карточки только то, что имеет отношение к будущему.
– А разве в будущем не будет окон?
– Будут, но Другие. Скажем, ты увидишь в окно не парикмахерскую и не сапожную мастерскую, а кусок вселенной. Вот какие, наверное, будут окна.
Громов прислушивался к нашему разговору, по ничего не сказал. По его взгляду я понял, что вопрос об окнах его заинтересовал. Но он не вмешался из деликатности. Ему ведь не надо было рыться в карточках или справочниках, чтобы ответить на вопрос, в каком веке или тысячелетии человек прорубил в стене первое окно. Громов об этом не мог не знать.
Меня очень мучил этот вопрос, но я все-таки воздержался и не задал его Громову. Тоже из деликатности. Некоторых раздражало, что Громов много знает, особенно тех, кто не мог проверить и должен был верить ему на слово. Ребята считали, что Староверцев немножко завидует Громову и хочет его догнать при помощи своих карточек. В квартире у него на всех столах стоят ящики с этими карточками, как у какого-нибудь профессора, который не доверяет энциклопедии и даже своей собственной памяти. Все это так, но пока Староверцеву не удалось не только догнать Громова, но даже приблизиться к нему. Ребята спрашивали у меня и у Власова, есть ли в квартире у Громова ящики с карточками. Но я не видел там ни одной карточки и ни одного ящика, за исключением того, в котором мать Громова выращивает летом цветы. И все невольно пришли к тому выводу, что у Громова необыкновенная память.
В памяти ли тут было дело или в чем-то другом – не знаю. Но когда Громов отвечал на вопросы учителей, с миром происходило что-то необыкновенное, все вокруг менялось, и менялись мы, и даже сам учитель. И веем казалось, что существует не видимый никому провод, который соединяет Громова с Луной, с самим Наполеоном или Аристотелем. Аристотель и Наполеон, пчелы и атом, луна или дно океана как бы общались с нами. Громов у них был доверенным лицом.
Отвечал на вопросы Громов только тогда, когда его спрашивали, никогда не выскакивал, не поднимал руку, чтобы отличиться и показать, что он знает больше всех. Учителя тоже отчего-то редко спрашивали Громова, и некоторые его ответы их почему-то смущали, хотя и радовали тоже. И самое необычное и не совсем ясное было то, что Громов располагал таким же временем, как мы все, и ни от чего, в сущности, не уклонялся: ни от физкультуры, ни от шахмат, ни от других дел. Может, он гораздо меньше спал, чем все мы, и занимался в ночные часы, стараясь как можно больше узнать и запомнить? Не знаю, но очень сомневаюсь. Ведь это не понравилось бы его родителям и отразилось бы на здоровье. Кто-то из одноклассников выдвинул даже такую гипотезу, что мальчик, о котором читали, существует на самом деле и помогает своими советами Громову. Многие стали смеяться над этой гипотезой, а Староверцев спросил:
– Сколько же миллионов лет он существует?
У гипотезы нашлись и защитники. Первый ученик Дорофеев сказал: возможно, отец Громова нашел информационную копию мальчика. О подобных копиях уже не раз писалось в фантастических романах. Короче говоря, Громов имеет дело не с самим мальчиком, а с его копией. Внутренний мир мальчика был записан с помощью кода, и двойник мальчика находится в квартире Громова, а оригинал давным-давно исчез, подчинившись неизбежному закону разрушения.
Мне эта гипотеза показалась очень наивной. И потом со стороны громовского отца вряд ли было этично утаить информационную копию мальчика от науки и общества только ради школьных успехов своего сына. Это первый довод против. Было много и других. Откуда копия мальчика могла знать, скажем, о Наполеоне и о многом другом, чего могло и не быть на той планете? Разум и логика всячески сопротивлялись, но сильнее их были чувство и желание стать свидетелем и участником необыкновенных событий. Иногда я думал, упрекая себя в непоследовательности: а что, если громовский мальчик все-таки существует? Ну, скажем, не буквально, а только как копия. Предположим. А где же она находится, эта копия? В кабинете отца? Допустим. Ну и что же, она стоит там, эта копия, и время от времени беседует с Громовым на разные научные темы?
Но оторвемся от фантазии и вернемся к действительности. Действительность же была самая обыкновенная. Я заболел ангиной и пролежал несколько дней в постели. Меня навестил Староверцев. Боясь заразиться, он сидел в другом углу комнаты, которую мои мать и отец в силу автоматизма по-прежнему называли детской. Сидел и просматривал карточки, а иногда и записывал что-то в них, словно забыв о моем существовании.
– Ты мог этим заняться дома или в библиотеке, – сказал я.
– Если бы я был дома или в библиотеке, я не мог бы сидеть здесь, у тебя.
– Согласен с тобой, – сказал я, – но раз ты сидишь здесь, у меня, то хоть спрячь своп кар! очки в карман. Можешь ты без них обойтись хоть минутку?
– Я очень ценю свое время.
– Ну и цени, – сказал я. – Это твое дело.
– Не только мое, но и твое. Я ведь ценю время не для себя, а для других.
– Для других? А не можешь ты немножко конкретнее? Не для Дроводелова же ты ценишь свое время…
– Для Дроводелова? Нет, – ответил рассеянно Староверцев. – Дроводелов, понимаешь, отрезал и принес в класс…
– Опять телефонную трубку?
– Нет, лисий хвост. Говорит, в Зоологическом саду отрезал у живой лисы. Врет. От хвоста пахнет нафталином…
– И это все новости? – спросил я.
Староверцев почему-то обиделся, покраснел и даже уронил от волнения несколько карточек на пол.
– Меня не надо спрашивать о новостях. Я все это презираю. Презираю!
– Почему же презираешь? За что?
– Презираю! Новости – это сплетни. Это еще академик Вернадский говорил. В его биографии написано.
Тут он совсем обиделся и, не подобрав с пола кар точек, ушел. Я не чувствовал себя виноватым.
Я встал и подобрал карточки, которые уронил Староверцев. В одной карточке было написано про Собор Парижской богоматери, в другой про молекулу АТФ и про водородные связи, а в третьей – я не поверил своим глазам – про информационную копию мальчика.
Первый ученик Дорофеев оказался прав.
В карточке была ссылка на газетное сообщение о находках археолога Громова и было упомянуто о копии инопланетного мальчика, пролежавшей в земле со времени юрского периода.
Я читал и перечитывал эту карточку, и рука моя дрожала. Потом я лег в постель, зажег свет и опять читал. И два голоса спорили в моем сознании. Один голос говорил, что все это чепуха и что Староверцев со слов Дорофеева нарочно написал это на карточке и бросил здесь, чтобы посмеяться. Но другой голос утверждал, что для Староверцева карточка слишком священная вещь, чтобы он стал ее портить. Два голоса спорили, а я, как арбитр, слушал их доводы, еще не зная, какому из них отдать предпочтение.
Голоса спорили, приводя сотни доводов «за» и «против». Потом один голос стал побеждать, тот голос, который рассуждал здраво и логично, как наш. преподаватель математики Марк Семенович. Я сразу же представил себе Марка Семеновича с мелом в одной руке и с мокрой тряпкой в другой, и числа на доске, и его голос всегда с одной и той же сомневающейся интонацией, даже когда не в чем было сомневаться.
Этот голос, голос Марка Семеновича, сидел во мне и рассуждал.
«Предположим, – говорил он, обращаясь ко всем и к каждому, – предположим, что существование копив мальчика неизвестно, и обозначим ее через икс. Тогда спросим себя, зачем игрек, то есть Староверцев, поспешил заполнить карточку, которую столько времени хранил незаполненной? Предположим, что Староверцев…»
Голос с сомневающейся интонацией убеждал меня в том, в чем меня нетрудно было убедить. Староверцев был не из тех, кто стал бы шутить. Значит? Значит, пока я лежал в постели, измеряя температуру и глотая таблетки, в газетах появилось сообщение о копии мальчика.
Я позвал мать, которая была в столовой, и попросил ее, чтобы она принесла газеты.
– Сегодня понедельник, – сказала мать, – газеты не принесли. А во вчерашнюю я завернула обувь, когда носила в починку.
7
Я набрал номер телефона и, услышан густой и низкий мужской голос, сказал:
– Мне нужно Староверцева.
– Староверцев слушает вас, – ответил голос.
От волнения я даже сразу не сообразил, что это отец Староверцева, и удивился, почему у знакомого школьника такой низкий, незнакомый, густой голос.
– Староверцев слушает вас, – раздраженно повторил голос.
– Мне не вас. А вашего сына.
– Его увезли в больницу, – ответил голос. – Приступ аппендицита.
Он повесил трубку. Я тоже. И наступила тишина.
Все на свете сговорились, чтобы мешать мне разгадать тайну. Я лежал в постели, глотал таблетки, пил чай с лимоном и ждал врача из районной поликлиники.
Потом пришла врач – старая обиженная женщина – и стала упрекать нас за то, что плохо работает лифт. В прошлый раз, когда она поднималась к нам на шестой этаж, дверь лифта коварно захлопнулась за ней и ни за что не хотела открыться; пришлось кричать, чтобы вызвали дежурного ремонтника, и она потеряла, стоя в лифте, сорок минут. Сегодня она, боясь потерять время, поостереглась пользоваться лифтом и поднялась к нам пешком, без всякой техники. Она упрекнула мою мать за лифт и попросила ее принести чайную ложечку, а меня открыть рот. Потом она сказала, что нужно еще полежать по крайней мере два дня, я ушла.
Два дня… Я лежал два дня и думал. Я думал о копии мальчика, которую, если верить карточке Староверцева, нашел отец Громова. Со времен юрского периода, того периода, когда на Земле жили ящеры, прошло много миллионов лет. Значит, копия лежала в земле и терпеливо ждала, когда на Земле появятся разумные существа, способные понять ее язык и войти с ней в общение.
Мне захотелось узнать побольше о юрском периоде, и я попросил мать, чтобы она принесла мне учебник палеонтологии, по которому учился старший брат, когда был студентом. Мать учебника не нашла и принесла мне «Палеонтологию позвоночных».
И тут я узнал о странном факте, который меня прямо потряс. Оказывается, в юрском периоде существовал динозавр, имевший маленькие передние нош с подчеркнутой хватательной функцией и не имевший зубов. И этот маленький динозавр специализировался на том, что воровал яйца более крупных динозавров.
И автор книги высказывал предположение, что именно от этого ящера с его необычайно подвижной нервной системой произошли млекопитающие, а значит, и люди.
И я подумал, что раз существует информационная копия мальчика, то можно проверить, справедлива ли эта гипотеза. Мне самому она показалась не совсем справедливой.
Через два дня, придя в школу, я решил показать карточку, забытую у меня Староверцевым, самому Громову.
Я чувствовал себя так, словно потерял под ногами почву я летел в пропасть, но я ничего не мог с собой поделать, желание выяснить тайну было сильнее меня.
Выбрав минуту, когда в классе не оказалось Дроводелова, я достал из кармана карточку и молча протянул ее Громову.
Я не сводил глаз с лица Громова, и сердце мое билось, и мне становилось то жарко, то холодно, и я думал, что ко мне вернулась ангина. Такие случаи бывают.
Эта минута показалась мне длиннее часа. Потом Громов отдал мне карточку и спокойно спросил:
– Ну и что? Что тебя тут удивило?
– Как что? – ответил я. – Разве с копией мальчика подтвердилось?
– Подтвердилось.
– Он ссылается на газету. Разве в газетах об этом было?
– Нет. Староверцев узнал от меня. А на газету он сослался для большей убедительности. Ему не хотелось ссылаться на частное лицо. А я – частное лицо.
Наш разговор был прерван звонком. Вошел Марк Семенович, начертил на доске прямоугольный треугольник и голосом с вечно сомневающейся интонацией стал доказывать нам теорему. Стуча мелом о доску, он доказывал так, словно сам не верил своим доказательствам. Конечно, во всем была виновата интонация, которая не соответствовала логическим выводам, вытекавшим из доказательств.
Я совсем выключился и не слушал Марка Семеновича и вместо теоремы думал о динозавре, воровавшем яйца более крупных своих современников. Не может быть, думал я, чтобы от этого воришки произошли все млекопитающие, а значит, и люди, меня вовсе не устраивал такой предок. А установить истину можно только с помощью мальчика, информационная копия которого была найдена отцом Громова.
Только мальчик мог опровергнуть эту сомнительную гипотезу, потому что он побывал на Земле еще в юрский период.
При одной мысли о том, что копия мальчика существует и что подробности я могу узнать от Громова, как только окончится урок, меня охватывал то сильный озноб, то не менее сильный жар. И я подумал, что врачиха, боясь коварных дверей лифта, выписала меня раньше срока. И за это я мог быть ей только благодарен. Я не имел права терять ни одной минуты. А минуты шли, и Марк Семенович все еще продолжал объяснять, удивленно глядя на свой треугольник на доске и как бы сомневаясь в том, в чем уж никак нельзя было сомневаться.
Я подумал, что он сомневается в теореме и в ее доказательствах, разработанных еще Пифагором или Эвклидом, а я сижу и не сомневаюсь в существовании копии мальчика только потому, что верю карточке и Громову.
Потом прозвенел звонок. Марк Семенович стер мокрой тряпкой треугольник и свои доказательства, а затем ушел в учительскую. И я хотел было подойти к Громову, но возле него уже стоял Дроводелов. И стоял он не просто так, как стоят все. В руке у него был листок, весь покрытый мелкими цифрами. Я решил, что это какая-нибудь задача, которую Дроводелов не смог решить, но тут все объяснилось. На листе, который Дроводелов протянул Громову, были произведены расчеты, сколько мальчик съел, выпил и выдышал, находясь так долго в пути. Дроводелов протягивал этот листок Громову с таким же видом, с каким, наверное, протягивает счет в ресторане официант, ожидая оплаты.
Громов сделал жест рукой, как бы показывая, что он не хочет брать этот счет. Но Дроводелов настаивал, чего-то требовал и не отставал.
Я догадался, что в этот злополучный день мне не удастся поговорить с Громовым. Дроводелов от него не отступится.
Возвращаясь домой, я думал о той ниточке, которая соединяла млекопитающих с ящерами через того динозавра, у которого передние ноги обладали хватательной функцией. И если бы этот динозавр от чего-нибудь погиб, то на Земле не появились бы млекопитающие и в том числе даже я сам.
Я думал об этом. И опять два голоса в моем сознания спорили между собой. Один голос был согласен с гипотезой о происхождении млекопитающих, а другой ему возражал.
Когда я вошел в парадное и хотел вызвать лифт, оказалось, что лифт испорчен. Сигнальный фонарик не зажегся. Я поднялся на второй этаж и попытался открыть дверцу, но она не открылась. А внутри лифта кто-то сидел и ждал помощи.