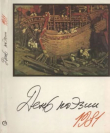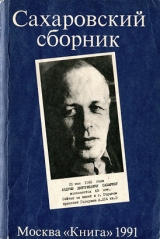
Текст книги "Сахаровский сборник"
Автор книги: Александр Бабенышев
Соавторы: Евгения Печуро,Раиса Лерт
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 24 страниц)
С. Каллистратова
АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ САХАРОВ…
Это не только глубокий ум ученого, это не только чуткая совесть гражданина, это не только мужество борца за справедливость. Это – большое доброе сердце, отзывчивое на чужую боль. Это стремление помочь не только людям, но и каждому отдельному человеку, попавшему в беду.
Недавно на обыске у меня дома изъяли целую груду писем, адресованных Андрею Дмитриевичу Сахарову, и копий ответов на эти письма. Писали интеллигенты и рабочие, крестьяне и пенсионеры, писали старики, юноши, девушки и даже дети. Писали порой по фантастическим адресам: Москва, защитнику прав А.Д. Сахарову; Москва, Комитет защиты прав человека и т.д. И письма тогда еще доходили. Письма шли со всех концов страны, из больших городов и маленьких деревень. И каждый листок – как последний крик отчаявшегося человека о помощи, о защите. Несправедливо осудили, и никто не хочет разобраться в деле – отвечают отписками. Отказывают больному старику в пенсии. Незаконно отобрали дом, выстроенный на сбережения целой семьи. Не помещают в больницу. Не предоставляют жилья. И сотни других вопросов. Автор письма перечисляет десятки официальных ответов – формальных отписок на десятки поданных в советские инстанции жалоб. И каждый просит: "Помогите добиться правды, справедливости". Андрей Дмитриевич находил время и силы читать все и всем отвечать. По многим письмам он от своего имени обращался в Прокуратуру, в Министерство социального обеспечения и в Министерство здравоохранения, в райисполкомы и т.д. Увы, как правило, он не получал ответов из "инстанций". Зато как искренне благодарили его в повторных письмах люди, получившие от него советы, разъяснения и просто сочувствие, человеческие отклики.
Незаконная ссылка Андрея Дмитриевича пресекла поток писем. Наверное, люди еще пишут. Но письма уже не доставляются адресату. И вот эта переписка – изъята КГБ как "крамольная", "преступная". И будут лежать письма, полные человеческой боли, и ответы, полные душевного сочувствия, пока их не сожгут "как не имеющие ценности". И вряд ли кто-либо теперь прочтет эту переписку. А жаль! Не только материал для интересных социологических исследований дает эта переписка. Много практических выводов на модную сейчас тему "Жалобы и письма трудящихся" можно извлечь из этой переписки.
Изолированный от друзей, лишенный всякой возможности общаться с людьми, подвергающийся моральному (а порой и физическому!) насилию со стороны властей, Андрей Дмитриевич был, есть и будет правозащитником в самом высоком смысле этого слова.
В день 60-летия мне хочется сказать Андрею Дмитриевичу: "Вы очень нужны нам, Вашим друзьям, Вы очень нужны нашему больному обществу!".
Н. Комарова-Некипелова
"Как-то к нам попало письмо…"
Как-то к нам попало письмо, совершенно необычное по своему содержанию и исполнению. Оно было таким простым и так наполнено было бедой и каким-то одиноким отчаянием, что невольно вошло в память со всей орфографией, все, как есть.
Я сознательно не привожу адрес человека, написавшего его, чтобы как-то не повредить ему.
Письмо было адресовано А.Д. Сахарову. А в нем значилось:
г. Москва
В Министерство прав в Защиту человека
от гражданина Гущина Ивана Максимовича, 1915 года рождения проживающего в деревне Слобода …
Заявление
Прошу вашой помощ расмотреть мое заявление и помочь мне о ниже вказаном. Я гражданин Совецкого союза учасник Отечественной войны имею награды и прошу вашей помощи добиться как либо пенсии уже год прошол а я никак не могу стать на пенсию имею тяжелое раннение в грудную клетку ношу сейчас в себе осколки что и светит справка о ронении. И вот мне не хватает стажа 2 года и за точь не могу стать на пенсию а почому что я после войны попал в заключение и пробыл я там 17 лет в чом прошу вас помочь мне и выслать разъяснение ниже стоящим органам и так же мне чтобы я мог как либо сущевовать на севонешний день потому что я работать физически не могу после ранений И вобще по старости И вот летнее время пасу коров не много зароботую а зимнее время ничем не занимаюс. И притом вышел из заключения не имею ни кола и ни двора и за время войны потерял не токо здорове но потерял и семю и все скитаюсь сам собою как волк где придется и как придется Так моя жизнь и проходит.
Прошу в моей прозбе не отказать.
3.7.76
Так и сейчас пастухом сижу на пенку и пишу.
проситель Гущин И.М.
То, что в мыслях, в сердце этого простого человека, пастуха живет сознание, что есть в нашей стране Правда, есть «Министерство прав в Защиту человека», и надежда, что оно поможет, – не награда ли это жизни?
Так значителен для всех нас Андрей Дмитриевич Сахаров, что невозможно пастуху деревни Слобода Ивану Максимовичу, прослышавшему об Андрее Дмитриевиче Сахарове как о великом заступнике людей, представить его иначе, как Министром Прав в Защиту человека.
Академик Сахаров сослан в Горький, против него ведется активная кампания всеми средствами официальной массовой пропаганды, но авторитет А.Д. Сахарова, уважение к нему не становятся меньше. Можно устрашить людей, можно заставить их замолчать, но обмануть – трудно. И люди все равно тянутся к Сахарову, узнают его адрес, спрашивают о нем, передают теплые слова. А самое удивительное, что, несмотря на государственную опалу, надеются на него.
Караул у дверей бессилен против Совести, Чести, Достоинства, которые в наши дни в нашей стране именуются Мужеством.
В людях обиженных, ищущих поддержки и помощи, живет образ сильного и могучего – это Сахаров.
В людях, отстаивающих свои права человека, живет образ мужественности – это Сахаров.
И выше этой премии, человеческой премии Доверия ничего не может быть.
В. Помазов
В ЛЮБЛИНО
И вновь «открытые» суды,
Депо, железная дорога,
Судьба высокая от Бога
И крылья черные беды.
На горле сомкнуты клыки.
Час за год в муке ожиданья.
Пред скучным двухэтажным зданьем
Снуют жуками «воронки».
И вновь – за все моя вина.
Куется мужество любовью.
Но волк не захлебнется кровью —
Нас только горсточка одна
В пустых зрачках отражена
Назойливых как мух гебистов.
Речь иноземных журналистов
Порхающе отстранена.
Гремят разлуки поезда
И привкус крови в ломте хлеба.
Над всем пронзительное небо
Предвестьем Высшего Суда.
Е. Печуро
ЧЕЛОВЕК ИЗ БУДУЩЕГО
Человек будущего живет сегодня, здесь, вместе с нами. Не удивительно ли это? Но мы, в своей повседневности и заботах (тысячелетия «довлеет дневи забота его»), мы как бы и не замечаем, что это личность, не укладывающаяся в рамки своего времени.
Вопиющая дисгармония эпохи, стократно усиленная здесь, где мы живем и сейчас, когда горло стянуто удавкой репрессий и вооруженный кулак занесен над Польшей… Остро ощущаемое противоречие между необходимым и возможным – ощущаемое до степени задыхания без необходимого, до необходимости требовать невозможного, до невозможности, кажется, жить, не преодолев этого противоречия хотя бы мысленно, внутри себя, – до понимания невозможности разрешить это противоречие даже для себя иначе, чем собственным поступком…
Кто из тех, чья собственная судьба не ограничена житейским благополучием, кто и будучи благополучен – несчастлив несчастьями других, кто из мучающихся отсутствием свободы и справедливости, хотя бы в тех границах, в которых они уже существуют в других странах земли, – кто из готовых если не на поступок, то на мысль, свободную от ограничений страха и сознания невозможности необходимого, может, положа руку на сердце, сказать, что достиг тем самым внутреннего равновесия?
Я думаю, этого не скажет о себе и Андрей Дмитриевич, хотя не страх, конечно (разве что страх за близких), но сознание глубины разрыва между необходимым и возможным присуще ему в большей степени, чем другим. Потому что он видит наше сегодняшнее из будущего.
Это не то будущее, каким его представляли утописты разных времен, полагавшие, что знают, чего человеку не нужно, и из этого негативного знания выводившие нормативные утверждения того, что же ему нужно. Это не некогда обещанное нам отцами Октябрьской революции конечное "светлое будущее". Это будущее бесконечное, суть которого в самом себе, в своей способности каждодневно выходить за собственные пределы, отвергая те формы несвободы человека и общества, которые создает человечество на своем пути. Недаром же любимая идея Андрея Дмитриевича – преодоление разобщенности человечества как решающее условие на пути к миру и свободе. Неделимость мира, как и неотделимость его сохранения от сохранения прав человека – это не просто кредо, проповедуемое А.Д. Сахаровым, это предмет его повседневной заботы, содержание его жизни.
Если целостность мира и целостность человека со всеми его потребностями и правами столь взаимозависимы, то как можно жить этим, зная, как говорит Андрей Дмитриевич, что "сделать, по-моему, почти ничего нельзя"? Что тот "факт, что мы выступаем, еще не означает, что мы на что-то надеемся"? Как можно постоянно обращаться к властям с различного рода конкретными предложениями (например, об отмене смертной казни или о политической амнистии) и даже целыми программами (например, программой решения афганской проблемы) и знать, что не встретишь ни ответа, ни понимания, ибо "у них другой образ мыслей"? Как понять, что, утверждая это, Андрей Дмитриевич при всех условиях (даже сейчас, в Горьком, сосланный, вернее – заключенный под домашним арестом без права свиданий и переписки, под постоянной угрозой самому физическому своему существованию) неуклонно продолжает выработанную им линию поведения, сохраняя то высокое состояние духа, которое просто невозможно без равновесия в самих его глубинах? Я нахожу один лишь ответ на это: то глубинное равновесие, без которого не могла бы состояться такая жизнь, какой он живет, дается ему видением будущего из свойственной ему – будущему – способности преодолевать настоящее.
Процесс преодоления разобщенности рода человеческого и отчуждения человека составляет суть истории человечества, но о реализации его – всегда частичной! – люди узнают лишь пост фактум, рассматривая свой вчерашний день в свете сегодняшнего. Андрей Дмитриевич Сахаров из тех, кому "завтра" дано как "сегодня".
Андрей Дмитриевич Сахаров не супермен. Конечно, он большой ученый, человек большой души… Но истинные масштабы его личности определяются прежде всего тем редчайшим совпадением потенциальных возможностей и их реализации, той редчайшей гармонией слова и дела, которые тоже дают нам право назвать его человеком будущего: актуально существующим потенциальным человеком. И – повторяю это еще раз – не нормативно, не навсегда ставшего, а всегда и постоянно становящегося, преодолевающего себя, как настоящее – будущим.
Виктор Некрасов
СТРАННЫЙ ЧЕЛОВЕК
Я отношусь к той редкой категории людей, которые не любят, даже побаиваются знаменитостей. То ли робею перед ними, то ли боюсь показаться глупее, чем я есть на самом деле, или ляпнуть что-нибудь, из-за чего век потом будешь краснеть. Короче – избегаю их. И кусаю теперь локти, так и не познакомился – а ведь мог, мог же – ни с Борисом Пастернаком, ни с Анной Ахматовой (в первый и последний раз встретился с ней в Никольском соборе в Ленинграде, навеки успокоившейся). И к Михаилу Зощенко тоже не подошел, хотя и присутствовал в тот памятный вечер в Союзе писателей, на улице Воинова, когда он, волнуясь и запинаясь, читал свои рассказы ленинградским писателям, не менее его волновавшимся – это было за год-полтора до его смерти.
Короче – не тянет меня к великим людям, боюсь я их.
Но когда, совершенно неожиданно (хотя и с предварительным, конечно, звонком из Москвы), за нашим обеденным столом в Киеве оказался застенчивый, немногословный и, главное, ни грамма не приемлющий академик (стол к этому, признаюсь, не привык), я сам себе не верил. К тому же несколько озадачен был, почему два крохотных кусочка с таким трудом раздобытой и с таким старанием приготовленной моей женой селедки непременно надо было разогревать.
"Андрей Дмитриевич не любит ничего холодного, – развела руками Люся, его жена. – Ученых без странностей не бывает… И кисель разогреть придется. И балкон прикрыть."
Прикрыл, что поделаешь.
Да, у Андрея Дмитриевича много странностей. Не только селедка, кисель или полная растерянность у железнодорожной кассы, где книжечка Героя Социалистического Труда (трижды!) в момент решает все транспортные проблемы. Вероятно, есть десятка два или три других еще странностей, но есть одна, к которой никак не могут привыкнуть, просто понять люди, считающие себя руководителями нашей страны. Этот человек ничего не боится… Ничего! И никого!
Отвага, доблесть, бесстрашие, храбрость, героизм? Нет, все эти прекрасные, возвышенные понятия к Сахарову не применимы. Думаю, у него начисто атрофировано это чувство – чувство страха. Может, просто не думает об этом? И на другие дела, поважнее, не хватает времени. Люди, люди, люди. Судьбы…
Я хотел бы, но не имею права причислить себя к числу ближайших друзей Сахарова – редко виделись и склада мы разного (мое обычное "без ста граммов не разберешься" ему, увы, чуждо), к тому же особым честолюбием или тщеславием я не отличаюсь, и все же… Я бесконечно горд (подчеркиваю эти два слова), что самый благородный, самый чистый, самый бесстрашный, добрый и, вероятно, самый ученый (в этом я, правда, не разбираюсь, в школьные годы у меня по физике был репетитор) человек относится ко мне с благосклонностью и даже прощает кое-какие грехи.
И еще горжусь тем, что только у меня, единственного на всем земном шаре, есть фотография Андрея Дмитриевича, сделанная лично мною в Москве, в больнице, фотография, которой нет ни в одном "Лайфе", ни в одном "Пари-матче" или "Штерне". И не будет. Она есть только у меня. Стоит на книжной полке. Она по-сахаровски чуть смущенно улыбается мне. Когда я утром просыпаюсь, это первое, что я вижу. И мне становится как-то теплее… Потому что этого великого странного человека я не только люблю, но и не боюсь.
В. Тростников
СМЕРТЬ ИВАНА ИВАНОВИЧА
И у меня был край родной:
Прекрасен он!
Там ель качалась надо мной:
Но то был сон!
А.Н. Плещеев
Иван Иванович был не просто ответственным работником – он был ответственным работником, нащупавшим мудрую линию поведения. В чем же она заключалась? Сейчас поясню. Скажем, входит к нему в кабинет начальник подведомственного отдела и подает затребованную бумагу. Но Иван Иванович смотрит не на бумагу, как делают большинство руководителей, а на лицо вошедшего. И по выражению лица он сразу видит, чего тот ждет – разноса или похвалы. Это самое ему и дается. Но преподносится это так, будто лишь глубокая осведомленность в существе дела позволила принять правильное решение. В результате, даже когда аудиенция оборачивается нагоняем, посетитель покидает кабинет с чувством уважения, а то и восхищения.
Овладев этими высшими тонкостями своей работы, Иван Иванович дослужился бы в конце концов и до совсем большого поста – такого, о каком в молодые годы не мечтал и во сне. Следующий должностной уровень был уже тот, когда о вас упоминают в отчетах о приемах или встречах в аэропорту – правда, не по фамилии, а во фразе "…и другие", но ведь на фотографии все равно видно, кто был среди этих "других". Да, вполне возможным и даже очень реальным было это повышение. О нем уже и наверху поговаривали, как доверительно сообщали Ивану Ивановичу его друзья. Но все повернулось иначе.
Он как-то не думал об этом, а годы шли себе и шли. А в последнее время вообще стали лететь. И вот, незаметно, потихоньку, он добрался до какого-то рубежа и почувствовал, что он уже не тот. Раздался первый звонок.
В чем он состоял? Если сказать совсем кратко – в появлении безразличия. Настало безразличие ко всему – к деньгам, еде, курортам, туристическим поездкам за границу и даже к благорасположению начальства. Оставались, пожалуй, только две вещи, которые все еще радовали, – спортивные передачи по телевидению, особенно футбол, и прогулки вдоль реки с собакой.
Физическое здоровье было у него все еще хорошим, даже завидным. Редко давало знать о себе сердце, не болели ни печень, ни почки, ни желудок. Сохранялась сила в мышцах и редкая для этого возраста выносливость. И сон был достаточно крепким, не тревожным. Но внутри что-то изменилось, стало неживым, холодным. Жизнь сделалась неинтересной, даже тягостной. Как-то вечером Иван Иванович поймал себя на дикой мысли: хорошо бы так сейчас заснуть, чтобы никогда больше не просыпаться…
А началось все с одной случайной встречи – между прочим, как раз во время прогулки с собакой. Старый рыбак, не спеша смоливший свою плоскодонку, рассказал Ивану Ивановичу о том, как два раза был в германском плену – в восемнадцатом и в сорок четвертом. Первый плен он вспоминал с удовольствием – жил тогда в батраках у богатого крестьянина, колбасы – ешь, не хочу, молоко пил вместо воды. Второй плен был ужасен. Спасся он лишь чудом: когда их перевозили из одного концлагеря в другой, попросил товарищей просунуть себя в маленькое окошко под потолком теплушки. Был он тогда страшно тощим, ребята поднажали, и он вывалился наружу. Дело было ночью, поезд шел полным ходом. Кое-какие кости, конечно, поломал, но жив остался. По ночам крался, днем прятался в лесу, в кустах. Когда добрался до Украины, скрывался у своих. Ну, и так далее – дело понятное. Иван Иванович и раньше слышал о подобных вещах.
Но на этот раз он воспринял все не как обычно и долго не мог забыть рассказа. Не то поразило его, что люди такое пережили, а что-то другое. Спокойная, добрая речь старика, в которой не было ни малейшей обиды и жалобы, никакого призыва к мести, заставила его по-новому взглянуть на народную жизнь и увидеть в ней такой пласт, которого он прежде не замечал. С этой поры он часто думал о нем и думал не умственно, не логически, а как бы сердцем, инстинктом. И этот пласт начинал казаться ему все более значительным и серьезным.
Это создавало в нем беспокойство. Всю жизнь он ставил на первое место партийные установки, и вдруг обнаруживалось, что есть что-то еще более значительное. Он спрашивал себя: "Но что же это такое?" И не мог найти вразумительного ответа. Он чувствовал только, что это – какая-то подлинная, корневая, народная жизнь, в которой жестокость и доброта являются не противоборствующими разными началами, а двумя сторонами чего-то одного, более фундаментального, что смягчает жестокость, а доброту делает неизбежной. Эта – та жизнь, о которой говорят "не поле перейти" – нешуточная жизнь, всегда тяжелая, но которую невозможно раз и навсегда облегчить, потому что тогда она перестанет быть нешуточной. Это – вроде песни, которую надо бы петь рыдая, а Ковалева поет ее лишь с протяжной задумчивостью:
На последний мой денечек
Я дарю тебе платочек.
На платочке – сини коймы,
Возьмешь в руки, меня вспомни…
Эта трудно уловимая, но очень важная реальность неожиданно появилась и в каких-то далеких его воспоминаниях, связанных с витебским дедом, с приезжавшей из Михнева тетей Марфой, с полуфантастической крестьянской избой, с русской печью, на которой набросаны тулупы и валенки. И хотя он не мог понять, где это видел и когда, оно порой становилось самым главным – будто, если бы этого не было, то не было бы и вообще ничего.
Где-то совсем близко от поля ясного сознания в нем жила теперь глухая тоска, которая давала о себе знать в самый неподходящий момент, и тогда возникали конфузы.
Один из подобных конфузов случился в жаркий июльский день, когда Иван Иванович с секретарем райкома, областным архитектором и двумя референтами по промышленности посетил совхоз, где планировалось построить маслозавод. Осмотрели площадку, сверили местность с чертежами, обсудили детали проекта, и на этом работа закончилась. А машины еще не было – шофера отпустили на три часа, а управились за два. В правлении – духота, мухи, поэтому вышли наружу, сели в палисадничке на скамейку. Вдруг Иван Иванович с вожделением подумал о холодном молоке из погреба и решил пойти поискать избу с коровой. Около разрушенной церкви с шатровым верхом увидел колодец. Бабуся крутит ручку, вытаскивает ведро. Взялся ей помочь, донес воду до дому. Изба ее оказалась недалеко. Вошел за ней во двор, поставил ведра, попросил кружечку – водицы испить.
– Иди в горницу, отдохни, сейчас налью.
– А молока у вас тут нет нигде?
– Какое, милок, молоко: на всю деревню одна корова.
Он вошел в просторную чистую избу с бревенчатыми стенами, и его взор прямо-таки притянула огромная, в метр высотой икона в широкой деревянной раме и под стеклом. Если он и видел нечто похожее, то разве в Третьяковской галерее или в Новгородском кремле. Богородица, изображенная во весь рост, в профиль, идущая быстрым шагом, так, что одежда на ней развевается. По византийскому лику и темным краскам видно, что икона – очень старого письма.
– Откуда у вас этот образ?
– А вот, из той самой церкви, где мы воду брали. "Боголюбимая". И церковь называлась "Боголюбимая". Это – храмовая икона, она висела у входа. В тридцать шестом году церковь закрыли, я тогда ее и спрятала. А теперь, видишь, не стала бояться, повесила в горнице. Чай, нынче не тронут.
– Но ведь это большая ценность. Я думаю, музей купил бы ее с удовольствием. Вы не обращались?
– Как не купил бы! Только не продам я музею. Тут из Петровской церкви, действующей, священники приходили: дай, говорят, в наш храм, пусть люди молятся. Даже и деньги предлагали.
– Так почему же не отдали?
– Эх, сынок, нельзя из села отдавать – захиреет тогда село, расстроится. А может, и нашу церковь когда откроют, как же тогда без храмовой иконы? Пусть у нас будет.
Иван Иванович еще раз взглянул на икону. Идет себе Матерь Божья по нашей земле и благославляет ее… Да…
Поблагодарив хозяйку за гостеприимство, он вышел из дома. К правлению ближе было пройти задами. За калиткой заросли таволги, пустырника, медовый запах. Некошенная трава! Некому косить, да и незачем – нет коров. Бабуся говорит – захиреет село… О, Господи, да разве уже не захирело? Где все былое – крепкие хозяйства, покосы, кони в ночном, деревенские хороводы? Снова в его памяти всплыли дедушка с теткой Марфой, на сердце легла тяжесть. Ведь он – один из тех, кто яростно уничтожал все это. Агрогорода, блочное строительство на селе… Но не это гнетет душу, не надо притворяться, будто крестьян жалко. Жалко себя. Никогда не будет в моей жизни тихой речки с кувшинками и ряской, стука вальков на мостках, прелого запаха сена. Прошло это мимо меня, и прошло безвозвратно. А был в моей жизни вечный сигаретный дым совещаний, были вечные интриги и подсиживания, неофициальные телефонные звонки сверху и наверх. И еще – псевдодемократический жаргон, на котором говорят друг с другом партийцы и который есть сплошное лицемерие, так как имеется масса интонаций и нюансов, сразу же указывающих посвященному точное место всякого в иерархии. Все вроде бы на "ты" и все запанибрата, но всякий сверчок знает свой шесток. В общем, вместо красоты и приволья были даны мне судьбой пошлость и кабала. Но все дело в том, что свою судьбу я выбрал сам.
Он подошел к ожидавшим его коллегам, и тут как раз и случилась неловкость. Румяный референт с толстыми влажными губами и рыжей кудрявой шевелюрой, желая, видимо, его порадовать, сказал с весельем в голосе: "Думаю, вы были последним гостем в этой избе. Как только начнется строительство маслобойни, так сразу же все это снесут". И он круговым движением руки обвел ту площадь, где все будет снесено. В этот круг попадала бывшая церковь, а в самом его центре, как показалось Ивану Ивановичу, находилась благославляющая нашу землю "Боголюбимая". И тут, ничего не ответив, он быстро отвернулся и стал изо всех сил кашлять, а потом пошел к забору, будто бы высматривать машину.
Конечно, его сослуживцы не были способны понять причину появившихся в его поведении странностей. Если бы он даже с полной откровенностью объяснил им, что на него нежданно-негаданно навалилась неудовлетворенность прожитой жизнью, они только рассмеялись бы и ответили: "Ну хорошо, Ван Ваныч, пошутили, а теперь скажите правду, поведайте нам истинную причину". Ведь каждый из них отца родного бы продал, только бы достигнуть того, чего он достиг. Тем не менее все почувствовали, что с ним происходит что-то неладное, и разговоры о повышении как-то сами собой прекратились.
Кончилось это тем, чем должно было кончиться. Однажды его вызвали по каким-то выдуманным делам в центр, и когда с ними было улажено, перешли к главному. Партийный шеф – тот самый, который поддержал его последнее назначение, – закурил, дал и ему сигарету, похлопал его по колену и прочувственно произнес: "Устал ты, Ван Ваныч, ох, устал. Много, много сил отдал работе. И столько ведь ты сделал, что просто позавидуешь… А помнишь…"
И тут он начал говорить об их совместной работе в области, а затем и в центре, стал вспоминать случаи, когда Иван Иванович необычайно остроумно выходил из трудных ситуаций. Приподнятый тон, каким это говорилось, похожий на тот, который принят на поминках, подействовал на обоих, и они вместе прослезились. Но в глубине души Иван Иванович уже твердо знал, что все сделанное ими – чистая фикция, что все трудности, из которых он научился ловко выпутываться, возникали только от несоответствия между партийными установками и реальной жизнью, что все они крутились в искусственном, ими же созданном пространстве, и их усилия не только не оказывали пользы корневой народной жизни, но и постоянно наносили ей вред. Он знал, что если пласт настоящей жизни еще сохранился, то не благодаря этой их деятельности, а вопреки ей.
Ему дали отставку на максимально льготных условиях – с персональной пенсией союзного значения и с правом пожизненного пользования государственной дачей. И именно эта дача постепенно успокоила его и излечила от апатии. В первое лето на его участке росло все, что хотело, – и раскидистая недотрога с маленькими желтыми цветками, и громадный, в рост человека, дягиль, и золотистый донник. Но на следующий год он произвел основательную расчистку земли под полезные культуры. На два сезона он увлекся клубникой, и тогда варилось много варенья, которым угощали даже соседей. Но затем расчеты привели его к мысли, что более выгодным является разведение цветов, и он с головой окунулся в новое занятие. Пришлось читать специальную литературу, ездить к опытным людям за консультацией, но все это вознаградилось с лихвой. Весной шли тюльпаны, в начале лета – пионы, затем гвоздики, а к осени расцветали георгины и хризантемы. Надо было все это продавать. И тут у него начал появляться вкус к денежной выручке. Сначала он отдавал все по оптовым ценам знакомой женщине, которая возила цветы на городские рынки, но со временем, преодолев смущение, сам стал за прилавок. Участие перекупщицы было слишком накладным, и допустить его он уже не мог. Он делался все более скупым и наконец стал подумывать об использовании каждого квадратного сантиметра участка. Некоторые из растущих на нем деревьев, которые давали особенно вредную для цветов тень, он систематически поливал кислотой и, когда они засохли, добился у лесничества разрешения их спилить.
К чему привела бы его эта новая фаза внутренней эволюции, осталось до конца невыясненным, ибо однажды среди бела дня его хватил инфаркт. В ожидании "Скорой помощи" родные уложили его на диване, засуетились, заохали. А последняя фраза, услышанная им, была такая: "Надо получить по дядиному пропуску продукты в спецраспределителе, пока там не знают, что он умер".
.........................
Но эти слова никак не обидели его, не задели его душу. Он даже не понял их смысла. Он был уже далеко от того места, где содрогалось в агонии его тело.
.........................
Он вышел из холодной тени лесной опушки на ярко освещенное косым утренним солнцем большое поле, поблескивающее тысячами еще не оттаявших после ночного мороза лужиц, и пошел к другому концу поля, но пошел не по прямой, а все время меняя направление, чтобы всей тяжестью наступить на самую середину ближайшей остекленевшей лужицы. И когда он делал это, от ее краев начинал бежать к центру звук как бы гавайской гитары, который быстро нарастал и заканчивался приятным хрустом, а нога его в этот момент проваливалась на несколько сантиметров вниз.
Что ждало его на другом конце поля, никому из нас знать не дано. Судьба его души – великая тайна, которую здесь, на земле никто приоткрыть не может. А о судьбе его праха рассказала в своих стихах Инна Лиснянская:
А поодаль, за оградой, спят, разжавши кулаки,
Ряд за рядом, ряд за рядом, старые большевики.
И над ними – ни осины, ни березы, ни ольхи, —
Лишь посмертные кручины да бессмертные грехи.
Да казенные надгробья, как сплоченные ряды…
Господи, Твои ль подобья дождались такой беды!