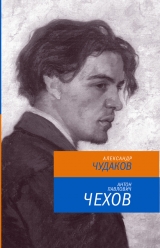
Текст книги "Антон Павлович Чехов"
Автор книги: Александр Чудаков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Таковы же были и редакция «Мирского толка» на Бригадирской, редакция «Москвы» в доме Зверева на углу Знаменки и Арбатской площади, «Новостей дня» на Тверской вблизи Газетного переулка, таков был «редакционный чердачок» «Зрителя» на Страстном бульваре.
Редакционные разговоры, беседы с литературными вкладчиками журналов происходили в трактире, за кружкой пива, «на купецкий манер». Именно так произошло одно из важнейших событий в жизни Чехова – приглашенье его в «Осколки». Редактор журнала Н. А. Лейкин обедал с поэтом Л. Пальминым, потом поехал к нему. «Было это зимой, под вечер, но засветло, – вспоминал Лейкин. – […] Когда мы подъезжали к его квартире, сказал мне, указывая на тротуар: “Да вот два даровитых брата идут: один – художник, а другой – писатель. У него очень недурной рассказец был в “Развлечении”. Это были два брата Чеховы: Николай, художник, и Антон. Я встрепенулся. “Так познакомь меня скорее с ними, Лиодор Иванович! – сказал я Пальмину. – Остановимся”. Мы вылезли из саней. Пальмин окликнул Чеховых и познакомил нас. Мы вошли в ближайшую портерную и, за пивом, я пригласил сотрудничать в “Осколках” и Антона, и Николая Чеховых». Издатель «Московского листка» Н. И. Пастухов, пытаясь пригласить Чехова в свою газету, водил его «ужинать к Тестову, пообещал 6 к. за строчку» (Ал. Чехову, 1883).
Нравы «малой» прессы были основаны на исконном российском патриархальном принципе «хозяин – работник». И дело было не столько в том, что редактор чувствовал себя хозяином, сколько в том, что сотрудник чувствовал себя поденщиком, зависевшим от воли и настроения хозяина. Хозяин мог заплатить тут же, вынув деньги из конторки, не утруждая кассира (коли таковой вообще имелся). Тот же Пастухов любил рассчитываться со своими сотрудниками в трактире, за парой чая; говорил им «ты»; если был в духе, мог собрать сотрудников и пойти с ними париться в баню. Но он же вдруг решал задержать гонорар только потому, что за ним пришел не сам автор. Желая помочь вдове своего недавно умершего друга, Ф. Ф. Попудогло, Чехов хотел отдать ей свой гонорар, который Пастухов должен был ему за рассказ «Гордый человек» (подписанный, кстати сказать, полным именем Чехова без его разрешения). Рассказ был напечатан в апреле 1884 года. Побывав у редактора в октябре, О. Попудогло писала Чехову: «Душевно Вас благодарю за Вашу готовность помочь мне, но денег с Пастухова получить мне не удалось. Я у него была вчера, и он просил передать Вам, чтобы Вы потрудились сами пожаловать к нему за получением гонорара». И так издатель обращался с автором, в котором был заинтересован.
На всю жизнь запомнилось братьям, как Пастухов не заплатил Антону Чехову за рассказ, потому что какую-то очень небольшую сумму был должен издателю Александр. (Чехов дважды вспоминает об этом в своих письмах – в 1887 и 1903 годах.)
А. С. Лазарев-Грузинский нарисовал живую сцену коллективного похода литераторов за гонораром на квартиру к редактору «Будильника» А. Д. Курепину:
«– Дома?
– Дома. Просят вас подождать.
Сидим. Ждем час и два, затем выйдем из терпения и начинаем стучать в стенки, в двери. Появится какой-нибудь заспанный малый с пухом в волосах и с удивлением спросит:
– Вам кого?
– Курепина!
– Вот хватились! Да уж он уехал давно.
– Как уехал?
– Да так: вышел с черного хода, сел на лошадь и уехал.
– А про нас ничего не говорил?
– Говорил: пусть зайдут как-нибудь после; нынче мне некогда».
Получение гонорара сплошь и рядом зависело от настойчивости авторов. Когда однажды Николаю и Антону Чеховым деньги нужны были безотлагательно для платежа в гимназию за обучение Михаила, они, как вспоминал потом младший брат, «не ушли из одной редакции до тех пор, пока не вернулись туда с отчетом газетчики, продававшие журнал в розницу по гривеннику за экземпляр. Всю выручку братья и арестовали. (Очевидно, это был «Зритель» – единственный из «чеховских» журналов, в розничной продаже стоивший гривенник. – А. Ч.) Эти деньги я нес в гимназию в ранце, за плечами, и очень смутил инспектора, когда уплатил ему одними гривенниками».
Часто речь шла буквально о рублях. «Бывало, я хаживал в “Будильник” за трехрублевкой раз по десяти», – по свежим следам вспоминал Чехов (Лейкину, 5 сентября 1883 г.). В 1885 году М. П. Чехов писал брату: «Вчера я заходил к Липскерову. Он зашкандылял было. Я сказал, что сейчас еду в Воскресенск, что деньги нужны тебе и что я возвращусь к 26 числу. Он понатужился и дал три рубля». За два-три «подвала» своего романа «Драма на охоте», печатавшегося в липскеровских «Новостях дня» в 1884—1885 годах, Чехов получил три рубля (через год в «Новом времени» за рассказ, также занявший три газетных подвала в одном номере, Суворин заплатил в 25 раз больше).
Издательница «Будильника» Л. Н. Уткина заплатила Н. П. Чехову за иллюстрации в журнале мебелью (стол и канделябры можно сейчас видеть в чеховском музее в Москве, а стенные часы – в Доме-музее в Ялте). Тот же Пастухов, вспоминал В. А. Гиляровский, в счет части гонорара дал репортеру С. А. Епифанову пальто.
О жизни Чехова в эти годы могли бы впоследствии рассказать его тогдашние знакомые – литераторы Ф. Ф. Попудогло, В. А. Прохоров (Риваль), Г. А. Хрущов-Сокольников, Н. А. Путята, И. К. Кондратьев, С. А. Епифанов. Но Прохоров рано погиб от пьянства, от чахотки умер Путята, от алгоколизма и туберкулеза в больнице кончался Епифанов. Другие тоже умерли рано. А те, кто остались, не любили вспоминать прошлое, и в их немногочисленных мемуарах оно выглядит хоть и несколько экзотично, но вполне благообразно.
4
Литературная школа, пройденная Чеховым в молодости, казалось, никак не могла сформировать оригинального художника.
Главными жанрами юмористической прессы были так называемые «мелочи», писавшиеся по давно отвердевшим канонам, устоявшимся шаблонам. Чехов работал почти во всех этих жанрах.
Одним из самых распространенных был жанр комического календаря и разнообразных «пророчеств». Таковы «Брюсов календарь» и «частные» и «общие» предсказания «Стрекозы», «Новый астрономический календарь» журнала «Развлечение», предсказания «Осколков». И Чехов ведет подобный юмористический календарь в марте – апреле 1881 года в журнале «Будильник».
Популярны были различные афоризмы. И среди чеховских «мелочей» этих лет часты всевозможные изречения, мысли людей разных профессий, исторических и псевдоисторических лиц («Мои остроты и изречения», «Философские определения жизни», «Плоды других размышлений»), остроты, объединяемые Чеховым обычно под традиционными для «малой» прессы заголовками «И то и се», «О том, о сем», «Вопросы и ответы».
Подобные «мелочи», «финтифлюшки» – пожалуй, самый распространенный жанр юмористических журналов. В «Искре» уже в первый год ее существования (1859) появился отдел «Искорки» («Шутки в стихах и прозе, новости, стихи и заметки – внутренние и заграничные»); в «Гудке» (1862) – «Погудки. Извещения, слухи, афоризмы и замечания». В «старом» «Будильнике» (1865—1866) шутки такого рода объединялись под общими заголовками «Звонки», «Старые анекдоты», «Повседневные шалости», «Из записной книжки наблюдателя» (заметки, выводы, измышления и пр.), «Вопросы без ответов», «На память (вопросы, разные мысли и заметки)».
В журналах чеховского времени были уже десятки рубрик, под которыми помещались эти юморески. Например, в «Стрекозе» 1878 года: мысли и афоризмы; всего понемножку; крупинки и пылинки; кое-что; анекдоты, шутки, вопросы и ответы; комары и мухи; из архивной пыли; каламбуры, анекдоты, шутки. Или в «Будильнике» 1877—1884 годов: клише, наброски, негативы, корректуры; инкрустации, афоризмы; парадоксы; мелочишки; современные анекдоты; монологи, парадоксы и цитаты; пестрядь; росинки; мелочи, штрихи, наброски; пустячки; афоризмы, шутки, каламбуры; снежинки и кристаллы; между прочим.
Любили в юмористических журналах всякие комические объявления (например, специальный «Справочный отдел» существовал в журнале «Развлечение»). И Чехов открывает в «Зрителе» «Контору объявлений Антоши Ч.» (1881), печатает «Комические рекламы и объявления» (1882) в «Будильнике».
Несколько произведений раннего Чехова построено на использовании названий газет и журналов («Мой юбилей», «Мысли читателя газет и журналов»). Подобная игра названиями – один из самых привычных приемов «малой» прессы.
Примыкали к юмористической традиции и такие произведения раннего Чехова, как «Словотолкователь для барышень», «3000 иностранных слов, вошедших в употребление русского языка», «Краткая анатомия человека», «Дачные правила», «Руководство для желающих жениться». Шутки подобного рода чрезвычайно распространены в юмористической прессе 80-х годов.
Чехов сам отчетливо сознавал традиционность малых форм. «Просматриваю сейчас последний номер “Осколков”, – писал он Н. А. Лейкину в 1883 году, – и к великому ужасу (можете себе представить этот ужас!) увидел там перепутанные объявления. Такие же объявленияя неделю тому назад изготовил для “Осколков” – и в этом весь скандал…»
Традиционными для юмористики были всевозможные «Вопросы и ответы»: «Какое сходство между колесом и судьею? – Обоих надо подмазывать» («Весельчак», 1858, № 9). Чехов печатает свои «Вопросы и ответы» (1883): «Где можно стоя сидеть? – В участке».
Выступая и в этих жанрах, Чехов, однако, не оставался робким подражателем. Сравним «Предсказания на 1878 год» Утки (Н. Лейкина), напечатанные в «Стрекозе» (1877, № 52), с чеховскими из его «Календаря будильника» на 1882 год.
У Лейкина: « Февраль. В телеграммах прочтем, что Греция готовится к войне. Г. Суворин воскликнет в фельетоне, что западники – истинные либералы, а не славянофилы. Г. Нильский будет играть восемь раз в неделю». В остальных «предсказаниях» вяло варьируются те же темы.
Чехов предельно использует возможности жанра, доведя преувеличение до комического гротеска: « Март, 11. В г. Конотопе, Черниговской губ., появится самозванец, выдающий себя за Гамлета, принца датского».
Жанр «мелочей» рано начал тяготить Чехова. Особенно трудно давались ему самые ходкие в иллюстрированном юмористическом журнале подписи к рисункам: «Легче найти 10 тем для рассказов, чем одну порядочную подпись» (4 ноября 1885).
В дело шло все: уже использованные ранее собранные остроты, возникающие реальные ситуации. В январе 1883 года Чехов послал в «Осколки» тему о пожаре цирка в Бердичеве. Художник не успел вовремя сделать рисунок. «А теперь уже, – писал Лейкин Чехову в феврале, – рисовать на эту тему поздно». В другом письме Лейкин сообщал, что все же хочет заказать рисунки, утешал: «Впрочем, я полагаю, рисунок может долежать до нового пожара и не залежится».
Чехову показался забавным такой деловой подход, и он использовал ситуацию в качестве темы для журнала. Между сотрудником-художником и редактором происходит диалог, заканчивающийся так:
«Редактор. Не печальтесь, впрочем! Мы отложим этот рисунок до нового пожара! Недолго ждать придется».
Рисунок к этому диалогу сделал Николай Чехов, и вместе с подписью он был помещен в журнале «Свет и тени» (1883).
Юмористический журнал заполнялся, разумеется, не только «мелочами», «снетками». Были в нем и собственные жанры, претендовавшие на более серьезное содержание. Таким был, например, жанр юмористического физиологического очерка. Правда, собственным его можно назвать с большой натяжкой и только в том смысле, что из большой литературы подобный жанр уже ушел.
Жанры всякой развитой литературы редко исчезают совершенно; чаще жанр переходит в другой литературный «разряд», в газетную, «тонкожурнальную», юмористическую, детскую беллетристику. Отгорев в большой литературе, жанр десятилетиями может тихо тлеть в литературе массовой, не давая, разумеется, произведений высокого искусства, но все же сохраняя на этой литературной периферии основные жанровые черты.
Попадая в «малую» прессу, жанр меняется; сохраняя и даже иногда усиливая основные формальные признаки, он теряет свое общественно-идеологическое содержание.
Так было и с физиологическим очерком. Теперь эти очерки уже не претендуют на изображение какой-либо профессии и тем более целого сословия. По своему социальному диапазону новые «физиологии» имели мало общего со своим литературным родоначальником – знаменитым физиологическим очерком 40-х годов.
Всякий писатель, соприкасаясь с массовой литературой (ежедневная газета, вагонное чтиво), в какой-то мере усваивает черты некоторых жанров через нее. Это происходит тем успешнее, что все вторичное имеет известные, четкие черты. Такие черты были у физиологических очерков юмористических журналов. Именно отсюда их, скорее всего, усвоил Чехов. Жанр этот у него не привился, хотя он и написал несколько вещей в этом роде («Весной», «На реке» – 1886). Но мы должны быть благодарны этому жанру хотя бы за одно – за классический чеховский очерк «В Москве на Трубной площади» (1883).
Застылость жанров, предопределенность тематики вели к облегченности содержания юмористических журналов. Установка на комический тон, выискиванье смешного во что бы то ни стало влекли к балагурству и в серьезных вопросах.
Так, «Стрекозе» показалось очень смешным, что приехавший из Москвы философ, на лекции которого ходит весь Петербург, очень молод, и она писала о нем в таком тоне: «Володенька приехал от папаши из Москвы “лекции цытать” о позитивизме… Володенька еще только в годах Митрофана Простакова: ему всего двадцать два года; но прытью он давно перешагнул седовласых старцев… Бедный Огюст Конт, злосчастный Летре! Володя всем им пальчиком рожи чернилами вымажет» («Стрекоза», 1878, № 7).
Этот «Володенька» был известный философ Владимир Соловьев.
Приведенный пассаж появился в постоянном юмористическом обозрении «Стрекозы» – «Всякие злобы дня». Подобные обозрения существовали почти во всех юмористических журналах. Были они и в журнале Н. Лейкина, назывались: «Осколки петербургской жизни» и «Осколки московской жизни».
В июне 1883 года Лейкин предложил Чехову принять на себя составление «Осколков московской жизни». Обозрение должно было быть «по возможности поюмористичнее», в нем следовало «выпячивать», «ничего не хвалить и ни перед чем не умиляться». Чехов осознавал трудности и подводные камни этого жанра (о чем и писал Лейкину), но, видимо, не в полной мере. Во втором же своем фельетоне (кстати, по стилю очень похожем на обозрение «Стрекозы») он обрушивается на другого философа, разбирая его недавнюю брошюру: «Вы читаете и чувствуете, что эта топорная, нескладная галиматья написана человеком вдохновенным (москвичи вообще все вдохновенны), но жутким, необразованным, грубым, глубоко прочувствовавшим палку… […] Редко кто читал, да и читать незачем этот продукт недомыслия». Полемика с философом – К. Леонтьевым – была возможна (в нее уже и вступили В. Соловьев, Н. Лесков), но не такого тона. Освобождение от подобных оценок будет для Чехова делом непростым.
Но эволюция шла быстро. Уже через три года незнание имени В. Соловьева квалифицируется героем чеховского рассказа как «свинство» («Пассажир 1-го класса», 1886). А еще через три месяца Чехов напишет рассказ, где со всей резкостью выступит против либеральной журналистики, в своей полемике с Толстым исходящей из легковесных и расхожих представлений о его теории.
«Ошибка не в том, – говорит повествователь о герое рассказа, газетном обозревателе-фельетонисте, – что он “непротивление злу” признавал абсурдом или не понимал его, а в том, что он не подумал о своей правоспособности выступать судьею в решении этого темного вопроса […] Странно, в общежитии не считается бесчестным, если люди, не подготовленные, не посвященные, не имеющие на то научного и нравственного роста, берутся хозяйничать в той области мысли, в которой они могут быть только гостями. […] Начал он с того, что „все чуткие органы нашей печати уже достойно оценили это пресловутое учение”, затем непосредственно приступил к примерам из Евангелия, истории и обыденной жизни. С первых же строк его труда видно было, что он совсем не уяснил себе того, о чем писал».
Эти мысли развивает далее героиня рассказа, сестра литератора (рассказ первоначально так и назывался: «Сестра»), призывающая «отнестись к этому вопросу честно, с восторгом, с той энергией, с какой Дарвин писал свое “О происхождении видов”, Брем – “Жизнь животных”, Толстой – “Войну и мир”. Работать не вечер, не неделю, а десять, двадцать лет… всю жизнь! Бросить эту фельетонную манеру, а отнестись к вопросу строго научно […], как это делают настоящие добросовестные мыслители».
Непрестанная и добросовестная работа мысли, «штудировка, воля» становятся главными чертами молодого сотрудника юмористических изданий.
Противостоять инерции жанров, стиля, идеологии «малой» прессы было нелегко. Газеты, писал известный в 80-е годы критик А. Скабичевский в рецензии на чеховские «Пестрые рассказы», напоминают «те страшные маховики на заводах, около которых нужно обращаться с большой осторожностью. […] Газетные маховики […] не разрывают человека пополам и не раздробляют его костей, а еще того хуже: лишают его всякого образа и подобия человеческого, ассимилируют его с мертвым механизмом бесконечно вертящейся машины и обращают его в одно из колес этой машины».
Десятки литераторов, начинавших тоже «совсем недурно», очень быстро теряли свое лицо, приспосабливаясь к расхожим мнениям, ассимилируя газетную манеру и стиль. «И ни одному из них не приходит в голову, что время идет, жизнь со дня на день близится к закату, хлеба чужого съедено много, а еще ничего не сделано; что все трое – жертва того неумолимого закона, по которому из сотни начинающих и подающих надежды только двое, трое выскакивают в люди, все же остальные попадают в тираж, погибают, сыграв роль мяса для пушек…» («Талант», 1886).
Две такие судьбы Чехов видел рядом с собою.
Александр Чехов был старший и начал раньше братьев. Был ли у него талант? Антон Чехов ценил некоторые его рассказы, и очень высоко – письма, которые считал «первостатейными произведениями». «Пойми, – писал он брату, – что если бы писал так рассказы, как пишешь письма, то давно бы уже был великим, большущим человеком». Действительно, Ал. П. Чехов обладал счастливой способностью зафиксировать деталь, передать чувство, настроение. (Будущий исследователь покажет влияние этих писем на поэтику прозы Антона Чехова.) Но дарование это проявлялось только в эпистолярном жанре. Ему было очень просто написать письмо объемом в 5—6 книжных страниц, включающее несколько живых сцен и метких описаний, и очень трудно сделать еще одно усилие – быть может, главное – соединить это в целое и, отделив от себя, художественно объективировать. Как письмо все это было блестяще, для рассказа этого было мало.
Как всякому человеку сильного и смелого таланта, Чехову казалось, что такое последнее усилие сделать «легко, как пить дать», – именно поэтому он был так щедр на всевозможные советы. Но этой воли к целому, сосредоточенности, которая достигается огромной внутренней и внешней дисциплиной, – не было у Александра Чехова. А для «малой» прессы, газетной беллетристики вполне достаточно было и того, чем он обладал, – наблюдательности, живости, остроумия. И он поддался, так и оставшись до конца жизни литератором средней руки, «братом предыдущего».
Еще более трагичной оказалась судьба другого брата – художника Николая Павловича Чехова. Работая в иллюстрированных юмористических журналах, он, как и сотрудники-литераторы, должен был выполнять основное требование этих журналов: давать рисунки, наполненные современными реалиями, точно изображать всем известные места – Кузнецкий мост, сад «Эрмитаж», Салон де Варьете. Он это делал, и очень успешно; в его рисунках легко узнавался и Салон, и другие увеселительные места, и театры, и выставки; угадывались и реальные лица, которых он охотно включал в свои композиции (иногда это были те же самые лица, которых вставлял в свои рассказы А. П. Чехов). Но при всей вещной точности рисунок Н. П. Чехова был очень индивидуален. Его многофигурная композиция объединялась единой и очень характерной доминантной линией, создающей как бы некий эмоциональный аккомпанемент.
Для иллюстрации юмористического журнала это было неожиданно и ново.
Однако Николай Чехов не смог сохранить свою индивидуальность. Наряду с такими композициями он все больше работает в жанре рисунка с подписью, т. е. рисунка, иллюстрировавшего краткие бытовые сценки-диалоги, обычно состоящие из нескольких реплик. У жанра рисунка с подписью были жесткие требования – натуралистического правдоподобия ситуации, «проработанности» деталей обстановки. Оригинальность композиции эмоциональность были не нужны, были даже лишними, отнимая у художника время, мешая работе к сроку.
Николай этим требованиям противостоять не смог. Его рисунки 1883—1885 годов все еще узнаются, но они уже близки к картинкам других художников-юмористов – А. Лебедева, В. Порфирьева, П. Федорова – и не идут ни в какое сравнение с прежними композициями в «Зрителе», «Всемирной иллюстрации», «Свете и тенях». Они уже целиком в русле графики юмористической «малой» прессы.
Художественное поражение было главным. Богемный быт, беспорядочная жизнь – все это было уже производным. Рисунок, иллюстрирующий две-три юмористические реплики, можно было сделать за один вечер в номерах Бултыхина или в трущобах Каланчёвки. «Николка, – писал о брате Чехов в 1883 году, – шалаберничает; гибнет хороший, сильный русский талант, гибнет ни за грош… Еще год-два – и песня нашего художника спета. Он сотрется в толпе портерных людей, подлых Яронов и другой гадости… Ты видишь его теперешние работы… Что он делает? Делает все то, что пошло, копеечно […], а между тем в зале стоит его начатая замечательная картина. Ему предложил русский театр иллюстрировать Достоевского…» Но для того чтобы иллюстрировать Достоевского или завершить большую картину, нужна была все та же воля к целому.
Именно от такой спешной, облегченной и внутренне безответственной работы предостерегал Чехова А. Скабичевский в печально известной рецензии: «Вот таким образом и губятся таланты, которые при благоприятных обстоятельствах, при не таком спешном и даже недобросовестном труде, при тщательном обдумывании и обработке произведений могли бы расцвесть пышным цветом»; молодому писателю приходится «повторяться, повторяться без конца. […] Кончается тем, что он обращается в выжатый лимон, и, подобно выжатому лимону, ему приходится в полном забвении умирать где-нибудь под забором, считая себя вполне счастливым, если товарищи пристроят его на счет литературного фонда в одну из городских больниц».
Чехову на всю жизнь запали в память эти слова, и он не раз вспоминал их в беседах с разными людьми. Так обидели и так запомнились они, может, именно потому что задолго до рецензии Скабичевского он остро ощущал дистанцию меж собою и литераторами «малой» прессы. Еще в 1883 году он говорил: «Я газетчик, потому что много пишу, но это временно… Оным не умру». Писатель, многократно изобразивший процесс засасывания человека средой, был противником теории «невиновности индивидуальной воли». Подобные взгляды он иронически изобразил в «Дуэли»: «Понимайте так, мол, что не он виноват в том, что казенные пакеты по неделям лежат не распечатанными и он сам пьет и других спаивает. […] Причина крайней распущенности и безобразия, видите ли, лежит не в нем самом, а где-то вне, в пространстве […] Причины тут мировые, стихийные […], он – роковая жертва времени, веяний, наследственности».
В известном письме 1886 года к брату Николаю Чехов напишет: «Сказывается плоть мещанская, выросшая на розгах, у рейнского погреба, на подачках. Победить ее трудно, ужасно трудно!» Тон слишком личный, отзывающийся собственным опытом – трудным и долгим. Возникает знакомая тема – самовоспитания, медленного, «по каплям». И сразу же вторая – его путей: «Тут нужны беспрерывный дневной и ночной труд, вечное чтение, штудировка, воля… Тут дорог каждый час». Мысли Чехова на эту, вторую тему отливались всегда в образы очень жесткие; излюбленным словом было «дрессировка». Снисхождения в этом он не допускал – к себе.
Раннее внутреннее противостояние путам «малой» прессы позволило Чехову взглянуть на нее свободно и непредвзято. «Требование, чтобы талантливые люди работали только в толстых журналах, – говорил он, – желчно попахивает чиновником и вредно, как все предрассудки. Этот предрассудок глуп и смешон. Когда я напишу большую-пребольшую вещь, пошлю в толстый журнал, а маленькие буду печатать там, куда занесет ветер и моя свобода».
Эта свобода позволила увидеть, что в юмористических журналах, в газетах в плане собственно литературном – в фабуле, приемах композиции, стиле – была несвязанность никакими художественными канонами. Ни в каком из этих изданий не придерживались единой авторитетной школы, манеры. «Малая» пресса была принципиально разностильна. Каждый автор мог писать в любой манере, изобретать новое, реформировать старое. Можно было экспериментировать, пробовать любые формы. Чехов почувствовал это очень рано. Беспрестанно обращался он к новым манерам, повествовательным маскам, ситуациям из все новых и новых сфер жизни.
Как всякий большой талант, он сумел обратить себе на пользу самые внешне неблагоприятные обстоятельства.
Глава пятая МОСКВА И ПОДМОСКОВЬЕ
1
В Москве устроение семейного быта Чеховых сначала оставалось таким же, как в Таганроге: беспрекословное повиновение отцу, хождение к ранней и поздней обедне, в случае неповиновения – то же дранье. В «Расписании делов и домашних обязанностей», вывешенном Павлом Егоровичем, было примечание: «Неисполняющий подвергается сперва выговору, при коем кричать воспрещается». Упреждение не помогало: когда однажды отец стал прямо во дворе бить в чем-то провинившегося Ивана, тот стал громко кричать. Драчевский домохозяин предупредил, что откажет от квартиры; воспитание было перенесено в помещение; «плачи биемых и гласы бьющих», как писал Александр брату, стали раздаваться только в квартире. Ивану было в это время 17 лет; Павла Егоровича возраст смущал мало – первенец подвергался в Таганроге порке, будучи еще старше.
Приехавший Антон переменил обстановку. Произошло это далеко не сразу и не просто – такой человек, как Павел Егорович, не вдруг сдал свои позиции, а Антон был вспыльчив. Он вступался за мать и братьев. Были тяжелые сцены, но через это надо было пройти. Многие детали скандала в «Тяжелых людях» (1886), где взрослый сын, взбунтовавшись, выступает на стороне матери против деспотизма отца, явно автобиографичны. Отголоском собственных размышлений Чехова о дорогой цене, которую надо заплатить за семейный мир и спокойствие, звучат слова героя рассказа: «Отчего это в природе ничего не дается даром? […] За ясные весенние дни приходится платить этим пронизывающим, холодным дождем. Даже гуманность, мягкость и кроткий характер достигаются путем жертв и тяжелых уроков».
В письме к брату Николаю (март 1886) Чехов изложение своего кодекса «воспитанных людей» начинает так: «Они уважают человеческую личность, и потому всегда снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы. […] Они прощают и шум, и холод, и пережаренное мясо…» У Николая было много недостатков, но в отсутствии мягкости и уступчивости упрекнуть его было никак нельзя. Все это, включая «пережаренное мясо», относится, конечно же, к Павлу Егоровичу, не раз устраивавшему скандалы из-за пересоленного супа и прочих пустяков, совсем не мягкому и не снисходительному. А эти черты Чехов ценил очень. «Дело не в том, что Вы родной дядя, – писал он Митрофану Егоровичу Чехову. – […] Вы всегда прощали нам наши слабости, всегда были искренни и сердечны […]. Вы, сами того не подозревая, были нашим воспитателем, подавая нам пример постоянной душевной бодрости, снисходительности, сострадания и сердечной мягкости».
В декабре 1879 года Иван Павлович Чехов, четвертый сын в семье, выдержав учительские экзамены, получил место заведующего приходским училищем в небольшом городке Воскресенске (ныне г. Истра), в 60 километрах от Москвы, недалеко от знаменитого Ново-Иерусалимского монастыря.
Училище построено было на деньги местного суконного фабриканта П. Г. Цурикова. За год до этого он скончался, и попечительницей стала его дочь, Анна Сергеевна, известная в уезде благотворительница. Училище было хорошо оборудовано, при нем была просторная обставленная квартира. Как писал, отражая общие семейные настроения, М. П. Чехов, «это было чистой находкой. Едва только у Миши и у Маши кончались экзамены, как Евгения Яковлевна уже ехала с ними в Воскресенск на подножный корм и проживала там до самого начала учения». Николай и Александр наезжали туда и зимою. Кроме отца и Антона, только И. П. Чехов из всей остальной многочисленной (6 человек) семьи оказывал ей существенную помощь в самый тяжелый период хотя бы в летние месяцы – вплоть до самого своего увольнения из училища осенью 1884 года.
Было Ивану в год назначения в Воскресенск 18 лет; в его возрасте (и много позже) ни Александр и Николай, ни Мария и Михаил и не помышляли о том, чтобы быть постоянными вкладчиками в семейный котел. В последующие годы, служа в мещанском училище Московского купеческого общества, Казенном арбатском училище и других столичных учебных заведениях (в 1890—1891 годах – во Владимирской губернии), Иван тоже постоянно помогал семье – например, брал к себе жить состарившегося Павла Егоровича.
Этот молчаливый (он слегка заикался) и скромный человек, никогда не говоривший и не писавший о своих заслугах, оказался незаслуженно отодвинутым в тень. Не было страстных и убеждающих писем к нему Антона – его ни в чем не надо было убеждать. Он не был так талантлив или ярок, как три старших брата. Но именно о нем еще в начале 1885 года писал Чехов: «Это один из приличнейших и солиднейших членов нашей семьи. Он стал уже на свои ноги окончательно, и за будущее его можно ручаться. Трудолюбив и честен». Через два года, уезжая надолго, глава семьи наказывал в письме с дороги: «Во всем слушайтесь Ваню. Он положительный и с характером».
Чехов оставался один в летней Москве. Никто не мешал; он работал.
Летом он вообще работал много. Единственным «пустым» был 1881 год, когда за всю весну и лето им был напечатан только один небольшой рассказ – «Двадцать девятое июня». Но все встает на свои места, если принять не раз высказывавшееся предположение, что именно в это время Чехов писал свою первую драму, которая сейчас печатается под заглавием «Безотцовщина».
Пьеса была большая (почти в три раза больше «Чайки» или «Дяди Вани»), и даже начинающему автору должно было быть ясно, что это не годится: нельзя же играть два вечера. Но слишком многое накопилось, было передумано, требовало выхода. Пьеса вобрала те наблюдения над современной русской жизнью и размышления молодого Чехова, которые остались актуальными для него до конца его творческого пути. Уже первые ее исследователи отмечали, что в пьесе «можно довольно ясно различить эмбрионы некоторых будущих чеховских произведений». Отголоски тем, образов, конфликтов ранней пьесы явственно ощущаются в последующей прозе Чехова и во всей его драматургии – от «Иванова» до «Вишневого сада».








