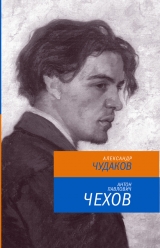
Текст книги "Антон Павлович Чехов"
Автор книги: Александр Чудаков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Толстой пишет об унижении, которому подвергся в цивилизованной Европе, на глазах у всех, человек. Для Чехова столь же важным в нравственном смысле оказывается бесчеловечное отношение к животным.
О природе и животных писали многие. Сочинения С. Аксакова, Пришвина останутся навсегда – в будущем, быть может, они предстанут как описание прекрасного облика прежней планеты и удивительных животных, которых уже давно нет.
Но сейчас нам, пожалуй, важнее опыт Чехова, который писал не об уникальной жизни человека наедине с природой в краю непуганых птиц, а о повседневном общении с ней человека современной цивилизации в условиях города, квартиры, пригородной дачи. В произведениях и в собственной жизни Чехов дал образцы истинной этики человека в его общении с братьями нашими меньшими.
О его характере и даже внешности в гимназические годы сведения противоречивы. Одни соученики вспоминали, что он был полным, другие – что «худощавым на вид, но крепышом». Одни запомнили его «вялым увальнем с лунообразным лицом» (П. А. Сергеенко), «букой» (Г. Тан-Богораз), другие, в том числе домашние, – как «весельчака, шутника, острослова». Современник прав: «Очевидно, мальчик развертывался охотнее дома, чем в гимназических стенах». Но на мнении о «весельчаке» лежит явный отсвет последующей славы юного писателя-юмориста. Во всяком случае, вызывают сомнение воспоминания о том, как юный Чехов читает смешные рассказы «по тетрадочке», потешая этим всю гимназию.
Но независимо от того, насколько это проявлялось вовне, юмористический настрой несомненно был сильным. Любовь к прозвищам (начавший ухаживать за барышнями Александр получил прозвище Волокитич Фаленюга, вечно хныкавший в детстве Николай – Зюзя Калич Мордокривенко), к каламбурам, к обыгрываньям латинских цитат и немецких слов, церковнославянизмов бьет в глаза в ранних письмах, ранних рассказах Антона Чехова и его первой пьесе, еще тесно связанных с детским и юношеским словесно-тематическим багажом.
Несомненно, сильна была и артистическая жилка, желанье имитировать, пародировать жесты, манеры.
М. Д. Дросси-Стайгер, сестра гимназического приятеля Чехова, вспоминает: «Полина Петровна была старая дева, очень жеманная, непрестанно оправлявшая на себе платье и красневшая по всякому поводу. Антоша изумительно копировал ее манеры. Бывало, Антоша ее передразнивает, а она потом входит, – и трудно было удержаться от смеха».
Вспоминает приятель отца Чехова, Ф. П. Чангли-Чайкин: «При приходе брата (Митрофана Егоровича. – А. Ч.) Павел Егорович встречает его с распростертыми объятиями. Дядя, будучи человеком религиозным, безмолвно направляется к углу с иконами и начинает набожно креститься. Отец остается с протянутыми руками. Так как икон много, то моление продолжается долго. Хозяин опускает протянутые для встречи гостя руки и тоже начинает молиться. Наконец дядя кончил молиться и, оборачиваясь, протягивает руки. Теперь молится хозяин, а гость стоит с протянутыми руками». Эту сцену потом не раз в лицах представлял Антон.
Сведения о детских забавах и шалостях братьев Чеховых скудны (может быть, их было не так много?..). Но о некоторых мы знаем. Играли в лапту (Антон – отлично), в бабки, ловили тарантулов в степи, жарили рыбу на берегу, клеили воздушные шары из папиросной бумаги, заполняя их светильным газом при помощи шланга, надеваемого на рожок загашенного уличного фонаря (Павел Егорович узнал, окончилось большой поркой), принесли домой череп и кости, сильно напугав сестру. Правдивость последнего эпизода М. П. Чехова впоследствии оспаривала, но А. А. Долженко, автор воспоминаний, возражая ей, стоял на своем. Какая-то историй с черепами и костями (быть может, и не одна) несомненно была: о подобном эпизоде вспоминала А. Л. Селиванова-Краузе (черепом пугали и ее); сюжет, с ними связанный, положил в основу своего рассказа Александр Чехов («Жертвы науки. Из воспоминаний детства», 1887), а он, сгущая отдельные подробности, в целом сами эпизоды обычно не придумывал.
Еще меньше дошло до нас сведений, рисующих общественный темперамент Чехова – даже в Московском университете, не говоря уже о гимназии. Тем ценнее каждое такое свидетельство. Однокашник Чехова таганрогский врач И. Л. Шамкович рассказывал корреспонденту киевской газеты в 1914 году:
«Как-то раз у класса вышло какое-то недоразумение с преподавателем словесности Мальцевым. Класс решил не подавать очередного сочинения. Чехов согласился с этим решением. Тем не менее один из учеников, ныне здравствующий, сочинение подал. Поступок изменника возмутил другого ученика, сейчас видного присяжного поверенного на юге, и он ударил изменника по лицу. Увидя это, Чехов не выдержал, пришел в сильное волнение и воскликнул: “Это глупо, это дико!”»
Реальность этого эпизода получила неожиданное подтвержденье через 60 лет. В 1935 году, во время празднования 75-летия со дня рождения Чехова, в таганрогском театре с воспоминаниями в числе прочих выступил престарелый И. Л. Шамкович. С некоторыми вариациями он изложил тот же эпизод: «В. ударил заподозренного по лицу, пользуясь тем, что был посильнее. Гимназист Антон Чехов подошел к В. и сказал тихо, но крайне выразительно: “Как тебе не стыдно!”»
«В момент, когда со сцены произносилась эта фраза, – вспоминает один из находившихся тогда в театре, – из глубины театрального зала раздался несколько хриплый, но отчетливый старческий голос: “Мне и сейчас стыдно!” Оказалось, что в зрительном зале присутствует согбенный годами В.» [2]
Соученик Чехова В. Г. Богораз (печатавшийся под псевдонимом Тан) однажды написал: «Таганрогская гимназия в сущности представляла арестантские роты особого рода. То был исправительный батальон, только с заменою палок и розг греческими и латинскими экстемпоралиями» (сложными переводами с родного языка). Это хлесткое высказывание многократно цитировалось, несмотря на его очевидные преувеличения.
В 1837 году таганрогская коммерческая гимназия, основанная в 1806 году, была преобразована в 7-классную гимназию. В 1843 году гимназия перешла в специально построенное каменное здание. Здание было хорошее. В нижнем этаже помещались классные комнаты, библиотека, историко-географический музей, канцелярия гимназии, квартира директора. В верхнем этаже – актовый зал, большая часть классных комнат. Классы были светлые, в середине 70-х годов они были оборудованы партами-скамейками по системе Кунце (такие парты просуществовали до 60-х годов нашего века). В актовом зале, помимо полагающихся официальных портретов, висела копия, писанная маслом, «Сикстинской Мадонны» Рафаэля. Там же были две «золотые доски», куда заносились фамилии выпускников-медалистов. Последние четыре года Антон видел там свою фамилию: в 1875 году с серебряной медалью окончил гимназию Александр Чехов.
Это была обычная гимназия того времени – с инспекторами, глазками-окошечками в классных дверях, обязательными проходами по коридорам директора, дежурствами инспекторов в парках, в театре. Атмосфера смягчалась тем, что директор, Э. Р. Рейтлингер, был человеком добродушным. Братья Чеховы были с ним в хороших отношениях: Александр был репетитором у его детей и в последний свой гимназический год даже жил у него на квартире. Антона соученики запомнили прогуливающимся с директором по гимназическому коридору.
Ежегодно в мае устраивалась экскурсия в Дубки.
«Экскурсии эти, – писал историк Таганрогской гимназии, – имели характер полной непринужденности и были исполнены искреннего детского веселья и оживления». Однако, по воспоминаниям одного из учеников, само путешествие у гимназистов успеха не имело. И понятно, почему: по словам того же историка, «ученики гимназии отправлялись туда пешком в сопровождении начальника гимназии, инспектора и преподавателей». Но по прибытии в рощу все менялось. Расстилали скатерти, ставили самовары. Предлагалось даровое угощенье: бутерброды, молоко, чай, апельсины… «Преподаватели, – вспоминает другой участник этих маёвок, – забыв на время всякую официальность и вспомнив свою юность, снимают сюртуки и превращаются в тех же гимназистов, дурачатся, бегают взапуски, борются, прыгают друг через друга; гимназисты прыгают через них, “салят” мячом их; смех, шум, крик, общая свалка. Стена, созданная циркулярами и инструкциями и отдаляющая мир учеников от преподавателей, рушится, и лед, покрывавший в течение года все отношения учеников и преподавателей, тает». Играли в мяч, в чехарду, «в беглых». Антон больше всего любил лапту.
Это была классическая гимназия, и для того времени отнюдь не хуже прочих. От поступающих в 1-й класс требовалось: по русскому языку «умение бегло и со смыслом читать и пересказывать легкие рассказы на предложенные вопросы, а также писать под диктовку без искажения слов и уметь читать по-церковнославянски», по арифметике – знание первых четырех действий. Подавляющее большинство получало все эти сведения в приготовительном классе (23 августа 1868 года в приготовительный класс поступил и Антон Чехов).
Большое значение придавалось древним языкам – из-за них чаще всего оставляли учеников на второй год. Но в гимназии хорошо было поставлено преподавание естественных наук, силами учеников и педагогов велись метеорологические наблюдения, печатавшиеся в местной газете, в кабинетах были новейшие приборы, имелся телескоп. В 1872 году «Азовский вестник» сообщал о том, что «инспектор Каменский намерен познакомить таганрогскую публику с недавно приобретенным для физического кабинета гимназии фотоэлектрическим микроскопом Дюбоска».
Преподавание велось по обычной гимназической программе: всеобщая и русская история, история Древней Греции и Рима, география России, теория словесности, история русской словесности. Русская литература заканчивалась на «Антоне Горемыке» и «Записках охотника».
Лев Толстой считался уже текущей литературой: о «Войне и мире» гимназисты делали «свободные доклады» на ежегодных собраниях, посвященных чтению и толкованию выдающихся образцов отечественной и иностранной словесности.
Но гимназией образование не исчерпывалось – очень рано Чехов начал много читать.
Что он читал?
5
С 16 до 18 лет Чехов прожил в Таганроге один. Эти годы – ключевые для понимания его личности: в Москву он приехал уже другим человеком. Меж тем они – самые глухие и темные в его биографии.
Главная потеря этого времени – утрата писем, которые он регулярно писал семье в Москву. Сохранилось только два – родителям (20 июня 1878 г.) и брату Михаилу (5 апреля 1879 г.). Во втором из этих писем Чехов размышляет о человеческом достоинстве, высказывает свои литературные вкусы и оценки (после чтения Бичер-Стоу – «неприятное ощущение, которое чувствуют смертные, наевшись не в меру изюму или коринки»), дает советы (читать Сервантеса, читать статью Тургенева «Дон-Кихот и Гамлет», «Фрегат Палладу» Гончарова).
Письмо это цитировалось тысячекратно, что понятно, ибо оно, по сути дела, единственный достоверный источник сведений о круге чтения, литературных пристрастиях Чехова-юноши.
Знакомство с мировой культурой мальчик Чехов начал с Библии, знакомство с современной умственной жизнью – с газет. Начал очень рано: Павел Егорович имел привычку читать газету вслух или заставлять делать это кого-либо из детей, потом они еще должны были пересказывать прочитанное.
Что такое была провинциальная газета 70-х годов XIX века?
В 1817 году во всех губернских городах по правительственному указу начали выходить губернские ведомости. Кроме обязательной официальной части, печатавшей монаршие распоряжения, телеграммы, сведения о назначениях и продвижениях по службе, была часть неофициальная, в которой помещались статьи на сельскохозяйственные темы, краткие рецензии на спектакли (не всегда), отчеты о благотворительных вечерах. Часть официальная была скучна, неофициальная – интереснее не намного.
В Таганроге, как городе не губернском, местная пресса появилась позже. В 1859 году начал выходить «Полицейский листок», в 1870 году он был переименован в «Ведомости Таганрогского градоначальства».
В начале 70-х годов в провинции возникло множество частных газет; в Таганроге тоже появилась такая газета, издавал ее крупный местный бакалейщик и владелец типографии П. С. Муссури, редактором был преподаватель гимназии Ф. Р. Браславский. Называлась газета «Азовский вестник»; выходила она в 1871—1878 годах. Это была газета чеховского детства.
Как и в «Ведомостях Таганрогского градоначальства», в ней печатались правительственные сообщения и городские административные распоряжения, но зато здесь помещались подробные разборы спектаклей местного театра или гастролеров, был литературный отдел, широко перепечатывались корреспонденции из других газет – как вообще в провинциальной прессе («Стрекоза» острила: «На транспорт ножниц, следовавший из Тулы в С.-Петербург, произведено было нападение вооруженною рукою. Весь транспорт расхищен. Есть основания к подозрению, что дело не обошлось без участия редакций провинциальных изданий»). В разделе «Разные известия» можно было прочесть сообщения о путешествиях Д. Ливингстона и Н. Миклухо-Маклая. Писали об ухудшающемся климате – засухах, пыльных ветрах (словосочетание «пыльная буря» еще не привилось). Причину видели в вырубке лесов – как на юге, так и в Поволжье. Все чаще писали о необходимости лесных посадок. Когда Чехову было 16 лет, в газетах было опубликовано высочайшее повеление об установлении ежегодных премий за труды по разведению лесов и посадку деревьев в Херсонской, Саратовской, Самарской, Тамбовской, Воронежской, Харьковской, Курской, Полтавской губерниях, за наилучшее по правилам лесного хозяйства устройство лесных дач.
В последние гимназические годы Чехов, когда уже жил один, выписывал популярное тогда периодическое издание – «Газету Гатцука», приложение к еще более известному «Календарю» того же издателя. Эту газету не раз упомянет через несколько лет Чехов-фельетонист.
Гатцуковское издание обрушивало на своего читателя целую лавину разнообразных сведений: об устройстве чернилиц (так это слово писал и Чехов), о филоксере, о филадельфийской выставке, о способе сохранять куриные яйца свежими в течение двух лет (обмазывать их парафином), о том, как сделать кожаное пальто непромокаемым, как закаливать стекло и т. п. Потом, в Москве, Антон Павлович будет поражать сестру, давая ей вычитанные у Гатцука советы по крахмаленью белья: если в горячем крахмале распустить кусок спермацета, то белье, став белым и блестящим, сохранит гибкость.
Давала газета и сведения более значительного масштаба – по метеорологии, спектральному анализу, по медицине. Как и «Азовский вестник», она много писала о путешествиях, только основательнее: напечатала письмо Миклухо-Маклая Географическому обществу; в 1875 году в нескольких номерах публиковалась серия очерков «В сердце Африки» – о трехгодичном путешествии Георга Швейнфурта в центральные районы континента; писали и о другом известном путешественнике по Африке – лейтенанте Камероне. Печатались – обычно с многочисленными гравюрами – статьи об Индии, Цейлоне, Японии, Испании, Венгрии, Америке… Если гимназист читал выписываемую им газету, то его юность прошла под знаком очерков о путешествиях и дальних странах.
Недурным добавлением к гимназической программе были статьи о В. В. Верещагине, М. И. Глинке, известных артистах, ученых, писателях (например, юбилейная статья «Алексей Феофилактович Писемский»).
У многих из рассыпанных в чеховских сочинениях редких сведений, анекдотических историй, фактов («Бальзак венчался в Бердичеве»), заживших второй жизнью именно благодаря появлению в его произведениях, явственно чувствуется газетное происхождение.
Ощутимы были и издержки газетного образования. Отзвуки расхожих мнений – о немцах и Германии («страна стихов и бутербродов, пива и солдат»), французах, славянофилах (И. С. Аксакове), живописи – чувствуются в его ранней фельетонистике и юмористике, и освободился он от этого далеко не сразу.
Когда Чехову было 14 лет, местная газета писала: «У нас есть одна мужская классическая гимназия с языками латинским и древнегреческим, одна женская не классическая и не реальная гимназия, есть две библиотеки, есть клубы…» В этом пассаже, звучащем как цитата из «Ионыча» («в С. есть библиотека, театр, клуб…»), чувствуется гордость патриота города. Ведь еще совсем недавно был только один клуб, доступ в который был строго ограничен, и лишь за 4 года перед тем открылся новый клуб, с целью «доставить молодым людям среднего и низшего классов возможно дешевое, приятное и полезное препровождение времени», стать «местом покоя людей, утомленных суетою жизни, хранилищем опытной науки и доброй нравственности».
Клуб, как и следовало ожидать, стал обычным провинциальным заведением средней руки: бильярдная, игорный зал, буфет, маскарады, танцевальные вечера, детские праздники. Хранилища нравственности не получилось – даже клубная библиотека заслужила вскоре славу такого места, куда «дамы не ходят», и, судя по всему, по вечерам сильно напоминала описанную в чеховской «Маске» (1884). Но днем выполняла свои функции вполне исправно. Правда, солидных журналов она не выписывала, но газеты – «Петербургский листок», «Московский листок», «Биржевые ведомости» – получались регулярно. Недовольным в качестве отрицательного примера приводился случай с Харьковской публичной библиотекой, потратившей треть годового бюджета, чтобы выписать «Таймс», который не мог прочесть ни один из посетителей. Поступали наиболее популярные юмористические журналы – «Будильник», «Стрекоза», «Шут», «Пчелка», которые исправно читали гимназисты.
Помимо городской, существовали еще две частные библиотеки.
Чехов был усердным посетителем библиотек.
В сведениях о круге чтения Чехова-гимназиста нет никаких следов знакомства с такими, например, журналами, как «Вестник Европы» или «Русская мысль» (следов этих нет даже в первые университетские годы), не говоря уже об «Отечественных записках» (которые и получать было не так-то просто: в 1878 году из таганрогской городской библиотеки были изъяты отдельные их комплекты) или «Современнике», «Русском слове». «Отечественные записки» выписывал протоиерей Ф. П. Покровский, но вряд ли он давал их читать своим ученикам.
Ранним газетно-журнальным чтением Чехова было то, что тогда называли «малой» прессой.
6
Какую же литературунаходил внимательный читатель – таганрогский гимназист – в этих газетах и журналах?
Литература юмористических и иллюстрированных еженедельников была своеобразным зеркальным отражением литературы «большой» прессы и «толстых» литературно-художественных журналов. В «большой» прессе популярен очерк – «малая» пресса печатает очерки; появляется там сценка – «малая» пресса мгновенно заполняется сценками; в литературно-художественных журналах распространяется светская повесть – и «малая» пресса печатает повести; явились первые опыты «трущобного» и уголовного романа – подвалы «Московского листка», «Новостей дня», «Петербургского листка» заполняются уголовными романами.
«Малая» пресса завела своиповесть и рассказ – из великосветской жизни; ее сценка приобрела особые жанровые очертания, каких она не имела в «Современнике», «Русском слове», «Библиотеке для чтения», где начиналась; в «тонких» журналах появились собственные переводные авторы; газеты создали каноны особого газетногоромана.
«Малая» пресса отделялась: из прямого отражения большой она стала ее отражением в уменьшающем зеркале. И как всякое уменьшенное отражение, оно резче, отчетливей обозначило основные черты оригинала.
Чехов очень хорошо был знаком с этой литературой – это видно из его вещей первых лет. Но его отношение к ней и ее излюбленному антуражу (вроде роскошных интерьеров) и мелодраматическим сюжетным ходам определилось не так уж сразу.
С одной стороны, он прямо ее пародировал:
«Вчера я получил письмо от “Будильника”. В этом письме просят меня написать рассказ обязательно юмористический и обязательно к этому номеру. […] В роскошно убранной гостиной, на кушетке, обитой темно-фиолетовым бархатом, сидела молодая женщина лет двадцати двух. Звали ее Марьей Ивановной Однощекиной.
– Какое шаблонное, стереотипное начало! – воскликнет читатель. – Вечно эти господа начинают роскошно убранными гостиными! Читать не хочется!
Извиняюсь перед читателями и иду далее» («Марья Ивановна», 1884).
В одной из своих дебютных пародий Чехов высмеивал употребляемые в современной литературе непременные «портфель из русской кожи, китайский фарфор, английское седло, револьвер, не дающий осечки» («Что чаще всего встречается в романах, повестях и т. п.», 1880).
Однако в его повестях этого времени – «Живой товар», «Цветы запоздалые», «Зеленая коса» (все 1882 г.) – находим некоторое влияние ее описаний, ее сентиментального тона, ее сюжетных схем.
«Малая» пресса – паноптикум, или холодильник, литературных форм: перестав быть живыми в большой литературе, в массовой они в «замороженном» виде или как восковые копии могут сохраняться удивительно долго. Так, еще и в 80-е годы в «малой» прессе можно было свободно встретить и романтические, и даже сентименталистские стилистические и жанровые осколки – в сочинениях, например, Е. Вернера, Е. Дубровиной, А. Доганович-Кругловой, В. Прохоровой, Г. Хрущова-Сокольникова.
Находились литераторы, творчество которых целиком укладывалось в подобные сентиментально-романтические рамки. Таким был, например, Н. А. Путята (1851—1890), печатавшийся в основном в «Московском обозрении», «Мирском толке» и «Свете и тенях». Основным жанром, в котором он работал, был «набросок» – небольшой рассказ на темы одиночества, гибели надежд, смерти и т. п., выдержанный в повышенно эмоциональных и сентиментальных тонах, с романтически-трафаретной лексикой и многозначительной символизацией. «И в самом деле – я один. Один, среди тысяч страждущих. Неужели оставить начатое? Конечно, никогда! Никогда! Никогда!» – «Мечты и действительность», 1878. (С H. А. Путятой, как, впрочем, почти со всеми выше поименованными литераторами, Чехов потом познакомится лично.)
Эти формы, явившиеся через полвека после ухода из большой литературы, трудно назвать даже эпигонством – это именно своеобразная литературная консервация в недрах «малой» прессы.
В стихах и прозе местных литераторов, печатавшихся в «Азовском вестнике», Чехов-гимназист мог найти полный набор шаблонов романтической фразеологии, часто вперемешку с «гражданскими мотивами»: «дни блаженства» и «упоенье неги», «безумные мечты» и «радость битвы», «отрадный свет идеала» и «удар судьбы». В рассказах попадались и «золотые лучи заходящего солнца» – совсем как знаменитое начало романа Веры Иосифовны из «Ионыча».
Систематическим чтением этой литературы объясняется такое хорошее знакомство Чехова с ее стилистикой, ее приемами, ее словарем. Им же объясняется и то характерное для Чехова, но несколько необычное для человека 80-х годов отношение к романтическому эпигонству как к живому литературному явлению, достойному если не литературной борьбы, то пародийного осмеяния.
Был еще один источник такого отношения. Среди родственников Чехова был свой «романтик» – дядя Митрофан Егорович, большой любитель фраз с упоминанием «язв души», «трепещущих персей» и т. п. Впрочем, высокий стиль любил и Павел Егорович: «Все слилось в одно торжество. Небо и земля приникли к зрению грядущего царя, повелителя народов. О, великое свершилось событие в мире!» Как и полагается, возвышенный стиль соседствовал в его письмах с сентиментальной фразеологией: «Добрый и чувствительный мой сынок Антоша!»
Пародирование такого стиля находим в первом известном нам печатном произведении Чехова – «Письме к ученому соседу». Но пародирование романтической фразеологии здесь второстепенно. Острие насмешки направлено на нелепое употребление «ученых» слов и оборотов. «Потому что сердечно уважаю тех людей, знаменитое имя и звание которых, увенчанное ореолом популярной славы, лаврами, кимвалами, орденами, лентами и аттестатами, гремит как гром и молния по всем частям вселенного мира сего видимого и невидимого, т. е. подлунного».
С этим учено-выспренним стилем Чехов был тоже знаком с детства. Так писал его дед, Егор Михайлович: «Не имею времени […] через сию мертвую бумагу продолжать свою беседу». Павел Егорович тоже любил выразиться не только возвышенно, но и не без книжной витиеватости: «Дай Бог вам и в Москве также восхищаться всеми предметами, достойными удивления». Этот стиль был в ходу у конторщиков, телеграфистов, парикмахеров. Его любили пародировать братья Чеховы: «Царица души моей, дифтерит помышлений моих, карбункул сердца моего…» (Н. П. Чехов – Л. А. Камбуровой, 23 сентября 1880 г.).
На этой стилистической почве вырос своеобразный чеховский герой – ведущий свою родословную еще от гоголевского кузнеца Вакулы, который, желая показать, что он «знал и сам грамотный язык», выражается так: «Многие домы исписаны буквами из сусального золота до чрезвычайности. Нечего сказать, чудная пропорция!» Побывавший в городе герой Некрасова «Каких-то слов особенных Наслушался: атечество, Москва Первопрестольная…» (В одном из писем Павел Егорович Чехов напишет: «…и в этот же день приехать в первопрестольную столицу русского царства».)
Образчики такой речи находим у Глеба Успенского: «Я, нижеподписавшийся крестьянин Казанской губернии, […] будучи в полном разорении, ибо почва и песчаные пространства, при неурожае, при всех моих силах моего многочисленного семейства, до такой нищеты дошел, не имея пять лет урожаю, весь продан за долги…» «Все это нацарапано каким-то грамотеем, – поясняет Успенский, – который выбрал, вероятно, из “Сельского вестника” мудрёные слова, но не смог выдержать научного изложения далее трех строк».
Любопытные случаи такого употребления книжных слов часты в произведениях Н. Лейкина – хорошего знатока речи торговой и мещанской городской среды: «“– Скоро он встанет?” – спросил Стукин. – “Как термин настоящий для них наступит, так и встанут”».
Любила обыгрывать эту манеру юмористическая пресса: «Вы есть ужаснейшая критика моей к Вам чувствительности, насмешка моего сердца… Любовь моя не принесет Вам никакой морали…» («Стрекоза», 1878, №31). «Не в силах я утверждать рассмотрение относительно образцов будущего времени в вопросительном смысле» («Стрекоза», 1878, № 4).
Но подобные языковые образования Чехов с детства слышал и в живой речи – в лавке, в таганрогском саду, клубе. Он сызмальства был погружен в стихию полукультурной мещанской речи, застрявшей где-то на полдороге от просторечия к интеллигентскому языку. И не случайно в русской литературе именно Чехову суждено было наиболее выразительно запечатлеть носителя этого языка, дать самую обширную галерею речевых портретов любителей «ученого» слога среди лиц самых разных профессий. «Европейская цивилизация породила в женском сословии ту оппозицию, что будто бы чем больше детей у особы, тем хуже. Ложь! Баллада!» – витийствует герой чеховского рассказа «Перед свадьбой», напечатанного через полгода после «Письма к ученому соседу». В рассказе «Умный дворник» (1883) о пользе наук рассуждает другой любитель книг, набравшийся из них ученых слов, – дворник: «Не видать в вас никакой цивилизации… Потому что нет у вашего брата настоящей точки». Ему вторит приобщившийся к просвещению водовоз: «Я в рассуждении климата недоумение имею». Очень церемонно выражается обер-кондуктор Стычкин в рассказе «Хороший конец»: «А потому я весьма желал бы сочетаться узами игуменея»; «…и в рассуждении счастья людей имеет свою профессию».
Еще более «изысканные» обороты применяют чеховские фельдшера, мелкие чиновники, телеграфисты: «И по причине такой громадной циркуляции моей жизни» («Воры»); «Все-таки я не субъект какой-нибудь, и у меня в душе свой жанр есть» («Депутат, или повесть о том, как у Дездемонова 25 рублей пропало»). Чрезвычайно витиевато говорит приказчик Початкин из повести «Три года»: «Соответственно жизни по амбиции личности». К его речи Чехов дает такой комментарий: «Свою речь он любил затемнять книжными словами, которые он понимал по-своему, да и многие обыкновенные слова употреблял он не в том значении, которое они имеют», – эту вереницу любителей мудреных словечек завершает читающий «разные замечательные книги» конторщик Епиходов из последней пьесы Чехова: «Совершенно привели меня в состояние духа»; «Наш климат не может способствовать в самый раз».
Широко в «малой» прессе были представлены переводные повести и романы третьестепенных немецких и французских писателей – Понсона дю Террайля, Густава Нирица, Катулла Мендеса. «Сразу видно, что я начитался немецких романов», – иронизировал над собой в письме 17-летний Чехов. Впрочем, переводили и Э. Золя, и В. Гюго. В «Азовском вестнике» в 1872 году в нескольких номерах печатался перевод «Доктора Окса» Ж. Верна – мотивы этой повести и сам стиль перевода просматриваются в чеховской пародии на Жюля Верна «Летающие острова» (1882). Некоторыми чертами юмор раннего Чехова близок к гейневскому. С Гейне таганрогский гимназист тоже мог познакомиться, читая местную газету: в ней систематически печатались переводы из немецкого поэта и подражания ему.
В юмористических журналах и местной печати Чехов прочел и первые «сценки» – жанр, занимающий значительное место в его раннем творчестве. Возможно, с этого жанра и началось его творчество. По воспоминаниям редактора гимназического журнала «Досуг» С. Н. Борисенко, Чехов поместил там что-то «из семинарской жизни». Другой соученик считал, что Чехову в журнале их гимназии принадлежала еще некая «Сцена с натуры», действие в которой происходило на Новом базаре, там, где одно время находилась лавка Павла Егоровича. Сценки были и в рукописном журнале «Заика», который единолично выпускал 15-летний Чехов. (Журналы эти, увы, не сохранились.)
Юмористические и иллюстрированные журналы влияли не только чисто литературно – их воздействие было шире. Главной особенностью рисунка этих журналов было его сугубое внимание к бытовым реалиям, окруженность ими человека в любой ситуации. Все детали, даже самые мелкие, вырисовывались особенно тщательно, настолько, что когда несколько лет спустя Чехову понадобились иллюстрации к шуточному рассказу для детей «Сапоги всмятку», он из первых же попавшихся под руку номеров «Сверчка», «Осколков», «Света и теней» 1882—1886 годов смог вырезать и старательно прорисованную бутылку, и сапоги, и несколько бытовых сценок, иллюстрирующих разные эпизоды семейной жизни. Сиюминутный иллюстрированный мир юмористического журнала был одним из ранних элементов комплекса художественных впечатлений юного Чехова.








