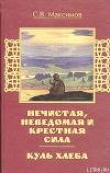Текст книги "Письма из деревни"
Автор книги: Александр Энгельгардт
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Попов пирог с начинкою,
Попова каша с маслицом,
Поповы щи с снетком...
Но это только у попа-батьки, а не у причетника, который перебивается со дня на день.
Не знаю, как в других местах, но у нас церквей множество, приходы маленькие, крестьяне бедны, поповские доходы ничтожны. Как невелики, по крайней мере у нас, поповские доходы, видно из того, какую низкую плату получают попы за службу. За совершение ежемесячно водосвятия на скотном дворе я плачу в год три рубля, следовательно, за каждый приезд попам приходится 25 копеек. Эти 25 копеек делятся на 9 частей, следовательно, на каждую часть приходится по 23/4 копейки (1/4 копейки останется ежемесячно). Священник получает четыре части, значит 11 копеек; дьякон две части, значит 51/2 копеек, три дьячка по одной части, следовательно, по 23/4 копейки каждый. Таким образом, дьячок, приезжающий из села за семь верст, получает за это всего 23/4 копейки. Положим, что попы объедут за раз, в один день, три помещичьих дома и совершат три водосвятия, при этом им придется сделать 25 верст, то и при таких благоприятных условиях дьячок заработает 81/4 копеек, дьякон 161/2 копеек и сам священник – 33 копейки. Я привел эти цифры, чтобы показать, как незначительны доходы попов в нашей местности. От крестьян попы, разумеется, получают более. У крестьян службы не совершаются ежемесячно, но два или три раза в год попы обходят все дворы. На святой, например, попы обходят все дворы своего прихода и в каждом дворе совершают одну, две, четыре службы, смотря по 55 состоянию крестьянина – на рубль, на семь гривен, на полтинник, на двадцать копеек – это уж у самых бедняков, например, у бобылок, бобылей. Расчет делается или тотчас, или по осени, если крестьянину нечем уплатить за службу на святой. Относятся здешние попы, в этом отношении, гуманно и у нас, по крайней мере, не прижимают. Разумеется, кроме денег получают еще яйца и всю неделю, странствуя из деревни в деревню, кормятся. Так как службы совершаются быстро, и в утро попы легко обойдут семь дворов (у нас это уже порядочная деревня), то на святой ежедневный заработок порядочный, но все-таки доход в сумме ничтожный. Понятно, что при таких скудных доходах попы существуют главным образом своим хозяйством, и потому, если дьячок, например, плохой хозяин, то ему пропадать надо. Я заметил, что причетники, в особенности пожилые, всегда самые лучшие хозяева – подбор совершается, как и во всем.
Езжу иногда к помещикам, или, лучше сказать, к помещицам, потому что теперь в поместьях остались по преимуществу барыни, которые и ведут хозяйство. Сначала я толковал с помещиками все больше о хозяйстве, которое для нас дело самое интересное, потому что какое же нам дело до политики, не все ли нам равно, здоров принц Вельский или нет, какое нам дело до того, кто лучше поет, Лукка или Шнейдер, какое нам дело, чьего изобретения гороховая колбаса питательнее, и т.п.: но скоро я убедился, что говорить с помещиками о хозяйстве совершенно бесполезно, потому что они большею частью очень мало в этом деле смыслят. Не говорю уже о теоретических познаниях, – до сих пор я еще не встретил здесь ни одного хозяина, который бы знал, откуда растение берет азот или фосфор, который бы обладал хотя самыми элементарными познаниями в естественных науках и сознательно понимал, что у него совершается в хозяйстве, – но и практических знаний, вот что удивительно, нет. Ничего нет, понимаете. Мужик хоть практику понимает и здравый смысл в деле хозяйства имеет. Есть некоторые, которые занимаются хозяйством или, лучше сказать, разоряются по агрономии, как у нас говорят (здесь у практиков мелкопоместных хозяев сложилось убеждение, что, кто занимается по агрономии, тот непременно разорится, как это обыкновенно и бывает); то есть, нахватавшись внешних форм так называемого рационального хозяйства из разных книжек, преимущественно, кажется, из "Земледельческой газеты", вводят разные новости: машины ненужные выписывают, турнепсы и лупины сеют. Разумеется, ничего путного не выходит, а если некоторые из таких агрономов еще держатся, то только благодаря отрезкам, лесам и старому заведению. О хозяйстве, значит, говорить много не приходится, разве только цены узнаешь, про ход дел у соседа спросишь.
На станцию железной дороги езжу. Там, в 100 саженях от вокзала, есть постоялик, вечно наполненный народом – покупателями 56 и продавцами дров, приказчиками, приемщиками дров, дровокладами, возчиками. Этот постоялик – наш Дюссо, с тою только разницей, что, вместо того чтобы слышать, как у Дюссо, comme elle se gratte les hanches et les jambes – здесь вечно слышим: по пяти взял за швырок; без 20-ти семь продали на месте; он мне 70 за десятину; извольте, говорю.
Вся наша торговля сосредоточивается на дровах. Теперь только и разговору о продажах леса. Вся станция завалена дровами, все вагоны наполнены дровами, по всем дорогам к станции идут дрова, во всех лесах на двадцать верст от станции идет пилка дров. Лес, который до сих пор не имел у нас никакой цены, пошел в ход. Владельцы лесов, помещики, поправили свои дела. Дрова дадут возможность продержаться еще десяток лет даже тем, которые ведут свое хозяйство по агрономии; те же, которые поблагоразумнее, продав леса, купят билетики и будут жить процентами, убедившись, что не господское совсем дело заниматься хозяйством. Несмотря на капиталы, приплывшие к нам по железной дороге, хозяйство нисколько не улучшается, потому что одного капитала для того, чтобы хозяйничать, недостаточно.
Вот так-то. Сижу я все у себя в деревне, никуда далее 15 верст не езжу, и даже в своем городе уездном был всего только один раз. Понятно, что я ни о чем другом, кроме хозяйства, писать не могу.
Я сказал, что постоянно сижу в своей деревне и далее 15 верст никуда не езжу... Не хочу грешить, – раз был в соседнем уезде на съезде земских избирателей для выбора гласных от землевладельцев. Поехал я на этот съезд потому, что хотел повидаться с моими родственниками и знакомыми, – я сам родом из того уезда, – которые должны были собраться на съезд. На съезде ничего интересного не было. Выбирали гласных. Прочитают имя, отчество и фамилию, закричат: "просим, просим", и начинают класть шары; кому много накидают, кому мало. Впрочем, если бы на съезде и было что интересное, то я не мог бы заметить, потому что, сами посудите: меня звал приехать на съезд один богатый родственник, который и прислал за мною лошадей в приличном экипаже с кучером. К вечеру я приехал к родственнику. Поужинали, рейнвейну, бургунского выпили; еще есть и у нас помещики, у которых можно найти и эль, и рейнвейн, и бутылочку-другую шипучего. На другой день встали на заре и отправились. Отъехав верст 12 – холодно, потому что дело было в сентябре – выпили и закусили. На постоялом дворе, где нас ожидала подстава, пока перепрягали, выпили и закусили. Не доезжая верст восемь до города, нагнали старого знакомого, мирового посредника, сейчас ковер на землю – выпили и закусили. В город мы приехали к обеду и остановились в гостинице. Разумеется, вышили и закусили перед обедом (непрошенная). К обеду, за table d'hote (каковы мы – настоящая Европа!), собралось много народу, все богатые помещики (и как одеты! какие 57 бархатные визитки!). За обедом, разумеется, выпили. После обеда пунш, за которым просидели вечер. Поужинали – выпили. На другой день было собрание. Выбор гласных происходил в довольно большой зале, в верхнем этаже гостиницы, в той зале, где бывает table d'hote. Через комнату от залы собрания буфет, где можно выпить и закусить; что значит образование! Тут же, подле, и буфет устроен, потому что безопасно, никто не напьется! А посмотрите у мужиков: здесь волостное правление, а кабак должен быть отставлен на 40 сажен, потому, говорят, нельзя иначе, – мужик сейчас напьется, если кабак будет рядом с волостью, а тут, все-таки же, сорок сажен нужно пройти. Выборы продолжались далеко за полночь. Обедать было некогда и негде, все закусывали. На другой день были выборы кандидатов в гласные. После выбора кандидатов обедали настоящим образом и пили хорошо. На третий день ничего не было по части общественных дел, но вечером в той же зале был бал. Танцевали. Ужинали. Пили. Я боюсь, однако, чтобы мое выражение "выпили" не было принято дурно. Оговорюсь: пил, собственно, я, да еще два-три человека, а другие были заняты серьезным делом выборами гласных.
На четвертый день был cъезд мировых cудей. Боже мой, что это за великолепие и какая разница от приcутственных мест! Большая, светлая, великолепная зала, превосходная мебель для публики; место, где восседает суд, отделано великолепно, судьи все в блестящих мундирах, украшены орденами и разными знаками – все бывшие деятели, в ополченьи, при освобождении крестьян, в Западном крае. Отлично. Разбиралось дело какого-то мужика, который украл лошадь. Мужичонка небольшой, в лаптях, в худом зипунишке, представлял такой контраст с великолепием суда, – это и хорошо: великолепие поселяет в массах уважение к предмету; за границей университет и вообще учебные заведения большею частью суть самые великолепные здания в городах. Но то-то, я думаю, мужику страшно было. Беда ведь это, крый господи, под суд попасть. Стоит мужик – его с одной стороны, его с другой, и все это так вежливо "вы" (а это еще страшнее). Прокурор стал мнение подавать – этот посердитее говорит. Ушли, потом опять пришли: в тюрьму, говорят; однако сроку сбавили. Другого подавай. Отлично.
Удивительно это хорошая вещь, новое судопроизводство. Главное дело хорошо, что скоро. Год, два человек сидит, пока идет следствие и составляется обвинительный акт, а потом вдруг суд, и в один день все кончено. Обвинили: пошел опять в тюрьму – теперь уже это будет наказание, а что прежде отсидел, то не было наказание, а только мера для пресечения обвиняемому способов уклоняться от суда и следствия. Оправдали – ты свободен, живи где хочешь, разумеется, если начальство позволит. Отлично.
Письмо третье
СТР.
Сентябрь. Бабье лето наступило. Лес расцветился пестрыми 58 красками, лист на деревьях сделался жесток и шумит по-осеннему, но еще не тронулся – морозов не было. Небо серо, моросит осенний мелкий дождичек, солнышко если и выглянет, то сквозь туман, и светит, и греет плохо. Мокро; но это славу богу, потому что "коли бабье лето ненастно – осень сухая". Со дня на день ждем морозов; мы в деревне всегда чего-нибудь ждем: весною ждем первого теплого дождика, осенью – первого мороза, первого снега; хоть мороз нам вовсе не нужен, но нельзя же осенью без мороза, как-то неспокойно, что нет мороза; все думается, не было бы от этого худа. Чересчур что-то хорошо нынче: весна стала с первых чисел апреля, осень еще не началась в сентябре, пять месяцев не было морозов. К добру ли это? – ворчит "старуха", – нет-нет морозов, а потом как хватит! Все божья воля, – прибавляет она, спохватившись, что не следует роптать... все божья воля: бог не без милости, – он милосердный, лучше нас знает, что к чему.
Но вот и бабье лето кончилоcь. Прошли "Федоры – замочи хвоcты". Уже и по календарю наcтупила осень, а морозов настоящих все нет как нет, – скучно даже. Наконец на воздвижение ударил настоящий мороз; ночью сильно прихватило. Проснулся поутру светло, ясно, весело. Смотрю в окно – все бело, подсолнечники 59 уныло опустили головы, лист на настурциях, бобах, ипомеях почернел – только горошки и лупины еще стоят. После мороза лес пошел быстро оголяться: тронулась липа, осина; еще мороз – пошла и береза. Лист так и летит; с каждым днем в рощах все делается светлее и светлее; опавший лист шумит под ногами; летние птицы отлетели, зимние сбились в стаи, заяц начал белеть; около дома появились первые зимние гостьи – синички.
Удивительный нынче год! В конце сентября опять вернулось лето. Вот уже несколько недель стоит великолепная погода: небо ясно – ни облачка, солнце печет как в покос, только по вечерам чувствуется, что дело идет не на лето, а на зиму. Перед казанской прихватило было, но потом опять отпустило, и скот еще после родительской ходит в поле.
Как попривыкнешь, хорошо в деревне и осенью – вольно, главное.
С полей давно уже убрались. Лошадям приволье – бродят неопутанные, где хотят. Народ весел – хлеб родился хорошо; тяжелые полевые работы окончены. Конечно, мужик и теперь не без работы; но день мал, а ночь длинна – не так утомляется на работе днем и есть когда отдохнуть ночью; хлеб чистый, вольный. С огородов и овинов несутся звуки веселых осенних свадебных песен; бабы уже решили, кто на ком должен жениться, и в песнях, по своему усмотрению, сочетают имена парней и девок, которым пора жениться нынешней осенью.
В комнатах сейчас видно, что осень, – господствует тот особенный запах, который вы ощущаете осенью, входя на постоялый двор или в чистую избу зажиточного мужика, попа, мещанина, запах лука, гороха, укропа и т.п. В одном углу навален лук, в другом, на рядинах, дозревают бобы, семена настурций. В столовой весь пол завален кукурузой, подсолнечниками – все это у нас нынче выспело. На окнах, на столах, на полках разложены цветочные и огородные семена, образчики сена, льна, хлебов. Стены увешаны пучками укропа, тмина, петрушки.
Идет уборка огородного. Авдотья совсем про меня забыла; она до такой степени занята "огородным" и льном, – на обязанности Авдотьи лежит брать "спытки" льну со стлища и определять "ложился ли лен", – что готова оставить меня без обеда. Забежит поутру.
– Я вам, А.Н., сегодня щи с бараниной сделаю.
– А еще что?
– Баранины зажарю.
– Да ты бы, Авдотья, хоть утку с рыжиками сделала, а то все баранина да баранина.
– Как прикажете, – начинает сердиться Авдотья, – вы всегда не вовремя загадаете: сегодня бабы пришли капусту рубить, а тут 60 утку... Воля ваша, как прикажете, только насчет огородного не спрашивайте. Извольте, утку сделаю, а уж капусту, значит, оставим. Понапрасну только пироги пекли.
– Ну, хорошо, хорошо, жарь баранину, да только не забудь чесночком нашпиговать.
– Не забуду, – весело отвечает Авдотья и торопливо убегает в застольную, откуда через минуту слышится ее звонкий голос: – Вы, бабочки, идите капусту возить, а я сейчас, только спыток сомну.
Через каких-нибудь полчаса Авдотья уже прибегает ко мне с двумя горстями льну.
– Какой это лен?
– Трощенков. Вчера спыток взяла; по-моему, лежился; особенно, который побуйнейший. Мелкий-то еще не совсем, а буйный хорошо лежился – сами извольте посмотреть.
– Что ж, подымать будем.
– Воля ваша, а по-моему, пора подымать – еще в кладке что-нибудь дойдет – послабеет.
Авдотья бежит на огород, откуда опять слышится ее голос:
– Вы, бабочки, как свезете капусту, позавтракайте, да и начинайте рубить, а я сейчас, только барину кушанье сготовлю.
Авдотья готовит кушанье, но мысли ее далеко – в избе, где рубят капусту. Как только кушанье готово, она чуть не в одиннадцать часов утра подает обедать, и не дождавшись, пока я кончу обед, предоставив все убрать Савельичу, бежит в застольную угощать баб водкой и пирогами, потому что бабы пришли убирать огородное "из чести". До обеда было тихо, но, выпив водки и пообедав, бабы, работая, "кричат" песни. Долго после солнечного заката, до поздней ночи, из избы несется мерный стук сечек и слышатся звонкие песни.
Зеленая рутушка, желтый цвет,
Что тебя, Сидорка, долго нет,
Давно тебя Анисья к себе ждет... поют бабы. Бабы решили, что Сидор, молодой парень из соседней деревни, служащий у меня в качестве кучера, огородника, мясника он режет телят и баранов – и вообще по особым поручениям, непременно должен в нынешнем году жениться, потому что,за выходом замуж сидоровой сестры, в его двор нужна работница. Бабы решили, что Сидор должен жениться на молодой девушке из той же деревни, Анисье, которой в нынешнем году тоже следует выходить замуж. Сидор, слушая песни, ничего, только ухмыляется, но одна из моих работниц, солдатка, которая находится с Сидором в интимных отношениях, не может скрыть своей досады. Бабы это замечают и с особенным наслаждением "точат" солдатку. Прокричав "рутушку", 61 бабы заводят:
Переманочка уточка
Переманила селезня
На свое озеро плавати,
Но не я ж-то его манила,
Сам ко мне селезень прилетел,
На меня, утицу, глядючи,
На мои тихие наплывы,
На мои серые перушки,
На сизые крылышки.
Перепросочка Анисья
Перепросила Сидора
На свою улицу гуляти.
Нет, не я его просила,
Сам молодец ко мне пришел,
На меня, девицу, глядючи
и т.д.
Солдатка из себя выходит. Сказать бабам ничего нельзя, придраться не к чему, а бабы, понимая это, так и пробирают, так и пробирают: Анисья-то и молода, Анисья-то и хороша, Анисья-то Сидору под пару, толкуют бабы и опять заводят песню. В каких-нибудь две недели капустенских вечеров солдатка, женщина тихая и добрая, озлобилась до такой степени, что и не подходи к ней: взбесилась, как говорит Авдотья, похудела, почернела; со всеми ссорится, бранится, придирается к пустякам, а не на ком сорвать злобу, так мучит свою грудную дочку – плод преступной любви. Совсем одурела баба, да оно, впрочем, и понятно. Дошло до того, что солдатка пришла наконец ко мне просить расчета...
– Пожалуйте мне расчет, А.Н. Всем я вами довольна, а жить больше не могу. Обижают меня все.
– Кто ж тебя обижает?
– Все обижают, "старуха" обижает, – все не так, говорит, делаю; скотница обижает; все обижают.
– Изволь.
Солдатка в слезы – и плачет, и злится. Жалко мне ее стало: уж, должно быть, хорошо ее бабы пробрали, если она решилась уйти и расстаться с Сидором.
Призываю Авдотью.
– Что это, спрашиваю, с солдаткой?
– Бог ее знает. Взбесилась. И сердишься на нее, и жалко. Просто с ума сошла. Вчера дочку в хлеве бросила посреди коров. Пропадай она, говорит, – мне все равно. Еще чего не сделала бы.
– Да с чего это с ней стало?
– Совсем одурела, от дела отбилась, злится все.
– Это все ваши песни.
– Ну, конечно. Да ведь нельзя же, А.Н., рот другому зажать, а и Сидору не оставаться же холостым.
– Да какое же вам, бабам, до этого дело?
– А вот – хотят, поют; что же она бабам поделает? так вот ее 62 и испугались! Она себе злись! – начинает сердиться Авдотья.
Кое-как успокоил солдатку, обещал дать через неделю расчет; потом дело уладилось, кончилась уборка капусты, бабы перестали к нам собираться, и солдатка успокоилась. Теперь весела, добра и расчета не спрашивает.
Во время уборки огорода Авдотья совсем меня вытеснила, точно не я и хозяин; дошло до того, что она уже и в дом переехала со своей капустой. Просыпаюсь раз поутру, слышу какой-то шум за стеной, таскают что-то, передвигают.
– Что это? – спрашиваю Авдотью.
– А капусту будем в кухне рубить.
– Какую капусту?
– Белую; будем шинковать и рубить белую капусту для вас. В застольной грязно, а для вас нужно почище сделать – я вот и надумалась в кухне рубить.
– А я-то куда денусь?
– В поле пойдете теперь, а вечером что же вам все одним сидеть. Весело будет: бабы песни играть будут, – я самых лучших игриц позвала: "Селезня" сыграем.
– А споете "Чтобы рожь была колосиста, чтобы моя жена стоючи жала, спины не ломала"? – смеюсь я.
– Сыграем и эту. – Авдотья на все согласна, лишь бы я не запретил шинковать капусту в доме: ей ужасно хочется, чтобы капуста у нас вышла хорошая, не хуже, чем у соседних помещиц.
Я, разумеется, разрешил рубить капусту в доме. Авдотья заняла все комнаты и готова была даже в мой кабинет поставить какую-нибудь кадку, но кабинет я отстоял. Вечером было весело. В чистых двух комнатах Авдотья засадила девочек лущить бобы и перебирать лук; в кухне, на авдотьиной половине, шинковали и рубили капусту. Бабы и девочки пели песни и. наконец, покончивши с капустой, плясать пустились. Всем распоряжалась Авдотья, и даже ее муж, староста Иван, ни во что не вмешивался, потому что капуста – бабье дело. Все вышло очень хорошо: нарубили и нашинковали две огромные кадки, которые и поставили в кухне. На другой день я уехал в гости и возвратился через несколько дней. Вхожу в комнаты – вонь страшнейшая, продохнуть нельзя.
– Что это у тебя, Авдотья, так воняет в комнатах?
– Помилуй господи!
– Ведь войти в дом нельзя.
– Не знаю. Ничего такого нет, разве капустой пахнет, капуста закисает, бруда идет. А то ничего нет.
Действительно, это капуста закисала.
Все "огородное" бабы из двух соседних деревень убирали у меня "из чести"; только картофель убирали "за потравы".
Работа "из чести", толокой, производится даром, бесплатно; но, разумеется, должно быть угощение, и, конечно, прежде всего 63 водка. Загадав рубить капусту, чистить бураки и пр., Авдотья приглашает, "просит" баб прийти на "помочи". Отказа никогда не бывает: из каждого двора приходит по одной, по две бабы, с раннего утра. Берут водки, пекут пироги, заготовляют обед получше, и если есть из чего, то непременно делают студень – это первое угощение. "Толочане" всегда работают превосходно, особенно бабы, – так, как никогда за поденную плату работать не станут. Каждый старается сделать как можно лучше, отличиться, так сказать. Работа сопровождается смехом, шутками, весельем, песнями. Работают как бы шутя, но, повторяю, превосходно, точно у себя дома. Это даже не называется работать, а "помогать". Баба из зажиточного двора, особенно теперь, осенью, за деньги работать на поденщину не пойдет, а "из чести", "на помощь", "в толоку", придет и будет работать отлично, вполне добросовестно, по-хозяйски, еще лучше, чем баба из бедного двора, потому что в зажиточном дворе, у хорошего хозяина, и бабы в порядке, умеют все сделать, да и силы больше имеют, потому что живут на хорошем харче. Нельзя даже сказать, чтобы именно водка привлекала, потому что приходят и такие бабы, которые водки не пьют; случается даже, что приходят без зову, узнав, что есть какая-нибудь работа. Конечно, все это происходит оттого, что мужик и теперь всегда в зависимости от соседнего помещика; мужику и дровец нужно, и лужок нужен, и "уруга" (выгон) нужна, и деньжонок перехватить иногда, может быть, придется, и посоветоваться, может быть, о чем-нибудь нужно будет, потому что все мы под богом ходим – вдруг, крый господи, к суду какому-нибудь притянут – как же не оказать при случае уважение пану! И в деревне ведь то же самое: к богатому мужику все "из чести" пойдут на толоку, потому что нельзя же – то за тем, то за другим придется к нему обратиться. Я заметил, что, чем богаче деревня, чем зажиточнее и замысловатее крестьяне, тем более стараются они о хороших отношениях к помещику, ближайшему соседу. Зажиточный мужик всегда вежлив, почтителен, готов на всякие мелкие улуги – что ему значит прислать бабу на день, на два в такое время, когда полевые работы окончены? Конечно, он не возьмется работать за бесценок, но если цена подходящая, выгодная и он взял работу, то работает превосходно.
Когда я два года тому назад приехал в деревню, то первую же весну разливом реки у меня промыло плотину и так испортило дорогу, что я, как петербуржец, думал, что по ней и ездить нельзя. Конечно, я скоро убедился, что можно ездить по всякой дороге, потому что если нельзя проехать в телеге, то можно проехать на передке, – весною обыкновенно крестьяне ездят на тележном передке, на ось которого ставится небольшая корзинка, а верхом или пройти пешком всегда можно; но тогда, когда я был еще внове, услыхав, что староста предлагает проезжему помещику, 64 который желал перебраться на ту сторону реки, переехать на нашей лошади верхом, причем убеждал, что это совершенно безопасно, потому что лошадь умна, осторожна, привычна, знает дорогу и переплывет где глубоко, – я был крайне смущен и порешил, тотчас, как спадет вода, поправить дорогу и заделать прорву в плотине. По моему расчету, для поправки плотины и дороги не пошло бы более двадцати кубов земли, и если взять землекопов, граборов, как их здесь называют, то работа обошлась бы рублей тридцать; но землекопов вблизи не было, а мне, как петербуржцу, казалось, что нельзя оставлять дорогу в таком виде и необходимо поправить ее тотчас же, а потому я пригласил соседних крестьян и предложил им взять на себя эту работу. Крестьяне запросили за работу сто рублей. Я предлагал тридцать, предлагал пятьдесят, отказались наотрез: менее 100 рублей не пойдем, говорят. Ну думаю, прижимают. Знают, что негде взять землекопов, и потому жмут: я ведь тогда все воображал, что дорогу-то непременно нужно тотчас чинить и что крестьяне, зная это, потому и прижимают. Теперь, когда я пишу эти строки, мне даже смешны мои тогдашние волнения, потому что, если теперь испортилась дорога, я уже хладнокровно говорю: придет лето, даст бог хорошую погоду, дорога сама поправится, а теперь чини, кто хочет. Да и кто же весной ездит? зачем в такую пору ездить? К мировому привлечь могут – привлекай, – что ж? – можно и к мировому, мировой тоже человек, понимает, что я против стихии божьей не властен. Мировой! а разве у него в имении дорога лучше моей? Известное дело, проселочная дорога проехать можно. Кое-как поладим, в телеге проехать можно – живет. Да и зачем нам такая дорога, чтобы удобно было в каретах ездить, когда во всем околотке существуют кареты у двух-трех человек, да и то старые, до "Положения" построенные. Да и что значит "починить" проселочную дорогу? в какой именно вид ее привести? Чтобы в каретах на лежачих рессорах можно было ездить? Но если все проселочные дороги держать в таком порядке, то и пахать некому будет: всем придется постоянно сидеть на дорогах и их чинить. Но если некому будет пахать, не будет ни у кого и карет, – зачем же тогда дороги чинить? Хочешь в каретах ездить – чини сам, а мы на колесах – есть такой экипаж, который называется "Колеса", потому что в нем, кроме колес, ничего нет, – везде проедем. Разумеется, когда начальство едет – губернатор, архиерей, исправник, – тогда, понятно, следует уважение оказать, дорогу починить, тогда не то, что худую, а и хорошую дорогу починим! Повторяю, теперь я привык ко всему этому; знаю, что осенью и весной ездить не следует, да и летом, отправляясь в дорогу, нужно перекреститься, – но тогда, внове, я ужасно волновался. Нужно чинить дорогу, а за починку требуют несообразную цену – сто рублей. Что тут делать? крестьяне так и уперлись на ста рублях.
На другой день приходит ко мне один крестьянин, с которым 65 первым я сошелся по приезде в деревню. Крестьянин этот в крепостное время был взят из деревни в дворню и служил при мне в "мальчиках" в доме, где я воспитывался до пятнадцати лет. В малолетстве мы были друзьями и когда-то вместе играли, бегали, дрались. Потом меня отвезли в Петербург, а Степка попал в поваренки, был поваром, служил при одном из молодых господ, с которым, как он выражался, отломал два похода: венгерский и крымский. После крымской войны Степан получил вольную, служил долго в Петербурге при одной из гимназий, наконец, заболел, пролежал восемь месяцев в больнице и, поправившись, по совету доктора, отправился в деревню, – двор его зажиточный, – в несколько лет сделался совершенным крестьянином, научился пахать, косить, рубить. Человек он был – нынешней зимой он умер – очень умный, добросовестный работник, отличный хозяин, понаметался около людей, все хорошо понимал и пользовался громадным уважением в деревне. Когда я приехал в деревню, Степан явился ко мне поздравить с приездом, я ему очень обрадовался, стали мы припоминать старое время, как вместе лазили на голубятню, вместе воровали вишни и дразнили старого садовника Осипа. Я, конечно, угостил Степана и водочкой, и чайком. Потом Степан иногда наведывался ко мне по праздникам вечерком покалякать: пили чай, болтали о Петербурге, о старом и новом времени, о хозяйстве. Степан много мне разъяснил из деревенских отношений, много дал хороших советов. "Теперь еще лучше можно хозяйничать, чем прежде, когда были крепостные, – говаривал Степан: – теперь все стало дороже, особенно как дорогу провели; вы не опасайтесь, что будет недостаток в рабочих, не бойтесь, что земля запустеет, – все обработают; делайте так, чтобы и вам было выгодно, и мужику было выгодно, тогда у вас все пойдет хорошо".
– Да как же это сделать?
– Хозяином нужно быть для этого. Коли сделаетесь хозяином, так и будет все хорошо, а если хозяином не можете сделаться, так не стоит и в деревне жить. По-деревенски только все делайте, а не по-петербургски. Здесь иначе нельзя, сами увидите.
После разговора с крестьянами насчет поправки плотины и дороги на другой день Степан пришел ко мне и принес зайца.
– Я вот зайца убил, А.Н., вам принес – русачок.
– Спасибо, вот и отлично, сам его и зажаришь, вместе и закусим.
Степан зажарил зайца, выпили, сели закусить и, разумеется, разговорились о прорыве плотины. Я жаловался, что крестьяне прижимают и требуют сто рублей за такую работу, которая стоит много тридцать рублей.
– Не так вы сделали, А.Н., – заговорил Степан. – Вы все по-петербургски хотите на деньги делать; здесь так нельзя.
– Да как же иначе? 66
– Зачем вам нанимать? Просто позовите на толоку; из чести к вам все приедут, и плотину, и дорогу поправят. Разумеется, по стаканчику водки поднесете.
– Да ведь проще, кажется, за деньги работу сделать? Чище расчет.
– То-то, оно проще по-немецки, а по-нашему выходит не проще. По-соседски, нам не следует с вас денег брать, а "из чести", все приедут, – поверьте моему слову.
– Хорошо, положим, я толоку сделаю... нужно угощение хорошее, а ты сам знаешь, – у меня никакого заведения нет, столов даже нет.
– Ничего этого не нужно. Все знают, что у вас еще нет заведения, и потому приедут позавтракавши дома; вы им поднесете по стаканчику водки, – самим вам нужно, как хозяину, на работу прийти. Тут дело не в водке – "из чести" приедут; водки для того только нужно, чтобы веселее было работать.
– Мне кажется, гораздо проще за деньги делать. Теперь такое время, что работ полевых нет, все равно на печи пролежат. Цену ведь я даю хорошую?
– Конечно, цена хороша, да мужик-то "из чести" скорее сделает. Да позвольте, вот я сам: за деньги совсем не поеду на такую работу, а "из чести", конечно, приеду, да и много таких. "Из чести" все богачи приедут; что нам значит по человеку, да по лошади с двора прислать? Время теперь свободное, – все равно гуляем.
– Постой, но ведь хозяйственные же работы полевые все на деньги делаются?
– Хозяйственные, то другое дело. Там иначе нельзя.
– Не понимаю, Степан.
– Да как же. У вас плотину промыло, дорогу попортило – это, значит, от бога. Как же тут не помочь по-соседски? Да вдруг у кого – помилуй господи – овин сгорит, разве вы не поможете леском? У вас плотину прорвало – вы сейчас на деньги нанимаете, значит, по-соседски жить не желаете, значит, все по-немецки на деньги идти будет. Сегодня вам нужно плотину чинить – вы деньги платите; завтра нам что-нибудь понадобится, мы вам деньги плати. Лучше же по-соседски жить – мы вам поможем, и вы нас обижать не будете. Нам без вас тоже ведь нельзя: и дровец нужно, и лужок нужен, и скотину выгнать некуда. И нам, и вам лучше жить по-соседски, по-божески.