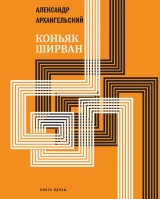
Текст книги "Коньяк «Ширван» (сборник)"
Автор книги: Александр Архангельский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
И пойдет писать губерния.
То по городам и весям распространятся перепечатки безгрешного порнографа Набокова и крестьянские плачи декадентов Клюева с Есениным. То роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», арестованный чекистами в редакции журнала «Знамя» (не зря Солженицын боялся!), обнаружится в Женеве. То «Мастер и Маргарита» пойдет по рукам, то Евангелие войдет в машинописную моду…
Спутник плывет над сияющей Землей; колониальные народы бунтуют; порабощенные писатели ропщут; обыватель покупает первый в своей жизни холодильник; 15 марта 1962-го в Америке (за три дня до Эвиана!) учреждают Всемирный день потребителя, а машинка знай себе мечет страницы. Копирка разложена на четыре экземпляра, пятый – папиросная бумага, полуслепой, но все равно сгодится! А можно разложить и на десять, и на двенадцать папиросных, это уже настоящий тираж.
Год от года, в полном соответствии с законами экономического развития, машинописное производство будет расширяться. В 70-е мы с мамой и бабушкой переедем на другую окраину Москвы, в Матвеевку; четырнадцатиэтажные спичечные коробки, дом в дом. (Там ты, кстати, и родишься.) Напротив нас поселится типичный интеллигент: маленькая бородка с проседью, большие очки, письменный стол у окна, зеленая настольная лампа, портативная машинка. Каждый вечер, с семи до девяти, после ужина и ровно до программы «Время», он будет аккуратно тюкать, считывая текст с большеформатных книг на подставке.
Узнаваемые дерматиновые переплеты. Явная антисоветчина вперемешку с модным бредом. Наверняка письмо Солженицына к вождям, рассуждения академика Сахарова о мире, прогрессе и чем-то очень хорошем, «Собачье сердце», философическое словоблудие Бердяева, лекции некоего Ажажи о летающих тарелках и письмо товарища Ленина к съезду… Изредка сосед будет вскидывать взгляд и упираться в наше окно. Перед его глазами – желтая настольная лампа; черная машинка; моя мама, склонившись над работой, как дятел, долбит по клавишам. Он и она похожи друг на друга, как орел и решка.
Машинописная реальность позднего СССР…
3
Потом у машинки появится помощник – западное радио на русском языке. Его учредили давно, вскоре после войны, но мало у кого были тогда подходящие приемники; постепенно ситуация начнет меняться, запретное радио станет доступней. Там будут читать вслух книжки Солженицына и врага его Войновича, Аксенова и Владимова. Митрополит Антоний Сурожский и мирной атеист Анатолий Максимович Гольдберг духоподъемно будут спорить в Лондоне о смысле жизни. Радио станут глушить пищалками; без толку. Вольная часть страны превратится в слуховую избу-читальню.
Посмотри на мир 70-х с высоты птичьего полета, приподними крыши блочных домов, увидишь интересную картину. Надвигается ночь, посуда помыта, дети наконец-то спят, скучающие жены ходят кругами, намекающе вскидывают полные руки, распуская волосы и обдавая зашторенную кухню запахом мыла «Земляничное», а лохматые дяденьки зависают над рижским приемником «Спидола» и без конца наклоняют его в разные стороны, чтобы поспеть за ускользающим радиосигналом. Такой приемник был и у нас. Потом ты его раскурочил, сидя в манеже; ничем другим отвлечь тебя было невозможно.
Иногда роли меняются. Заслуженный бронетанковый майор, сдуру женившийся на молоденькой учительнице, на ночь глядя тщательно бреется электробритвой, опрыскивается одеколоном «Красная Москва» и строит куры аппетитной подруге жизни. Та не обращает на него никакого внимания; она приникла розовым ушком к черной коробке динамика и напряженно слушает передачу Севы Новгородцева про современный рок. Антисоветчина, опасно, а не возразишь: девка молодая, сладкая, норовистая, обидится, вообще всю неделю будет стелить отдельно. Майор вздыхает и выходит покурить на лестничную клетку; на кухне теперь нельзя, не положено.
А вот и третья картинка. Запершись в своей комнатушке, молодожены вскрывают коробку с подарком, прикручивают к антенне коротковолновика дополнительный провод спиралькой, втыкают наушник и, ласково прижавшись друг к другу, с обоюдной страстью внимают на супружеском ложе свежим запрещенным новостям. Кровь кипит, запретный плод сладок, удовольствие, близкое к эротическому. Родители молодых стараются к двери не приближаться и всячески запрещают себе прислушиваться: все-таки первая брачная ночь, мало ли какие будут звуки, неудобно как-то…
Даже в нашем никакомыслящем семействе, задолго до продвинутой «Спидолы», появится старый длинный приемник с короткими волнами. Лакированное туловище, мигающее огоньками брюхо, светящиеся циферки и слова: Ленинград, Рига, Вильнюс, Минск… Медленно ползет волноискатель, слева направо, справа налево; шорохи, взвизги, смутные, ускользающие голоса. Не обращая никакого внимания на мамины страхи, со всем подростковым трепетом я буду слушать запретное. Волнение в крови, чувство, что можно все, чего нельзя… Правда, сердечная энергия протеста с трудом будет перетекать в энергию бунтующей мысли; вовремя став юным антикоммунистом по чувству, я надолго останусь советским мальчиком по разуму. Ничего; потом наверстаю. А первый шаг в заданном направлении – сделан.
4
Радио было помощником машинки. Ее конкурентом стал ротапринт. Это была такая наборная штука; в нее заправляли восковку, набивали текст и тиражировали. Можно было накатать и сто, и более экземпляров. Где-то валяется автореферат моей диссертации, типичный ротапринт, погляди, если интересно. Половина ученых трудов, даже записи некоторых лекций были оттиснуты на ротапринте. Заодно оттиснуто и кое-что другое. Нелегальное.
Чем ближе к нашим дням, тем ротапринтный бизнес смелее, обороты растут. Никакие гэбэшные облавы не спасают советскую власть от самоподрыва. Потому что игра стоит свеч, подпольная прибыль поступает в промышленных масштабах, капитал одолевает нищету философии… Первопечатники не подозревали, что занимаются теневым бизнесом, и смертельно обиделись бы, если б им об этом сказали. Как так, мы не цеховики какие-нибудь, не спекулянты; мы благородное дело делаем, книжки издаем. Да какой же книжки бизнес, помилуйте; это ж культура… Они получали свои двести рублей с тиража и шли давать взятку продавцу за дефицитный итальянский унитаз. Система разлагалась.
5
В самом конце 70-х в закрытых полувоенных НИИ появится сказочное изобретение вольного мира – ксерокс. Огромные множительные машины, высотой вполовину человеческого роста, размером два на полтора, стальные бегемоты. Их ставили на особый учет, помещали в специальные комнатки, переоборудованные из туалетов; двери обивали жестью, они внушали трепет и блестели, как вставные зубы. На ксероксах были счетчики страниц, похожие на спидометры в автомобилях; народные умельцы эти счетчики скручивали и брали двадцать копеек за страницу, тридцать за разворот. На умельцев устраивали парткомовские облавы; без толку. В тесном помещении стоял запах перегретого порошка, раскаленного озона и человеческой жадности; переплетчики наглели и обходились без перерывов на основную работу.
А потом появились компьютеры. И распался Советский Союз.
6
У этой временной границы торможу, разворачиваюсь – и назад.
Пока мы пели похвальную песню машинке, наступил июнь 1962 года. Редакция «Нового мира» взахлеб восторгается «Одним днем Ивана Денисовича». Новомирское начальство рязанского самородка хвалит: лично Алексан Трифонычу Твардовскому нравится, как не поддержать. Солженицыну заплатили невероятный аванс, то и дело приглашают в Москву, гоняют чаи, но в печать «Ивана Денисовича» не отправляют и непоправимо упускают время.
За прошедшие полгода ситуация переменилась. Хрущев давно уже испугался своей собственной смелости, не мешает стране отползать назад. Сталина в печати ругают все реже, лагерная тема сходит на нет. А интеллигентские машинки продолжают неостановимо работать, битые валики крутятся, наэлектризованная копирка липнет к бумаге. Не дай бог, новомирские снимут лишнюю копию (сняли уже!), пустят по рукам (пустили!), утечет рассказ за границу, напечатают его в каком-нибудь эмигрантском издательстве, и пиши пропало…
Солженицын в напряжении. До недавних пор машинка была ему лучшим другом, теперь стала потенциальным врагом. Казалось бы, чего бояться? Он же не делает карьеры советского писателя. Ну, напечатают за границей. Ну, откажут в публикации на территории СССР. Столько лет жил без родного, русского читателя, можно и впредь обойтись. Текст уже не уничтожить. Книгу будут читать, переводить; рано или поздно, описав кривую, бумерангом она вернется на родину. Что до риска новой посадки, это да, это хуже. Опять допросы, наглый свет настольных ламп, за которым не видно лица следака, а лишь слышен его ровный, скучающий, липкий, как намокшая осенняя паутина, голос. Украденное время неповторимой жизни. Но вероятность ареста все-таки невелика. И, значит, дергается Солженицын из-за другого.
Он никогда не тешил себя иллюзией братского мира с советской властью. Именно поэтому заранее угадал то, чего не уловили ни верховные власти, ни лояльные гении, ни молодые бунтари, ни будущий наш машинописный сосед из дома напротив. Параллельное существование вольной культуры, ее подпольное распространение дает возможность личного освобождения. Но грозит крушением государства.
Думаешь, нелогично? Как Солженицын мог думать о спасении того самого государства, которое перетерло, перетолкло в пыль его молодость? Построенное на крови, кровью питавшееся, оно вампирически высасывало все вокруг себя, иссушало, губило. Поколения веселых идиотиков, накачанных гормоном счастья, шли с шариками на демонстрации и расползались по широким радостным площадям в историческое небытие, в бессмыслицу, отупение, смерть. Остальных, не поддавшихся гипнозу, укатывали катком истории. Чтоб и следа не осталось.
Однако Солженицын уже тогда понимал: если это государство рухнет, оно погребет под собою всех. И тех, кто его создавал. И тех, кто медленно крошил фундамент. И тех, кто, лучезарно улыбаясь, распылял свою жизнь в никуда. Лучше разбирать его по кирпичику, планомерно. И – в открытом пространстве. Потому что в глухой глубине машинописного подполья свободная мысль рыхлит и разрушает почву. Почва теряет упругость, проседает, образуются провалы. Чтобы страна в конце концов не распалась и обломки империи не придавили граждан, нужно вовремя сделать шаг от машинописи к типографскому набору, от рукописи к книге, от тайны под спудом к прилюдной жизни свободной мысли. Вчера было рано, завтра будет поздно, сегодня в самый раз.
Если я правильно понимаю, именно это заботило Солженицына больше всего. Инстинкт исторического самосохранения нации был важнее, чем встреча с читателем, слава, возможность безбедно работать над новыми книгами. Которые нанесут по советской власти еще более страшный удар. Как профессиональный подрыватель устоев (было такое выражение – «подрывать устои»), он аккуратно рассчитывал силу удара, мощь взрывной волны, расписывал график закладки. Постепенно, поэтапно, неуклонно. От слабых зарядов к более грозным, от грозных к сокрушительным. Чтобы порода осела, открыв голубой горизонт. А не накрыла страну с головой.
7
Первый раунд своей исторической битвы за крушение ленинского коммунизма и сохранение русского государства Солженицын выиграл. Пролетел июнь с его Новочеркасском. Прошел июль с его алжирским референдумом. Мой коклюш остался позади. И писателю внезапно сообщили: приходите, будет решение.
Два очень разных и в чем-то очень похожих человека сидят друг против друга в тесном новомирском кабинете. Вот они, видишь? Один чуть мужиковатый, отмеченный особой красотой сухощавого провинциала. Острый покалывающий взгляд, хорошая улыбка; здоровая крепость ощутима в каждом четком жесте. Второй тоже мужиковат и тоже бывший красавец; синеглазый, умный, упрямый; но уже чуть-чуть по-бабьи оплывший, слишком много за это время выпивший беленькой, слишком высоко взлетевший вместе с красненькими. Они нравятся друг другу, автор гениального «Ивана Денисовича» и автор гениального «Теркина». Очень народные, хитрые, упрямые, умеющие быть добрыми, а если надо, то и злыми, уверенные в себе и не уверенные почти ни в ком другом…
Они нравятся друг другу, но чуют взаимную опасность, растворенную, как яд, в обоюдной приязни. Твардовский боится мертвой хватки бывшего зека, его скрытой свободы: может не вовремя полыхнуть так, что все погорят. Солженицын боится мягкой редакторской перины; как бы не расслабиться, не утонуть, не задохнуться. Но с виду все мирно, все ласково. Наконец-то рукопись пошла в дело, помощник Никиты Сергеича Лебедев ознакомился, одобрил в общем и целом, в Пицунде почитал Никите Сергеичу вслух, Никита Сергеич воодушевился, позвал Анастаса Ивановича, Анастас Иванович тоже послушал и тоже одобрил… Будем печатать!
Давая добро, Никита Сергеич не имел в виду ничего такого, политического, мистического, историософского или же промыслительного. Во время пицундской читки он придремывал, про будущее не думал, просто была хорошая погода, пахло остывающим морем и разогретыми соснами, ему страшно понравился герой повести, простой мужик, чем-то похожий на него, Никиту. Сумел выжить. Не озлобился. А как славно работает, как забывает обо всем на свете, когда его захватывает общее дело народного труда! Хорошая вещь. Смелая. И старые пидорасы вместе с молодыми негодяями, засевшие в Политбюро, пусть утрутся. Он сам будет решать, пора кончать с разоблачением культа личности или не пора. Потому что он вождь, а они говно. И Анастас так же считает.
Спустя несколько дней после новомирского разговора Твардовскому позвонили.
Тихий партийный голос передал распоряжение: обеспечить двадцать пять экземпляров художественного произведения «Один день Ивана Денисовича» т. Солженицына А. И. Чтоб было к утру. Доставить по известному адресу. Вопрос будет рассматриваться на Политбюро.
Трубку положили, не дожидаясь возражений, объяснений и экивоков. Твардовский напрягся.
Это сейчас двадцать пять, сто или тысяча экземпляров не проблема; включил компьютер, отправил на принтер, успевай вынимать горячие листы. Тогда все упиралось в нее же, в родимую нашу машинку. Широкие массы неторопливой интеллигенции она охотно обслуживала, а спешный заказ немногочисленного руководства выполнить решительно не могла. Нужен был целый цех машинисток (в Политбюро слепую копию не пошлешь); требовалось усадить пятьдесят девочек в капроновых чулочках и веселеньком ситчике, раздать каждой по половине текста, к утру получить работу, соединить начала с концами и отправить двадцать пять курьеров во все московские переплетные мастерские, прямо к открытию. Где было взять эти полсотни девочек и четверть сотни курьеров? И где было взять экземпляры, с которых все они разом будут печатать новые копии? Замкнутый круг.
В конце концов нашли решение, единственное в своем роде. Быстренько набрали повесть в типографии; оттиснули требуемое количество, переплели в новомирские обложки; тяжелые наборные формы убрали в сейф, а книжки послали в Кремль. Политбюро прочитало, глубоко задумалось и внушительно поддержало вождя.
Первый шаг от слепой машинописи к просторному набору был сделан. Вскоре будет сделан и второй шаг. Повесть выйдет в свет в ноябре. Вызовет явный восторг и скрытое озлобление, приотворит люк подземья, выпустит вольный дух наверх, дневной свет просочится вниз. Появится шанс проскочить мимо неизбежного взрыва внутри системы к мирному выходу из нее. И быстро исчезнет. Третий шаг не состоится; Солженицына в конце концов запретят; вольная мысль опять скрутится в тесный валик и спрячется под душную копирку; эмигрантам будет где работать, мастерам ротапринта и партийным порученцам ксерокса – чем зарабатывать, нам – что читать и слушать по ночам. Советский Союз распадется; мы будем жить в разрозненной стране, тоскующей о прошлом; прозябать в нищете и зарабатывать деньги, ездить по миру и со страхом ждать развала России… Об этом никто не знает, и все пока надеются, каждый на свое.
8
20 октября 1962 года, в субботу, Твардовский сидел в кабинете Хрущева. Получал последние напутствия перед отправкой Солженицына в печать. Энергичный вождь говорил, говорил, говорил. Не о политике – о жизни; он был почти лиричен, человечен и бодр. Крепкий и пупырчатый, чем-то похожий на свежий початок своей любимой кукурузы.
Цензура? Да отменим мы цензуру, что ж вы, работники культуры, всегда так спешите. Партийные ретрограды? Есть такие, а вы нам помогите их победить. А какое будущее нас ждет, трудно сейчас даже представить! Народ разбогатеет, не нужно этого бояться, это хорошо, лишь бы не было эксплуатации. Люди будут больше читать, смотреть хорошие фильмы, ездить по нашей процветающей стране. Церковь совсем не понадобится, зачем она, если утешать будет некого, ведь жизнь начнется справедливая. А сейчас очень важно устранить два препятствия на этом важном пути. Спокойно разобраться с прошлым, завершить с культом личности, но так, чтобы не отнять у людей смысл правильно, героически прожитой жизни. И показать Америке, кто мы такие. В какой свободной стране мы живем. На какие подвиги способны. Какие у нас есть таланты из народа. Вот завтра в газете «Правда» выйдет поэма молодого художника слова Евгения Евтушенко, «Наследники Сталина», и это, знаете, серьезное событие в нашей жизни.
Твардовский жалуется, что на него давит Союз писателей, заставляет лететь в Америку, а ему не до того, не хочется, лишнее; лучше писать, пока пишется. Хрущев хитро улыбается: а и впрямь не надо вам лететь; сейчас отношения со Штатами и так неважные, а неровен час еще ухудшатся. Вот весной следующего года поезжайте, они вас отлично примут, это мы вам гарантируем. Что-то такое Хрущев знает, что-то такое держит в козырях…
В это самое время на другом конце Земли президент Кеннеди пытался представить себе, что сейчас делает Хрущев и о чем он думает. Начинали разворачиваться события, которые мгновенно разрушат солженицынский план мягкого спуска и развернут историю в другом направлении. Жестком до жестокости.
Планета колобком катится под откос.
Впереди либо смутный мир, зараженный неизбывной враждой, либо последняя война. И конец всему.
В понедельник 22 октября Хрущев узнает о решении Кеннеди. Если бы узнал 20-го, может, и солженицынскую публикацию притормозил бы; кто знает? Но вышло как вышло. Решение, принятое и подтвержденное в одну эпоху, было исполнено уже в другую. Которая наступила ровно через два дня.
Глава седьмая
1
В 1962-м Анастас Иванович непрерывно решал вопросы жизни и смерти. В июне слегка пострелял восставших новочеркассцев; в июле выяснилось, что прогрессивный президент Индонезии Сукарно окончательно запутался в параллельных отношениях с Америкой и Советами, как заплутавший муж – в отношениях с женой и любовницей; в воздухе запахло грозой. Микояновскую делегацию срочно отправили в Индонезию. Что именно делал там специалист по вкусной и здоровой пище, в деталях не знаю, но времени он даром не терял, кого надо развел, кого надо свел, дал денег и оружия, всех поссорил друг с другом, а с Советским Союзом помирил.
24 июля советские газеты сообщали: в Джакарте произошло «подписание совместного индонезийско-советского коммюнике о пребывании в Индонезии с миссией доброй воли первого заместителя председателя Совета Министров СССР А. И. Микояна». Перевожу с советского на русский: войны удалось избежать; Анастас Иванович может лететь домой. Он полетел. А через три месяца узнал, что надо немедленно отправляться на Кубу, подводить черту под Карибским кризисом. Тема волнующая, даже, как теперь говорят, волнительная; но мы сделаем паузу, из надмирных высот ненадолго спустимся в маленький сокольнический домик, детально рассмотрим подробности нашего нищего быта.
2
Осень. Запоздалый просвет бабьего лета в середине октября. Сыро, но солнечно; плотно пахнет прелью. Десять или двенадцать дощатых, почерневших домов сходятся в круг, образуя общую лужайку с песочницей, козлами для пилки дров, чугунной колонкой, вечно дымящей помойкой, плешивыми пятнами кустов акации и шиповника. Несколько случайных кленов. Облетевшая липа. В дальнем углу, прикрытая рваным толем, маленькая вонючая свалка. Унылый пейзаж.
Так я вижу отсюда, сейчас; в раннем детстве Сокольники казались мне лучшим местом на свете. Ненавистный ободок ледяного горшка, бабушка, моющая жирную посуду ржавой холодной водой, усталая мама, одиноко пилящая дрова после работы, – все это было неважно. Важно было только то, что искры от костра прожигали сумеречное небо; сияющий свинец выливался из обгорелой консервной банки во влажный песок и превращался в тяжелую биту. Живой огонь был всюду – в осыпающейся печке, в мерцающей керосиновой лампе, в газовой конфорке, в запасной спиртовке, везде. Пламя было такое разное – трескучее, яркое, тихое, оранжевое, беззвучное, синее; на него можно было смотреть часами; коленки у меня были вечно прожжены, а руки в волдырях; я рос огнепоклонником. Мама ужасалась, напоминала о слепом соседском Вовике, который лет за пять до моего рождения нашел патроны, бросил в печку и остался без глаз и половины левого уха; напрасно.
Впрочем, в октябре 1962-го нервничать было еще рано; я не ходил, а только ползал под присмотром суровой бабушки, по-рачьи пятясь и виляя задом. И продолжал беспощадно орать. Днем и ночью. Посмотрев на меня внимательно и еще внимательней послушав, деревенская соседка тетя Нина в конце концов сделала вывод: «Авнистай будет!». Потом подумала и добавила: «Или станет певец». Первое сбылось, второе нет.
А зашла тетя Нина из чистого любопытства, только на минутку, поглазеть на Ирину Ивановну, которая до этого в Сокольниках никогда не бывала. Кто такая? Зачем пожаловала? Почему такая черная? А это у вас что такое? Понятно.
Мама не успела вернуться с работы, гостью принимала Анна Иоанновна. Быстренько спровадив Нину, они вдвоем распаковали фанерные ящики с овощами, с удовольствием обнюхали жирные помидоры, пошлепали по гладкой округлости синенькие, подвесили к потолку связку красного южного лука, переложили в миску шершавую жердель – мелкие, но спелые ейские абрикосы. Ирина Ивановна поярче накрасила губы, заплела седую косичку, рыхлым голосом прокуренной красавицы спела мне суровую песенку и бесцельно бродила по комнате.
Анна Иоанновна, уже начинавшая тогда слепнуть, не мигая, сидела в кресле и аккуратно расспрашивала о знакомых, родне, доме, в целом о ейской жизни, как там она. Все хорошо, тетечка, отвечала Ирина Ивановна; все хорошо. Алеша пьет, зараза такая, бабу Маню тихонько похоронили, внук хороший мальчик, но бабушку в грош не ставит, а бабушка обожает мерзавца. Мерррзавца! – возглашала Ирина Ивановна, и начинала отчаянно кашлять, так что кучерявая штукатурка сыпалась с потолка.
Из-за чего и в какой момент они повздорили, никто не знает. Наверное, бабушка по старой школьной привычке начала воспитывать непутевую Ирку, упустившую сына.
– Стыдно, Ира. Сты-ы-ыдно. Меньше о мужиках надо было думать, домой их по ночам водить. Был бы жив Освальд, он бы с Лешкой справился, Лешка человеком бы вырос, а не слизняком.
– Кто это слизняк? Да что ж вы такое говорите, тетечка? Алеша парень хороший, добрый, ну пьет, ну кто ж не пьет? Перестаньте сейчас же, мне как матери обидно слушать.
– Тоже мне мать! Он тебя из дома выгоняет, в блевотине валяется, жену свою толстожопую бьет и маленького таким же дураком вырастит, ты меня еще вспомнишь! Прогуляла свою жизнь без толку, теперь расплачивайся.
– Что вы, тетечка, в гулянках понимаете? Прожили жизнь старой девой, много, что ли, получили радости? Мне хоть будет что вспомнить перед смертью, а вам, кроме скуки – ничего.
Возмущенный голос Ирины Ивановны гремел и булькал неотхарканной табачной мокротой. Анна Иоанновна отвечала еще громче, зычно, по-командирски; с этим у Демулиц всегда был полный порядок. Тихоголосая мама обычно краснела и тушевалась, когда бабушка начинала шуметь: да как же так, соседи услышат, неловко…
Слово за слово, старухи разругались вдрызг.
Анна Иоанновна саданула дверью и закрылась у себя в комнатке.
Ирина Ивановна тоже хотела садануть, но я с перепугу опять заорал, она стала меня успокаивать и сама в конце концов успокоилась.
Через час вернулась мама, пошла мирить бабушку с теткой, но как только открыла дверь в бабушкину комнатушку, из груди ее вырвался всхлип: ыыых!
Анна Иоанновна сидела на своей ободранной кровати из красного дерева, сама как деревянная, откинувшись к стене. Лицо у нее было сизое, почти фиолетовое, выпуклые складки на скулах доходили до последних степеней багрового, мутные глаза навыкате, рот открыт, губы синие, сухой язык распух. Она тихо сипела. Мама бросилась к ней. Бабушкина шея была перетянута байковым поясом от халата. Трясущимися руками, ломая ногти, мама стала развязывать узел. Анна Иоанновна в меру посопротивлялась: «Не надо… оставьте меня в покое… дайте мне хотя бы умере-е-еть…», но быстро и охотно сдалась, позволила освободить себя от удавки и уложить в постель.
Последние полчаса она только о том и думала, куда ж это Милочка запропастилась, еще немного, и будет поздно спасать, а самой развязать узел, захлестнутый в порыве обиды и гнева, – невозможно. Позор. Задержись мама на работе – бабушка упрямо доконала бы себя, я уверен. Хотя вообще-то умирать не собиралась. Ей нужно было всего лишь наказать зарвавшуюся Ирку и развернуть мир на себя. Такой уж у нее был авнистай характер.
Кровь постепенно отливала от головы. Почему-то сначала побледнели бабушкины щеки, потом посветлели подбородок и скулы, лоб освобождался от пятен постепенно. Рассосался фиолетовый оттенок, багровый сменился красным, красный уступил темно-розовому, а тот восковому. На шее остался густой рубец.
Анна Иоанновна из-за пережитого ненадолго повредилась в уме. Ей мерещилось, что она в Ейске, ей семь лет, у нее воспаление легких, нечем дышать; у кровати сидит греколюбивый краснодарский владыка, с которым так дружил папичка; окна закрыты ставнями, но все равно духота, и старшие сестры натягивают мокрые шторы, смягчая сумрачную жару.
«Я не умру? Я ведь не умру, правда?» – спрашивает маленькая бабушка владыку, и так сладко, так восхищенно жалеет себя. Владыка, прикладывая ко лбу холодный тяжеленький крест, приговаривает: ну как же так, ну что же ты наделала, ну тетку Иру не любишь, меня не жалеешь, Сашеньку бы пощадила…
А потом бабушка провалилась в долгий сон. Тетка Ира обиженно шваркала вещи в чемодан, ругала маму за христианское смирение, обзывала исусиком, потому что как же ж можно все это терпеть; ночевать она отправилась к тете Нине, за рубль. Мама тихо плакала на кухне. Так, чтобы никто не видел и не слышал. Что же это за жизнь такая? За что ей все это?
А смерть, заглянувшая было в гости, попрощалась до времени и ушла. Ей было чем заняться в те дни. И в Москве, и в Вашингтоне, и на Кубе.
3
Снова оторвемся от земли. Мы над Сокольниками? Выше. Медленно плывем вокруг планеты; она светится изнутри, как только что расплавленный свинец. Под нами Занзибар и Танганьика, Тринидад и Тобаго, уже почти родной освобождающийся Алжир; муравьиные полчища движутся в мареве Северо-Восточной Индии: это китайские войска пересекают линию Мак-Магона; маленькая толпа шевелится у входа в какое-то здание – свой первый концерт дает ансамбль «Роллинг Стоунз»; только что принятый в неизвестную группу «Битлз» ударник Ринго Старр наяривает «Love Me Do» и не знает, что этот сингл станет первым хитом битлов; а что же происходит на Карибах? приглядись, нечто новенькое, делаем стоп-кадр, отсылаем на землю.
Во вторник 16 октября… Ты замечал, что главные неприятности современного мира почему-то приходятся на вторник и четверг, очень редко на понедельник? Практически никогда на среду и пятницу, субботу и воскресенье. Черные вторники, черные четверги… Случайность это или закономерность? пожалуйста, подумай. Но не сейчас. Потому что сейчас, во вторник 16 октября 1962 года, нам с тобой не до того. Решается наша судьба, определяется наше будущее. В Овальный кабинет президента Кеннеди быстро входит, почти вбегает помощник по национальной безопасности Макджордж Банди. Докладывает: облачность рассеялась, разведывательный самолет U-2 сделал снимки над Кубой. Советы все-таки разместили ракеты среднего радиуса действия. А что это значит? Это значит – почти война. Ядерная.
Кеннеди мрачнеет, берет снимки и начинает медленно разглядывать их под лупой. Здесь были джунгли, теперь вырубки. Тут была пустошь, а теперь множество ракетных заправщиков и безразмерных трейлеров; именно в таких перевозят пусковые установки. Все это хозяйство даже не прикрыто камуфляжем, брошено поперек дороги, с вызовом: никого не боимся, ничего не скрываем…
На самом деле это был не расчет, а бардак, не вызов, а глупость. Ракетный маршал Бирюзов на полном серьезе уверял Хрущева, что установки прятать не надо, они сверху похожи на пальмы, остается только нахлобучить шапку из листьев. А переброшенный из Новочеркасска в Гавану кавалерийский генерал Плиев просто забыл распорядиться, чтоб трейлеры замаскировали; о полете U-2 он в Москву не сообщил. Хрущев обещал ему дать маршала; зачем хозяина огорчать… Кеннеди этого не знал; если бы сказали – вряд ли поверил бы. Совсем скоро ему придется решать противоположную проблему: как принудить адмиралов поступиться нормами устава, если на кону вопрос о судьбе мира; как нарушить распорядок корабельной службы в пользу здравого смысла, инстинкта самосохранения…
Микояну под Новочеркасском было решительно все равно, сколько именно людей на вертолетных фотографиях, есть у них оружие или нет, кого больше, мужчин или женщин. Он тогда не мелочился, а выглядывал: вернулась неуправляемая русская воля в пределы советского покоя? может, все-таки обойдется? А президент Соединенных Штатов Америки гадал на снимках, как на картах Таро: конец? или еще поживем какое-то время? а если поживем, то как?
Не знаю, поймешь ли ты, что испытывал человек той эпохи при словах «атомный взрыв». Любой человек: президент, разнорабочий или школьник. Американский, французский, советский. Даже моя аполитичная мама замирала у радиоприемника, когда передавали сообщения ТАСС о неудаче в переговорах по ядерному разоружению. Миллионы раз повторенные в кинохрониках кадры прихотливого ядерного гриба над Хиросимой и Нагасаки, бесконечные истории о том, как человек превращается в свою собственную тень, а выжившие впадают в лучевую болезнь и завидуют умершим, мешались в ее сознании с картиной Брюллова «Последний день Помпеи» и сгущались в настойчивый страх.








