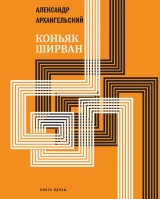
Текст книги "Коньяк «Ширван» (сборник)"
Автор книги: Александр Архангельский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Александр Архангельский
Коньяк «Ширван»
Книга прозы
© Александр Архангельский, наследники, 2016
© Валерий Калныньш, оформление, 2016
© «Время», 2016
От автора
Чем занимается литература? Правильно, отношениями между людьми. Отношениями человека с Богом. С природой. А еще она – про отношения человека с историей.
Как можно рассказать об этих отношениях? Верно: всё придумав от начала до конца. Заварив густую стилистическую кашу, поместив живое время в некое условное пространство. Или же наоборот, сосредоточившись на том, что мы считаем документом. Минус вымысел плюс дневниковая запись, проза факта.
А можно попробовать и по-другому. Рассказать про отношения людей, взглянув на них сквозь историческую призму. Провести сюжетную прямую через символические точки. Как сделано в этой книжке: 1953, год смерти Сталина; 1962, год рождения автора (шутить подано); 1987, настоящее начало перестройки и одновременно ее конец. При этом написать не про политику, а про человеческую жизнь. Пройти по тонкой грани между полностью придуманным и реально пережитым, наложить стилистические швы внахлест, стилизовать придуманное под мемуар, а воспоминание выдать за вымысел; словом, смешать, но не взбалтывать.
И последнее, чтобы не мешаться под ногами у читателя. Тексты, вошедшие в книгу, написаны между 2005 и 2015 годами; подозреваю, тень от этого десятилетия тоже легла на ее страницы.
Сочинитель
1953
Ближняя дача
Рассказ
Москва бульварного кольца была неприбранной столицей коммуналок, облезлым остовом исчезнувшей роскошной жизни. Москва хулиганов Таганки спорила с Москвой индустриальных зон, где шалили без финок и фикс, но со свистящими нунчаками и свинцовыми кастетами, которые напоминали сросшиеся перстни. Там, за горизонтом, начинался бесконечный край хрущевок и девятиэтажек, блочное царство спальных районов: Черемушки, Беляево, чуть позже Теплый Стан.
И были мы. Матвеевка. Ни город ни деревня. Возле станции – темные избы, просевшие и мрачные; грязный сортир во дворе, ржавая колонка на обочине, бабки, повязавшие платки по самые глаза, и запах загаженной, тлеющей жизни. По другую сторону путей – случайные пятиэтажки; ощущение, что строить начали, а заселить забыли. Два или три универсама, где пахнет оттаявшей треской и размякшим минтаем, но зато из прозрачного конуса наливают томатный сок, на прилавке стоит стакан с бесплатной солью и мокрой алюминиевой ложкой, а в жестяных гильзах пенят молочный коктейль. Но при этом в бесконечно длинном перелеске можно собирать грибы. В нем пахнет пыльной электричкой, прелой листвой; мужчинки ласкают увесистых женщин, жарят на костре сосиски и разливают из бидонов пиво. Если мужчинки довольны, то могут предложить пивка в немытой майонезной банке, если злы – держись подальше; ко мне однажды подошли такие трое, дыхнули кислым, посмотрели сверху вниз: ну как тебе, жиденок, нравится у нас? Сердце провалилось вниз; я трусливо ответил, что нравится, и они меня не стали трогать.
Сейчас бы я вписал тот эпизод в большую историческую рамку, вспомнил бы борьбу с космополитами, которую Сталин задумал в Матвеевке, на своей Ближней Даче, но в детстве имелись дела поважнее. Положить на рельсы украденный у мамы пятачок, залечь в кусты, переждать проносящийся поезд и отыскать раскатанную биту, горячую, как только что отлитый свинец. Или порыться в мокром шлаке бывшей свалки, найти двадцарик, оттереть его и купить в продуктовом две булки по восемь копеек, одну с маком, а другую с повидлом, еще останется на два стакана газировки в красном автомате, один с сиропом, а второй, уж ладно, без.
На балконах кукарекали петухи, за металлическими гаражами, крашеными салатовой краской, можно было встретить тетку в вечном пуховом платке и с замызганными козами на собачьих поводках; козы презрительно мекали. Вдоль железки были вырыты глухие погреба; обитые жестью тяжелые дверцы затворены амбарными замками. В погребах хранили капусту с проросшей картошкой – и то и другое крали в соседнем совхозе, когда-то носившем имя Сталина. Возле помоек всегда догорали костры, и коленки у любого мальчика были прожжены насквозь. А внизу, в овражной сырости, валялись могильные плиты – следы аминьевского кладбища; старые кривые буквы были непонятны и поэтому веяли тайной.
Но главное было не здесь; главное начиналось на излете Веерной, где городское шоссе обрывалось и тропинка вела под откос, вдоль островерхого высокого забора, бесконечного, как двуручная пила. Поверх забора шла колючая проволока, она проржавела насквозь и где-то уже порвалась, а где-то сбилась в колтуны; некоторые доски сгнили, и через щели видно было заросшую, заброшенную территорию. Что там, за этим забором, меня не слишком волновало – вплоть до четвертого класса. Очередная охраняемая зона. Кем охраняемая, зачем и почему – какая разница? Что-то там такое, краем уха, я слышал про вождя народов и его последнее пристанище в Матвеевке, но никакого интереса не испытывал. Тем более, что в темной глубине раздавались утробные гавки, а я особой храбростью не отличался. Мне нравилось книжки читать, а бороться с большими собаками – нет.
Поэтому я шел все дальше, дальше, к милой сердцу речке-вонючке, она же Сетунь; там процарапывался через густой кустарник, проползал сквозь ржавый ельник, и через полчаса выныривал возле Поклонной горы. Перебегал, рискуя жизнью, Минское шоссе – и снова терялся в лесу. Имя Поклонной горы должно было рождать ассоциации с Наполеоном и Кутузовым, но как никого из нас не волновало имя Сталина, так поверх сознания скользили и слова учителей про Бонапарта, понапрасну ждавшего ключи от города: вот, дети, в каком замечательном месте мы с вами живем. Какая там Поклонная гора? Мир вокруг был размечен иначе. Не кровавой историей, а вольной природой.
А чтобы понять, какая то была природа – в самом сгустке Москвы, в четверти часа езды от Ленинских гор! – достаточно узнать, что фильм про Дерсу Узала, легендарного таежного проводника, снимался именно в Матвеевке. Представьте себе: чуть вперед – и уже Триумфальная арка, а немного назад – и пошла череда мосфильмовских посольств. А тут – непролазные заросли. С непристойной силой прут боровики и подосиновки; палая листва гниет так сладко, так опасно; боярышник усыпан круглыми крепкими ягодами, зеленоватые орехи пахнут медом, ты один на целом белом свете, сам себе Дерсу и Узала.
Возвращаться домой никогда не хотелось. Еще немного, еще полчаса… Одну из таких бесконечных прогулок я затянул до сумерек. И вдруг скорей почувствовал, чем осознал, что поменялось время года. Из дому я выходил в разгар роскошной алой осени, а теперь наступила зима. Дунул ветер, небо раскорячилось, встряхнулось – по-собачьи, бурно, и на незавершившуюся осень вывалился первый снег. Он падал ровно и отвесно. Фонари на трассе стали синими, автобусы включили оранжевые фары, и что-то военное проявилось в ландшафте.
Я поспешил домой, пока не развезло дорогу. Cтановилось скользко, снег таял, ноги мокли. Пришлось тащиться в обход, вдоль шоссе. Добрел кое-как до гигантской больницы, грозной именуемой аббревиатурой ЦКБ – в ней лечили партийных начальников, прошмыгнул мимо официального въезда на Ближнюю Дачу, один в один складские ворота, и понял, что дальше тащиться – нет сил. А, была не была, и я свернул – на скользкую тропинку вдоль забора.
Она появилась внезапно. Бесшумно проскользнула через выбитую доску. Как в замедленном черно-белом кино. И встала поперек дороги.
Топорщится мокрая шерсть. Глаза почти прозрачные, зрачки как долька, узкие, смотрит ровно, не мигая. Ты уже во всем признался или нет? Подумай.
Я замер как вкопанный. И она в ответ не шевелилась. Надежно расставила лапы, тяжело уперлась в землю; страшная хозяйка этих мест, немецкая овчарка с Ближней Дачи.
Темнело, снег таял и стекал за шиворот; нужно было что-то предпринять. Но что? Будучи мальчиком робким, я на всякий случай отступил – тихо-тихо, спокойно-спокойно, усыпим бдительность, а там, глядишь, и отползем на трассу. Овчарка убежденно рыкнула: стоять! И я бы охотно смирился, но в глубине закрытой территории на рык отозвались армейским лаем несколько других овчарок. И стало ясно, что терять-то нечего. Либо эта пропустит, либо другие порвут.
Я резко наклонился, сделал вид, что поднимаю камень, замахнулся. Овчарка глухо заворчала. Не опуская руку, я шагнул вперед. Ворчание перешло в утробный рокот. Следующий шаг. Она открыла пасть, вывалила страшный язык, от которого пошел тяжелый пар, и присела, готовясь к атаке. Третий шаг – она не прыгнула! Отвела глаза, по-детски заскулила, и, огрызаясь, отползла к забору; нырнула в черную дыру, исчезла.
На ватных ногах я добрался в тот вечер до дому. Что-то со мной приключилось, из сознания выбило пробку, стало интересно, важно, до дрожи: что же там было, за этим забором? Почему там никто не живет? Кто такой этот загадочный Сталин? И, даже чаю не попив, чтобы согреться, я полез в черную трехтомную энциклопедию, стоявшую на бабушкиной полке. Сел в продавленное кресло и подряд, не пропуская ни абзаца, от начала до конца прочел огромную статью.
Статья восхваляла вождя, описывала путь героя, клеймила врагов-отщепенцев, была скучна как смерть, ничего про Сталина не объяснила. Недовольный, я перелистнул страницу и попал на огромную вклейку: портрет усталого мудреца, крест-накрест перечеркнутый учительским карандашом. Жирно, злобно; даже покарябана бумага. Странно. В нашем доме никогда о Сталине не говорили; вообще избегали политики. Не было ничего, не знаем, тссс. Ну тссс так тссс, какая разница… Оказывается, страсти тут кипели, только до меня не доносились… Я окликнул бабушку и маму: а чего это вы Сталина? Карандашом? За что? Он плохой? И почувствовал, что воздух загустел, как холодец; мама с бабушкой умолкли и надулись, откровенно недовольные друг другом.
– Вырастешь – узнаешь.
И отобранный том был поставлен на полку.
Назавтра я снова спускался к вонючке вдоль щербатого забора. Было страшно. Вдруг опять появится овчарка? Но при этом я сгорал от любопытства. А все-таки что там, на Даче? Происходило что-то непонятное, меня, как металлическую стружку на магнит, напыляло на эту проклятую дачу. Нельзя туда ходить. Нет сил сопротивляться. Порвут. А, будь что будет. И я отодвинул повисшую доску.
Здесь было безжизненно, глухо. Осины почернели, высохшие заросли чертополоха перемешались с пижмой; передвигаться было тяжело – поваленные мертвые стволы покрылись скользким мхом и струпьями наростов. Никаких тебе расчищенных дорожек, никаких протоптанных тропинок. Холодная пустая тишина, поперек которой каркают вороны. И, что очень странно, никаких собак. После долгих мучений я вышел к дому с тыльной стороны. Дом был деревянный, крашеный темно-зеленой краской: цвет сукна на биллиардном столе. Аляповатый, несуразный: очень длинный, а при этом низкий, двухэтажный, с выпирающей пузом ротондой.
Из-за угла появился облезлый мужик в телогрее и высоких грязно-желтых валенках; в руках у мужика был эмалированный таз. Я отпрянул – спрятался за дерево. Но мужик не глазел по сторонам, он был занят делом. Вывалил содержимое таза на снег, кисловато запахло крупой и тушенкой; от кучи съестного пошел соблазнительный пар; мужик почмокал, посвистел, и в одну секунду на полянку перед несуразным домом набежали собаки. Виляя хвостами, переругиваясь, стаей! Им тоже было сейчас не до меня; их кормили, и они так сладко, так жизнелюбиво жрали! А мужик стоял и любовался на собачек.
Незачем испытывать судьбу; я немедленно ретировался. Не буду врать, что думал про историю, про то, как вот отсюда, из пахнущей талым снегом и солдатской кашей матвеевской Дачи, мог управляться целый мир – и управлялся ли он на самом деле отсюда? Конечно же, я думал только про собачек. Что вот сейчас они покушают, пометят территорию, принюхаются, побегут за мной.
…Матвеевское разрасталось, разбухало; природной воли становилось меньше, домов и жителей – наоборот; овраг между Матвеевкой и Ломоносовским проспектом превратился в дорогой район, белые дома – как сахарные головы. В лесу перестали попадаться могильные плиты, Поклонную гору постригли под ноль… Только огороженная дача с аляповатым домом, перестроенным в несколько приемов, стоит как стояла. Говорят, что ее обиходили, расчистили упавшие стволы, прорыли дорожки, залили асфальтом.
А еще говорят, что собачки там бродят по-прежнему; я не знаю, проверять не рисковал.
1962
Послание к Тимофею
Видел я трех царей; первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку; второй меня не жаловал; третий хоть и упек меня в камер-пажи под старость лет, но променять его на четвертого не желаю; от добра добра не ищут.
Пушкин
Товарищ, верь!
Он же
Глава первая
Вот, сынок, наконец-то собрался. Давно хотел представить тебе отчет о прожитой части жизни. С ненужными подробностями, излишними деталями, случайными полусмазанными кадрами, как в семейном альбоме. Отличный замысел. Порезать жизнь на квадраты и прямоугольники, подвергнуть ее раскадровке, в матовом красном свете проявить изображение, рассовать словесные фотографии по прорезям, от предков к потомкам, от нас к нашим детям, от детей к внукам, и так без конца.
Основатель рода. Образец дореволюционного фотографического искусства, мастерская г-на Мартиросова. Картонная подкладка паспарту, за сто двадцать лет даже не пожелтевшая. На фототипии почтенный бородатый старец, твой прапрапрадед Иоанн Константинович Демулица. Лицо ясное, но жестковатое. Суровый был человек, сразу видно; иначе и быть не могло. Шестнадцать детей, все девки. По-русски он говорил плохо, но в земельном банке, который основал его богатый критский кузен, хлеботорговец, по-русски говорить и не требовалось. Греческая мафия чужих к своим счетам не подпускала, бухгалтерские книги контролировала сама, на всех ключевых постах сидели дальние родственники хлеботорговца. Если бы Иоанн Константинович не решился в 1862-м перебраться в Приазовье с какого-то крошечного острова, наши с тобой жизни сложились бы по-другому. Да и были бы они, наши с тобой жизни? Вопрос без ответа.
Переворачиваем страницу. Качество фотографий резко ухудшается, биографических пропусков все больше: революция, Гражданская война, Отечественная, лагеря.
На потрескавшемся обрывке глянцевой фотобумаги – смутное лицо красавца-мужчины в кожаном летчицком шлеме. Бабушкин дядя Сережа. Женился на еврейке, за что был изгнан из греческого дома, следы теряются в нетях.
Еще одно фото, тоже в трещинах, тридцатые годы. Смуглая холеная дама в белом манто. Тетка моей мамы, твоей бабушки. Ирина Ивановна. Вышла замуж за богатого остзейского немца Отто Адольфовича Т., семья выбор одобрила и даже успела порадоваться рождению маленького Адольфа Оттовича. Но тут случилась великая война. Морского офицера Т. отправили в лагерь: за то, что немец. Незадолго до ареста, почуяв неладное, он успел инсценировать семейный скандал, шумно побил любимую жену, выгнал ее с ребенком ночью из дома, а наутро подал на развод по ложному обвинению в измене. Жену не тронули. Адольфа наспех переименовали в Алешу, холеная дама Ирина Ивановна начала бедствовать, притягивать к себе несчастья и быстро превратилась в очень высокую, очень худую, дочерна загорелую и резкоголосую южную старуху. Курила папиросы «Беломор», работала на чертовом колесе билетершей и страшно кашляла. Алеша вырос длинным гэкающим ейчанином, любил книжки и обожал порассуждать о кино и политике, но работал сантехником и быстро спился.
Почему фото Иоанна Константиновича, дяди Сережи, Ирины Ивановны сохранилось, а фотографии бесчисленных дочерей Иоанна Константиновича – исчезли? Где снимки родни по русской линии? Эта линия была сильней и разветвленней греческой, но куда подевались все картонные, глянцевые, матовые отпечатки? Твоя рано умершая прабабушка, кучерявая, с накрашенными губами, – есть, а прадедушки, синеглазого поповского сыночка и знатного бабника, – нет. Куда пропал твой суровый елецкий прапрадед, соборный протоиерей Виктор Архангельский? А прапрабабушка – толстая, крепкая, веселая попадья? У меня есть только фото Вознесенского собора в Ельце, где о. Виктор отслужил нелегкое тридцатилетие, с 1891-го по 1921-й; твоя мама недавно съездила в Елец и разузнала. Но что случилось с ним в 21-м? что ждало его на излете жизни – тихая кончина в собственной постели? коммунистический погром? арест? Не знаю. И отец маминой сводной сестры Марины, ответработник товарищ Жигалов, он, спрашивается, где? Все в нетях, всех сорвало с семейного древа, унесло в неизвестность.
Тут бы начать фантазировать, достраивать историю до романа, сплетать сюжетные линии; не стану. Времени у тебя мало, а будет еще меньше, такая теперь жизнь, поэтому поступаю самым экономным образом.
Прямая судьбы проходит через две точки. Рождение и смерть. На смерть не оглянешься, а на рождение – можно попробовать. Напрягаю внутреннее зрение, пытаюсь увидеть тот день и тот год, когда я появился на свет, а значит, в каком-то смысле, появился и ты, и твои будущие дети, и дети твоих детей.
Москва, самое начало Арбата, обшарпанный родильный дом имени великого гинекологического еврея Грауэрмана. Мелкий, синюшный, чуть не задохнувшийся во время родов, я лежу рядом с мамой. Она вконец измучена и безумно счастлива. Ее обложили льдом, кровь густеет медленно; маму колотит от холода и пережитой боли; до рассвета еще часа два, а то и три. Маме уже тридцать шесть, и это ее последний шанс обзавестись потомством. Личная жизнь ее не сложилась, хотя в молодости она была очень красива, невероятно стройна; вот они, ранящие сердце альбомные снимки. Румяная свежесть, сверкающая надежда на счастье, но уже первая складка между черных бровей, знак скрытого страдания… Сейчас бы ей проходу не давали – стильная, клубная худоба, отличные пропорции, осиная талия, плоский живот; в те времена такую красоту не ценили: ай, какие зажигательные ножки, просто спички. Нам бы это, чего повесомей; что ж тебя, милая, плохо кормят? Да ты каких кровей будешь?
Всю беременность маму преследовал страх, навязчивая мысль: ее сорокалетняя подруга Мирра Абрамовна А., тоже мать-одиночка, родила в 60-м первенца, а врачи не успели перерезать пуповину, родовая удавка захлестнула младенцу горло, он погиб. Но маме повезло, я не задохнулся, жестко спеленат, плотно притиснут к ней. Она в эйфории, которая спустя несколько часов сменится депрессией; так положено, так бывает у всех рожениц.
На дворе 27 апреля 1962 года. Страстная Пятница. Но мама об этом не знает. Облетели мы весь свет, никакого Бога нет. Пасхальные куличи под видом весенних кексов начнут продавать только в 70-е годы, и это будет уже факт моей биографии. А мы говорим про мою маму, твою бабушку, Людмилу Тихоновну. Она родилась на Успение, но про Успение тоже ничего не знала – вплоть до старости она жила вне церкви, и только ваша детская вера, твоя и сестры твоей Лизы, подрастопила атеистический лед. Тем не менее она была крещена в детстве: на этом настояла бабушка-попадья. Крестный был партиец; в самый разгар пиршества в дверь постучали дружинники, и он от страха сиганул в открытое окно, прополз под шелковицей на карачках и удрал через забор. На столе осталась тарелка скользких пельменей и стакан сизого казачьего самогона. Дружинники попадью припугнули, но пельмени доели, самогон выпили, доносить не стали.
Мама моя не догадывалась о Пасхе, об Успении; она мало что знала о происходившем вокруг, в открытом и страшном мире, которого она так боялась всю свою жизнь. Ей бы спрятаться в норку, укуклиться в маленькой квартирке, где свисает старый абажур с кистями, на кухне булькает чесночный борщ, густой и прозрачный при этом; курчавый неулыбчивый сынок строит деревянный домик, все живы, здоровы, и слава Богу. История ее не интересовала, политика отвращала с самого детства; по причине слабого здоровья воспитывалась она в лесных школах. Главными воспоминаниями юности стали для нее не политические процессы и героические стройки, а то, как она, четырнадцати лет от роду, одна через темный лес шла к станции, потому что уступила свое место в грузовике подруге, подвернувшей ногу. Мокрая осока царапала лодыжки, отсыревшая тимофеевка била по коленям, разжиревший от постоянных дождей борщевик норовил зацепить лицо. Под ногами то и дело чавкало, из бесконечных болотец окликали лягушки, было страшно. А вдруг попадется лихой человек?
И еще она помнила черного козленка с прижатыми рожками, которого так любила во время эвакуации и которого пришлось съесть, и как долго она тогда плакала. Шкурку повесили сушить на позднем казахском солнце, и то, что было ребристым туловищем и тонкими ножками, стало бесформенным куском меха.
Подозреваю, что первый эпизод относится к июню 1941-го, перед самым началом войны, а второй – к 1943-му, кровавому, роковому и переломному. Но собственно про войну мама никогда ничего не рассказывала, а про ночной лес и черного козленка – постоянно.
Вот и сейчас, какое ей дело до того, что творится в мире? Есть младенец, он сопит, лед жжется, ссыхаются швы. Это не она тогдашняя, это я нынешний знаю, что происходило на планете накануне моего рождения.
1 января Западное Самоа получило независимость.
3 января Западная Гвинея провозглашена самостоятельной провинцией.
25 января главы африканских государств из группы Монровии огласили Лагосскую хартию о панафриканском сотрудничестве.
14 февраля участники лондонской конституционной конференции по Кении решили создать к 31 марта двухпалатный парламент и региональные ассамблеи, а 1 марта Уганда добилась полного самоуправления.
Я даже знаю, можешь мной гордиться, что 3 февраля 1962 года в Бирме Не Вин сверг У Ну. Правда, кто такие Не Вин и У Ну, мне неизвестно. Также я смутно представляю себе первого премьер-министра независимой Уганды Венедикту Кивануку. Но если ты попросишь, если тебе интересно, только скажи, я сразу соберу необходимую информацию. У меня ведь есть интернет, о существовании которого мама до сих пор не догадывается. Он ей не нужен; ей нужен я.
Теперь ты вправе задать мне неприятный вопрос: милый папа, а тебе какое дело до всего этого? Какое отношение к твоей судьбе имеют канувшие в лету Не Вины и У Нуи, Кивануки и Рашиди Кававы (это новый премьер Танганьики, чтобы ты знал)? Задавай, не стесняйся. Я давно заготовил ответ. Никакого – и самое прямое.
Понимаешь, когда пишут книжки про царей, политиков и даже великих ученых, начинают ab ovo, раскладывают пасьянс из исторических событий, сопровождавших рождение героя. Наводнение, землетрясение, глад, мор, военный союз, изобретение атомного оружия, династийный конфликт, открытие Америки, появление телеграфа, прорыв континентальной блокады, восемнадцатое брюмера, четырнадцатое декабря, Стоглавый собор. Считается, что все это важно: в истории завязались узелки, которые герою по мере взросления предстоит развязывать, а иногда разрубать. Когда же пишут про появление на свет нормального человека, начинают умиленно бормотать: погоды стояли в ту осень холодные, матушка топила печку, папинька приехали, старая ключница выпила всю наливку, а вы уже записали мальчика в ясли, очередь-то на полгода вперед?
Записали, дяденька, не извольте беспокоиться, только при чем тут будущее, невероятная судьба ребенка? Он вырастет, женится, пойдет на войну, сгинет в революцию, сделает состояние на хлебном кризисе, попытается выпрыгнуть из окна небоскреба во время Великой депрессии, возьмет себе на память осколок Берлинской стены и потеряет все деньги в год дефолта, чтобы уехать в Китай и стать гражданином мира. Он не будет принимать никаких решений, не сделает политической карьеры, вообще не сохранит своего имени в истории. Но история – это он, история – это то, что пройдет сквозь него и в нем осуществится.
Астрологи сверяют день, час, минуту рождения с положением звезд, чертят натальные карты; историки соотносят место рождения с суммой исторических обстоятельств, предопределивших частную судьбу. Вообще про каждого из нас нужно рассказывать точно так же, как было когда-то рассказано про главного из людей, про единственного Человека с большой буквы, про Господа нашего Иисуса Христа. Сначала про историю рода. Четырнадцать родов до переселения, четырнадцать родов после переселения, все эти миллион раз спародированные Аврам роди Исаака, Исаак роди Иакова… Потом поближе к делу, потеплей, пожизненней. Про святое семейство, которому не хватило места в гостинице, в гадком восточном клоповнике, пришлось ночевать в бедуинском хлеву. Про счастливую мать, которая так хотела быть обычной матерью обычного грудничка. Потом про новую звезду и волхование будущего. А потом про Ирода; про то, как менялся роковой пейзаж истории на фоне радостного Рождества, как будущее предопределялось настоящим. Да, евангелист рассказывал про Богочеловека. А мы про самих себя. Что ж, снизим пафос. Добавим толику самоиронии. Приправим самоанализом. Но в принципе мало что от этого меняется. Вот миг рождения. Вот вечные звезды. Вот протяженная история. Вот жизнь и смерть.
28 декабря 1961-го, приветствуя мой 62-й год, молодой поэт Иосиф Бродский писал в своем лучшем стихотворении «Рождественский романс»:
Плывет в глазах холодный вечер,
дрожат снежинки на вагоне,
морозный ветер, бледный ветер
обтянет красные ладони,
и льется мед огней вечерних
и пахнет сладкою халвою,
ночной пирог несет сочельник
над головою.
Твой Новый год по темно-синей
волне средь моря городского
плывет в тоске необъяснимой,
как будто жизнь начнется снова,
как будто будет свет и слава,
удачный день и вдоволь хлеба,
как будто жизнь качнется вправо,
качнувшись влево.
Хорошие стихи. Это несомненно. В остальном можешь сомневаться.








