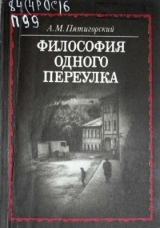
Текст книги "Философия одного переулка"
Автор книги: Александр Пятигорский
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Глава девятая: 24-го апреля 1945 г. Последняя встреча
Если ничего не происходит, то встреча или разговор – не в счет. Это и имел в виду Геня, называя згу встречу с Робертом последней. Не может быть никакого сомнения в том, что она произошла на площади Дзержинского, справа, когда выходишь из метро, как раз у дверей той маленькой поликлиники, где много позднее человек из другого мира, Додик Ланге, лечил и выдирал зубы у полковника Петренко, у меня и, конечно, у самого Гени.
Роберт стоял очень высокий, в новой шинели, гвардейской фуражке и лейтенантских погонах.
Роберт: Война фактически закончилась. Проклятье, Генечка, стоило ли убивать три года на это проклятое училище повышенного типа, чтобы потом демобилизоваться, не считаясь даже фронтовиком! Или – еще хуже – остаться на годы в каком-нибудь гарнизоне. Сейчас все зависит от сегодняшнего вечера. Я приглашен пить с полковником Петренко в штабном вагоне (это устроил майор Кораблев – у него огромные связи в дивизии и выше). Я не могу остаться в резерве. Ты подумай, один день боя и – все сделано. Лучшие рекомендации, академия, потом – Академия Генштаба… Ну, а потом – посмотрим. Я уговорю Петренко! Кораблев вчера сказал: «Я бы вам рекомендовал оставаться в живых, молодой человек». А что бы отец сказал – ты лучше меня знаешь. Поэтому прошлую ночь я провел у Ардатовских.
Геня: Мое дело – пересказывать, а не возражать. Три часа назад я забежал к ним выпить чаю. Лидия Акимовна сказала: «Роберт сюда не вернется».
Роберт: Значит, я буду убит?
Геня: Этого она не говорила. Я думаю, что Ника (нынешний) прокомментировал бы ее высказывание так: «Сюда не вернется, значит – к себе не вернется».
Роберт: Но надо уходить, уходить! Я уже никогда не смогу жить в этой проклятой комнатенке с отцом, мамой и Эдиком. Когда я последний раз там был, я не мог – я спал на кухне.
Геня: Прости меня, но это не имеет никакого отношения к делу.
Роберт: К какому делу?
Геня: К тебе самому.
Роберт: Осталось не больше десяти минут. Знаешь ты, что (смотрит на часы) такое точка восприятия? Нам ведь только кажется, что мы живем всей жизнью, но я знаю, это – не так. Для каждого из нас существует несколько – не много, не больше трех-четырех точек, в которых мы действительно воспринимаем жизнь. Все остальное – фон, шум, атмосфера. В этих точках мы страдаем и наслаждаемся, в них мы – активны. В них нам предписывается действовать и выполнять.
Геня: Но ведь можно еще и наблюдать, что происходит в этих точках с тобой и другими. То есть – созерцать.
Роберт: Да, в принципе можно. Но сейчас другой сезон. Если я сейчас этого не сделаю, то не сделаю этого никогда.
Геня: То, что сейчас с тобой происходит, называется «регрессия». Негативно, регрессия – это отсутствие созерцания, а позитивно – это применение к жизни тех умственных способностей и состояний сознания, реальное назначение которых в применении к созерцанию, а не к жизни.
Роберт: Постой! Но я же все это давно знаю. Эти умственные способности должны оставаться потенциями созерцания. Приложение к жизни их уничтожает. Жить надо по другим законам, сохраняя эти потенции в себе и не превращая их в низкое творчество. Но я – не низок и не высок. Я хочу реализовать и то, и другое.
Геня: Это невозможно.
Роберт: Почему? Не понимаю.
Геня: Да ведь ты сам сказал – «другой сезон». Именно другой, не твой. А когда сезон – не твой, то следует не действовать, а «не-действовать». А если ты не можешь избежать дурного действия – а оно неизбежно будет дурным, ибо в не твой сезон и действие будет чужое, – то беги прочь со всех ног! Но как? Вот в чем штука! Ведь оттого и Ника «испарился». Наше Обыденское детство было не только местом, «полем», так сказать, но и особым временем. Жуткое почти для всех, для нас это время явилось нашим сезоном, благодаря исключительной конфигурации событий, личностей и домов. Но сезон кончился. Теперь – жди следующего.
Роберт: О, я знаю, знаю! Жди и бодрствуй, когда все спят. Спи, когда все бодрствует. Пребывай бездеятельным в действии и деятельным в созерцании. Но я – не в Мадриде, как Ника.
Геня: Не думаю, чтобы Ника сейчас был в Мадриде.
Десять минут кончились.
Глава десятая: У Гени
17-го января 1946 года я пришел в гости к Гене, который тогда временно проживал в каморке одной своей временно отсутствующей тетки. Каморка находилась под крышей приарбатского ампирного особняка одного из ранних славянофилов. Деревянные колонны вместе с дверью Гениной каморки пошли на топку в военные годы, и теперь дверью служил огромный лист фанеры.
Это была первая наша встреча за шесть лет. Геня сидел на высокой кровати с изодранным пологом и пригласил меня сделать то же. Я отказался и уселся на полу, подложив старый ватник и опершись спиной о противоположную стену. Оба мы оставались в пальто и шапках, но все равно было очень холодно.
«Холодно, а зато клопы все уползли внутрь куда-то, – сказал Геня, – но сейчас натопим буржуйку, заварим чай и поджарим хлеб». Через полчаса каморка была натоплена до жары почти тропической, а божественный аромат жареного черного хлеба заполнил всю мансарду.
«Если не хочешь говорить, то и не надо, – сказал Геня. – Согласно моим прежним наблюдениям, ты очень часто стараешься завести разговор на тему, тебя лишь абстрактно интересующую. И это, как правило, у тебя не получается. Однако стоит тебе начать говорить о чем-то милом и бессмысленном, как становится интересно, да?» «Милый Геня, – отвечал я, – я не нахожу слов, приличествующих торжественности этого часа и одновременно приличных, чтобы выразить мою радость оттого, что я тебя вижу, и мое отчаяние от постигших меня неудач. Поэтому ни о том, ни о другом речи сейчас не будет. Но скажи мне, что ты сейчас делаешь и о чем думаешь?» «Ну, так, – сказал Геня, – меня, в общем, кое-как устроили помогать расставлять книги в одной библиотеке. Делом этого не назовешь. Думаю же я о том, что скоро думать мне станет гораздо легче и свободнее. Объективно, я имею в виду. Но в то же время и гораздо труднее, ибо появится огромное количество вещей, угрожающих самому думанью, а не физическому существованию думающего, как в тридцатые и во время войны в настоящий же момент нашему думанью непосредственно угрожает приход человека с нелепейшим именем Гаральд Ранцев.
Но еще до прихода Ранцева (с которым я когда-то учился в начальной школе) у меня начала жутко болеть голова – что-то было не в порядке с печуркой. Ранцев пришел, отказался сидеть на полу («На полу не сидят – по полу ходят»), так же как и на кровати («Это – крайне негигиенично и, откровенно говоря, омерзительно»), стал спиной к окошечку и заговорил. До меня через угарную боль долетали странные фразы, которые почему-то навсегда остались в памяти – возможно, по контрасту со словами Гени. «Татьяна Бах была пьяница (кто такая Татьяна Бах, не знаю по сю пору); Станиславскому не давали ставить, как он хотел; Кольцов погиб по странному недоразумению; Светлов – трус. Писал военные стихи, а сам боялся воевать; Заболоцкий писал стихи, которых никто не понимает; достаточно будет Кагановичу сказать все Молотову, и с антисемитизмом будет покончено раз и навсегда – мне так дядя Буля сказал; если бы вы оба только знали, как нам с матерью трудно жить! Мы не в состоянии позволить себе чистое нательное белье раз в неделю, Павел Коган – вот настоящий поэт-патриот…»
Когдаа я очнулся, Геня растирал мне лоб и щеки нашатырным спиртом: «Тетка говорит, что это очень полезно». – «Что – угар?» – «Нет, нашатырный спирт».
«Начнем с того, чем кончили, – сказал я, растянувшись на полу. – Итак, Молотов пожалуется Кагановичу на евреев. Тьфу! Каганович пожалуется на антисемитов, и тогда Татьяна Бах бросит пить, Станиславский будет ставить, как хочет, а Светлов… черт, не будут же новую войну устраивать, чтобы проверить храбрость Светлова, когда эта едва кончилась. Кстати, Геня, я начинаю серьезно бояться, что меня убьют в первом же еврейском погроме, если он случится в Москве, конечно. В самом деле, что ты об этом думаешь?» Геня долго смеялся. «Ну?»
Я в понедельник задал примерно такой же вопрос Тимофею Алексеевичу. Он подумал и сказал, что, разумеется, еврейский погром устроить можно, но что это едва ли произойдет. По его мнению, любой погром, если это именно погром, а не организованное уничтожение или массовое выселение, требует хотя бы минимального соответствия «чувств кретинов с их внешним поведением», – он именно так и выразился. Но сама возможность такого соответствия уже давно уничтожена «духом времени и места». Погром же явится прямой угрозой этому духу. И вообще – это уже я говорю, а не дедушка, хотя и он говорил тебе об этом когда-то, – твоей смерти в скором времени не ожидается. Так что не отвлекай себя, пожалуйста, этими несбыточными грезами!
Я: Но ты всерьез думаешь, что скоро думать станет легче и тяжелее?
Геня: Да. Но это я говорил о себе. Мне кажется, что всякое думанье (а не только мое) обладает двумя совершенно независимыми способностями или энергиями – энергией изменения и энергией инерции – и что характер думанья зависит от их соотношения. Обычно они неравносильны; одно из них сильнее другого, и пока это состояние продолжается, можно говорить о данной «фазе» думанья. Когда начинает преобладать другое из них, наступает другая фаза. Когда кто-нибудь говорит: «Так долго продолжаться не может», то я это понимаю – вне зависимости от того, о чем идет речь, или от интенции говорящего – как ощущение им близящейся смены фаз его мышления. То есть эта фраза читается так: «Мое думанье об этом, такое, как оно есть сейчас, долго продолжаться не может». Время и место остаются теми же, только пока продолжается данная фаза – в отношении данного индивида, конечно. Но послушай, каким-то очень странным и непонятным для меня образом эти фазы могут совпадать у огромного количества людей. Значит, фаза определяет дух времени, если она становится «коллективно преобладающей», так сказать? Нет, не думаю. Связь между ними – не причинная, а, скорее, связь по условию. Фаза не порождает дух времени, но когда она кончается, то современному ей «духу» едва ли возможно надолго ее пережить. Недавно дедушка рассказал мне о 14 веке и инквизиции, торжество которой он объяснил на два века затянувшейся коллективной фазой преобладания инертной энергии. Но здесь, он сказал, эта фаза близится к концу. Из-за войны, кажется. И еще, что обычно в гениях преобладает инертная фаза, ибо гений должен думать в одном направлении. И еще он сказал о своем страхе, что из Ники – если бы тот не «исчез» – получился бы выдающийся физик-теоретик.
Я: А что значит – «думать будет труднее»?
Геня: Это нелегко объяснить. Ну, если очень упростить, то это значит, что можно будет и жить, а не только думать. То есть жить отдельно от думанья и созерцания. И мне придется силой отворачиваться от жизни, чтобы сохранить способность к созерцательному наблюдению этой же жизни.
Я: А долго ли еще придется ждать, пока можно будет и жить? Я, например, без этого просто не могу думать.
Геня: А кто тебе сказал, что ты вообще можешь думать? К тебе это придет гораздо позже. Ты, в отличие от Роберта, Ники и меня, ребенок с крайне задержанным развитием. И ты бросишь нас (и себя) очень скоро. Но мы подождем. Но ты не ответил на мой вопрос. Ждать, пока можно будет «жить», – недолго. Лет пять-шесть, дедушка говорит. Но ты, как в давние годы припевал Анатолий, «смотри, смотри, посматривай!».
Я: Милый Геня, ты меня уже почти раздавил своим «наблюдательным созерцанием»[16]16
Думал ли я тогда, что через двадцать лет после этой беседы мой очередной учитель мышления, Эдик (иначе – Давид Зильбермам), введет этот термин в наш метафизический обиход?
[Закрыть]. То есть, ты меня успокоил и обеспокоил до крайности в одно и то же время.
Геня: Твои субъективные состояния, такие, как «покой» или «беспокойство», не должны иметь никакого значения для твоего думанья, если ты действительно хочешь – даже если еще и не можешь – думать. То, что ты сейчас «успокоен» или «обеспокоен», так же несущественно для мыслительной работы, как твое чувство голода или холода, хотя все эти чувства могут быть осознаны как условия думанья.
Я: Согласен. Но будет ли мне позволено чувствовать по крайне мере, что эта наша встреча – приятна и что такими же обещают быть и другие наши встречи?
Геня: И да, и нет. Да – пока мы находимся в этом данном состоянии сознания. И если оно случилось в обстановке приятности, то пусть эта обстановка будет сохраняться и продолжаться. Нет – если в другом состоянии сознания, в другой фазе думанья или в ином сезоне та же обстановка окажется тяжкой помехой думанью. И тогда твое думанье скажет самому приятному в твоей жизни: нет. Ибо это «прежнее приятное» уже оставлено реальным думаньем. Сознание не возвращается в место, хоть раз им оставленное. Тимофей Алексеевич говорит, что «се оставляется вам дом ваш пуст», это– о Духе, который оставит прошлое, будь то храм, город, страна или мир. Сейчас мы с тобой приятно сидим на чердаке. Придет время – будем приятно сидеть в хорошей комнате за накрытым столом, с умилением вспоминая о чердаке. Но, стоп! И накрытый стол кончится, когда наше сознание уйдет от него. То есть мне кажется, что думанье может возвращаться к себе прежнему, но не к прежним своим условиям, приятны ли они или тяжелы.
Уже совсем поздно по твердому скрипучему снегу я ушел от него к себе, на Собачью Площадку, где тогда временно жил.
Глава одиннадцатая: Два разговора в курилке Ленинской библиотеки
Сказать, что я потерял Нику из виду, было бы грубой неточностью, ибо, как об этом уже упоминалось, мне так и не пришлось еш увидеть в моем и его детстве. Но я знал и помнил его, хотя что-то глухо закрылось над его именем и обстоятельствами, когда наша семья переехала на другой конец Москвы. Потом – война, эвакуация и возвращение. Возвращение не только в Москву, но почти в прежнюю мою эйкумену, то есть совсем поблизости – на Арбат. Это случилось в конце 1944 года. С Геней, как уже говорилось, я встретился в 1946-м. Он тогда рассказал мне о гибели Роберта и о жизни Ники в Испании и Бельгии. Кроме того, он сообщил мне, что Ардатовские – или большая их часть – не были в эвакуации и как жили, так и живут на Обыденском, и предложил мне их навестить. Но я отказался, не помню почему. Возможно оттого, что новые мои друзья, музыка и борьба с отвращением к сдаче экзаменов заполняли всю мою жизнь.
Следующая встреча произошла в начале 1949 года на антресолях Старого здания Ленинской библиотеки, в знаменитой «курилке». Он немедленно сообщил мне, что любая философия, по содержанию связанная с реальной жизнью, им категорически отвергается, как ненастоящая. Я, конечно, этого понять не мог, ибо тогда я все еще исходил из наивной немецко-русской предпосылки, что все может (или должно) быть понято. Геня объяснил мне свой подход к философии примерно так.
Истина – если у тебя ее нет – всегда исходит от другого, чужого. А если она у тебя есть, то ты сам себе чужой. Любая «своя» истина – личная, семейная, профессиональная, национальная, классовая и т. д. – всегда жульничество, совершаемое в личных или общих интересах. Я слушал с большим удовольствием, ибо видел в этом способ хоть на время забыть о моих собственных весьма крупных неприятностях, обещавших стать еще крупнее в ближайшем же будущем. И тут Геня внезапно, по ассоциации, вспомнил, как в 1937-м они с Никой ходили на лекцию под названием «Советская молодежь в борьбе с кулаками и вредителями». В лекции говорилось, между прочим, как один «верующий кулак с обрезом» два года скрывался от НКВД и как комсомолец, заведующий избой-читальней, выследил его на свой страх и риск и застрелил из берданки. Заключая этот эпизод, лектор сказал о кулаке: «И не помог ему его ангел-хранитель». Вернувшись с лекции, Ника спросил дедушку, во всех ли случаях жизни помогает Ангел-Хранитель. Тимофей Алексеевич довольно долго думал, а потом объяснил, что Ангел-Хранитель помогает только твоей душе, а если и телу, то только ради души: «Он тебе – не свой, не брат. Он свой твоей душе, а тебе самому – чужой. Сатана – так куда больше свой!» В ту ночь они вместе с Геней ночевали на полу в передней. Ника долго не мог заснуть, а потом радостно сообщил Гене, что теперь наконец все, кажется, понял: «Ну да, Ангел-Хранитель – это твой „чужой“. У каждого есть такой чужой. Я думаю, что он живет в „пятом измерении“ (очевидно, „четвертое измерение“ Ника оставил про запас, для случаев вроде дома архитектора Мельникова в Кривоарбатском переулке, а в „пятом“ предвосхитил шутку Михаила Булгакова, либо оказался конгениален последнему)». И тот, кто своим усилием в это «пятое измерение» проникнет, тому нечего бояться, ибо его Ангел – с ним. И если кто туда прорвется хоть на секунду, то, даже если это будет под дулом пистолета или берданки, он останется невредим. «И я думаю, – закончил свое объяснение Гена, – что истина – тоже в пятом. Моя философия есть развитие Никиной».
«Вы, ребята, чудовищно не знаете литературы, – неожиданно вмешался в разговор Андрей Дмитриев, один из умнейших людей не только в ленинской курилке (что и само по себе – немало), но и во всей тогдашней Москве. – Ангел -Хранитель – это форма сознания, да и истина – тоже».
Он потащил нас с Геней на галерею и там заявил, что Россия вступает в совершенно новую полосу своего существования, не только материального, но и духовного. И еще, что появляются совсем новые люди, вырастает новый тип «прагматической личности», проницательный, холодный и неумолимый, и что таким, как мы, останется либо незаметно раствориться, либо превратиться в говно. На что Геня тут же возразил, что пусть он лучше будет говном, но растворяться категорически не желает. Но Андрей, за которым почти всегда оставалось последнее слово, сказал, что духовные условия жизни будут таковы, что выбора не будет и что за нас решат, кому во что превратиться. И даже не люди решат, а сами эти условия.
Когда Андрей отошел, привлеченный ведшейся по соседству беседой о течениях во фрейдизме, Геня снова вернулся к рассказу о Нике. «Двор – это первоначальная ячейка московского общества 20-х, 30-х и даже 40-х годов. До двадцатых годов дворов, в таком именно социальном качестве, не было и скоро их снова не будет. Были дворы художников, дворы графоманов, дворы насильников и хулиганов. Были, конечно, и такие, то есть, безличные дворы, – но о таких я не говорю. Твой двор был – философский, что, конечно, никак не означало, что ваши ребята были – или потом стали – философами. Но у некоторых из них (из нас?) была одаренность отвлечения от своей (и чужой) жизни, впрочем, часто свойственная детям вообще. Потом эта одаренность обычно уменьшается, оставаясь только у прирожденных философов, то есть у тех, кто, даже проклиная эту свою способность, все равно ничего не может с ней поделать. Однажды Ника сказал дедушке (я, конечно, тоже присутствовал), что он заметил на улице дьякона. Ты только вообрази, не «увидел», а «заметил»! Да откуда он взял, что это был именно дьякон?» Но тут внезапно опять возникший Андрей «перехватил мяч» и сообщил нам, что в истории есть периоды, когда религия, «чтобы сохраниться в условиях абсолютного господства атеистического режима, должна преобразоваться в философию». На это Геня решительно возразил, что это мы сами – а не религия – вынуждены философствовать, чтобы сохраниться в этих условиях, хотя бы внутренне. Он еще рассказал, как Владыка[17]17
Владыка тогда скрывался по знакомым, опасаясь четвертого ареста и неминуемою расстрела. Я учился в университете вместе с его сыном, который впоследствии стал выдающимся специалистом по научному атеизму.
[Закрыть], часто ночевавший у Ардатовских, услышав о «замеченном дьяконе», смеялся чуть не до слез и вспомнил о своем давнишнем (он был тогда студентом-медиком) разговоре с отцом Павлом. Он спросил отца Павла, существует ли, по его мнению, особое религиозное мышление? Отец Павел ответил, что всякое мышление, даже из религии не исходящее и мыслящее о чем угодно, при известной последовательности ходов становится религиозным, доходит до религии. Но что это еще не означает Благодати. «Так вот, – заключил Владыка в похвалу Нике, – ты хорошо сделал что заметил дьякона. Постарайся сохранить способность замечать дьяконов, ибо боюсь, что очень скоро она станет такой же редкостью, как сами дьяконы. Но не останавливайся на этом, мысли дальше, и тогда, мысля, ты сможешь дойти до Силы, которая сама не отмечена и перед которой наша простая Судьба – бессильна. Но это – далекая возможность храбреца и счастливца, а пока – мысли. Нет ничего страшнее, чем мыслить сейчас».
«Ну, а что же Ника?» – допытывался я. Геня сказал, что Ника очень обрадовался словам Владыки и даже попытался дать ему понять, что он, Ника, кажется, понял наконец, что страх смерти (или – Судьбы, если она грозит смертью) страшнее всего, но что еще страшнее – точное мышление в момент, когда испытываешь страх смерти.
«В известном смысле я полагаю, – комментировал Геня им же самим пересказанный разговор, – тот вечер с Владыкой явился для нас уроком Феноменологии Страха, хотя, по-видимому, присутствующие там лица были страху чужды, или почти чужды… собственно говоря, только так и возможна фено менология чего бы то ни было!»
Еще он рассказал о вещах, мне до того времени совершенно неизвестных: что отец Ники тоже ждал ареста и Ника об этом знал; что Анатолий в это же время и там же, у Ардатовских, обдумывал план самоубийства, который и привел в исполнение, частично, через несколько дней после посещения Владыки (его едва удалось откачать, и в течение четырех лет после этого он очень тяжело болел и оттого, вероятно, не попал на фронт и не был убит); что дедушка стал очень худым и слабым и что сам Ника заболел (к великому удивлению врачей – во второй раз!) скарлатиной и долго не поправлялся[18]18
Несмотря на некоторую неопределенность Гениной датировки этого эпизода и последующих событий (1937 г.). мы можем утверждать с почти полной определенностью, что он имел место заведомо после «Главного Дня в Никиной жизни» (здесь – глава третья) и до «Конференции с дедушкой Тимофеем» (здесь – глава пятая). Хотя остается некоторая неясность в отношении ссылки на разговор о дьяконе в начале главы шестой.
[Закрыть].







