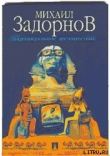Текст книги "Ужин для огня. Путешествие с переводом"
Автор книги: Александр Стесин
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
6. МАРСИАНСКИЕ ХРОНИКИ
– Познакомьтесь, это – Робо, наша кинозвезда.
– Вообще-то я – пасторалист, – уточняет Робо, с удовольствием произнося это слово.
– Кинозвезда, – настаивает боевая девушка, выступающая, очевидно, в роли пиар-менеджера, – про него даже фильм сняли. Сегодня вечером будет пресс-показ. Мы вас приглашаем.
Новоявленная кинозвезда трясет напомаженной гривой, подтверждая приглашение. Спасибо, мы непременно придем. Тем более что делать в Бахр-Даре, как выяснилось, совершенно нечего и никаких других планов на ближайшие полтора дня у нас нет.
Робо – блудный сын племени скотоводов карайю, живущего в двухстах километрах от Аддис-Абебы. Тех самых карайю, чье происхождение и обычаи с пристрастием Тацита описал амхарский монах Бахрей в «Истории галласов», одной из знаменитых «Эфиопских хроник» XVI века («И если найдется такой, который скажет мне: “Зачем написал историю дурных, подобно истории хороших?“, то я отвечу ему и скажу: “Ищи в книгах и увидишь…“»3434
Здесь и далее «Эфиопские хроники» цитируются в переводе Б. Тураева.
[Закрыть]). Несмотря на относительную близость к столице, быт племени не омрачен влиянием современной цивилизации, и хотя в вореде3535
Вореда – единица административного деления в Эфиопии, эквивалентная округу.
[Закрыть] имеется несколько школ, скотоводы строго-настрого запрещают детям посещать эти бесполезные учреждения. Запретный плод должен быть сладок, но, как показывает опыт, дети карайю – не сластены: тяга к знаниям овладела одним Робо. Вот он, ребенок, отлынивает от пастушеского труда, симулируя болезнь, и, дождавшись, пока остальные члены семьи уйдут пасти верблюдов, отправляется за тридевять земель учиться грамоте. Эти «тридевять земель» – небольшое расстояние для прогулки или даже пробежки. Недаром бег на длинные дистанции считается национальным видом спорта (эфиопские мальчишки помешаны на беге так же, как их сверстники в прочих странах – на футболе)3636
Достаточно сказать, что бегуны из городка Бекоджи, расположенного недалеко от угодий карайю, завоевали восемь золотых медалей на Олимпийских играх, поставили десять мировых рекордов и выиграли тридцать два чемпионата мира по легкой атлетике.
[Закрыть]. В деревнях, где взрослые проявляют больше терпимости к идее образования, школьники просыпаются в три часа ночи, чтобы, подоив корову, замесив тесто для инджеры и поджарив кофе, успеть к первому уроку: три часа ходу в один конец.
Вскоре родители дознаются о ломоносовских устремлениях сына, но успокаивают себя надеждой, что рано или поздно он повзрослеет и образумится, а чтобы ускорить процесс взросления, подыскивают ему невесту. В предсвадебную ночь, пока друзья и родственники водят хоровод у костра, горе-жених сбегáет из деревни в Аддис-Абебу. В итоге невесту Робо приходится выдать замуж за его старшего брата, Радо; правда, у того уже имеется жена, но многоженство у карайю не возбраняется. Престарелый отец беглеца, поставленный перед выбором стать всеобщим посмешищем или прилюдно отречься от нечестивого сына, выбирает то, что диктует обычай. Тем временем Робо приспосабливается к городской жизни и уже через несколько месяцев начинает обучение в школе-интернате для меньшинств. По окончании школы он поступает в Аддис-Абебский университет по специальности «пасторализм» и параллельно устраивается на работу в итальянскую НПО3737
НПО – неправительственная организация.
[Закрыть]. Однажды он получает неожиданное приглашение в Италию – на конгресс по проблемам сельского хозяйства в странах третьего мира. Прежде чем отправиться в столь далекое путешествие, он решает вернуться в деревню. По прибытии он узнаёт, что его семью постигло несчастье: в ходе племенных распрей между карайю и их соседями афар был убит Радо. Теперь вдову Радо, бывшую невесту Робо, должен взять в жены Фантале, младший из братьев. Родня принимает Робо тепло, но без лишних эмоций (примерно так же, как Сенаит – своего американского дядюшку); с момента ухода блудного сына прошло пять лет. Об отцовском отречении успели забыть или делают вид, что забыли.
В Риме молодого пастуха из африканского племени ждет успех, ему обещают стипендию на обучение в магистратуре. Робо мечтает когда-нибудь создать собственную НПО для развития сельскохозяйственных технологий в регионе Афар. В конце фильма он привозит отца в Аддис-Абебу. Разгуливая по городу в своем деревенском одеянии, старик отмахивается от машин пастушьим посохом, с недоверием глядит на окружающие его чудеса. Особенно сильное впечатление на него производят продукты на прилавках:
– Это что?
– Морковка.
– Кажется, я слыхал о таком. А это?
– Манго.
– О таком не слыхал.
И, помолчав, ни с того ни с сего произносит:
– Фантале, с тех пор как женился, о нас с матерью совсем не заботится. Даже куска мыла нам не купит. Ты все-таки лучше, хоть ты и странный.
Робо смеется, старик тоже улыбается, блестя внезапно слезящимися глазами.
После фестивальных показов в Европе публика засыпáла Робо вопросами, и он с расстановкой объяснял, что не считает взгляды и традиции своих соплеменников примитивными, все гораздо сложнее, чем может показаться; что войны между карайю и афар ведутся не потому, что дикарское племя жаждет принести головы врагов в жертву грозному идолу. Нет, это борьба за выживание. Ведь их жизнь всецело зависит от климата: если в регионе засуха, гибнет скот, а вслед за ним и люди. Все это освещается западными СМИ, но западные журналисты упускают из виду одно немаловажное обстоятельство: около шестидесяти процентов племенных земель правительство отобрало и пустило под национальные парки. Теперь племенам не хватает природных ресурсов. Так что в некотором смысле их войны – прямое следствие развития экотуризма… Выслушав эти взвешенные объяснения, европейский зритель растроганно аплодировал, густо надушенные леди пенсионного возраста лезли фотографироваться с чернокожим юношей.
Это было в Риме и Венеции, а здесь, в Бахр-Даре, куда Робо приехал «с гастролями» (идея Тырсит, девушки-менеджера, пригласившей нас на «пресс-показ»), в главном кинотеатре города, похожем на советский подпольный видеосалон середины восьмидесятых, немногочисленные зрители сидят с напряженными лицами; по окончании фильма, подходя поодиночке и обращаясь к гастролеру вполголоса, задают один и тот же вопрос: знает ли он такого-то и такого-то, которые тоже побывали в Италии? Получив отрицательный ответ, отходят с разочарованным видом. Тырсит бросает осуждающий взгляд на двух пятящихся к выходу ференджей – белого и индуса. «Не хотите ли сделать пожертвование в пользу нашей будущей НПО?»
***
Было уже к полуночи, когда мы вышли из «синема бэт» и поплелись искать гостиницу с непроизносимым названием.
– Слушай, Прашант, ты не помнишь, как называлась наша гостиница?
– Я как раз тебя хотел спросить.
– Помню, что было что-то такое с «сенегалом»…
– Погоди, я, кажется, вспомнил: «Амсэгенало».
Быстрая полоска фонарного света легла на нижнюю ветку дерева и соскользнула на землю, как соскальзывает конец белой эфиопской накидки, перекидываемый через плечо.
– «Амсэгенало» – это не гостиница, «амсэгенало» – это «спасибо», – раздался голос из темноты. Мы шарахнулись в сторону. Полночный велосипедист весело звякнул ржавым звонком, обдал нас брызгами грязи и, ныряя обратно в темноту, пропел с карикатурно «американским» акцентом: – Йоу ар уэлкам.
Хорошенькое дело. Значит, названия гостиницы мы не знаем, а дорогу запоминали в дневное время – теперь черта с два найдешь. Где-нибудь в Лагосе или Найроби за такую ночную прогулку мы поплатились бы, как минимум кошельком. По счастью, здесь все спокойнее: местные жители – не сторонники разбоя. Еще Гумилев в своем «Африканском дневнике» отмечал, что «абиссинцы страшные законники». Законники – не то слово. По свидетельству британских журналистов, писавших о голоде в Уолло в начале семидесятых, в тех редких случаях, когда в деревни доставляли провиант, неделями голодавшие люди чинно выстраивались в очереди и ждали своего пайка. При такой законопослушности грабителей можно не опасаться. Но и желающих довести нас до гостиницы тоже что-то не видать. И то сказать, не видно вообще ничего, тьма кромешная.
В эфиопских сказках говорится, что ночь – это время, когда речные змеи выползают на сушу и, стремясь присосаться к звездам, тянутся вверх, пока не превратятся в стебли осоки. Итак, шелест «речных змей», стрекот цикад. Ночь. В мусульманском Харэре мясники кормят сейчас гиен нераспроданным за день товаром (ночное кормление гиены с рук – тоже национальный вид спорта), а беспризорники, ночующие на свалках, жуют кат, чтобы не уснуть и не стать ужином для гиен, которым не досталось мясницких излишков. Стрекот цикад, хохот гиен. Скоро пробудятся школьники и другие ходоки из дальних деревень. Православный священник облачится в «ангельские одежды» (белые панталоны, белая рубаха до колен, белый тюрбан, белая накидка «нэтэла») и начнет приготовления к утренней службе. В одной руке у священника – кадило, а в другой – «чира», плетка из конского волоса на расписной рукояти. На другом конце Африки, в Нигерии и Бенине, с такими плетками ходят колдуны, отмахивающиеся от злых духов. Эфиопский священник отмахивается, в первую очередь, от мух. Но и духи тут как тут, даром что Эфиопия – оплот христианства. Духи докучают эфиопам не меньше, чем нигерийцам. Неистребимые «ванделы», духи-суккубы, проникающие в сны, или просто духи, бытовые демоны «адбар» и «зэр», добрые, злые – они везде. Существует даже целая доктрина, своеобразная «генеалогия морали» в эфиопском фольклоре: не бывает плохих или хороших людей, бывают только плохие или хорошие духи. Духи проносятся через нас, а мы – через них; в большинстве случаев связь человека с тем или иным духом случайна и скоротечна. Для того чтобы дух поселился в человеке, нужны основательные причины. Одна из таких причин – механическая. Пролетая через человека, дух просто-напросто застревает, зацепившись за какой-нибудь орган, путается в кишечных петлях, а высвободившись, не может вспомнить, откуда прилетел и куда лететь дальше. Происходит, так сказать, дезориентация духа в пространстве. Чтобы избежать подобных казусов, необходимо соблюдать меры предосторожности; например, когда открываешь дверь, подождать несколько секунд, уступая дорогу духу, а уж потом пройти самому… Интересно, сколько духов бродит, летает, гоняет на велосипедах в этой темноте?
– Может, поищем какую-нибудь кофейню? – предложил Прашант.
– Где же мы ее найдем в такое время?
– А вон там что?
И впрямь: одинокий огонек для тех, кто ищет пристанища в африканской ночи. Либо публичный дом, либо кофейня.
– Сэлям! – поприветствовал нас ушастый молодой человек, показывая в улыбке щербатый рот, – Энглизоч? Фырэнзаоч? Джерманоч?3838
Англичане? Французы? Немцы?
[Закрыть] Ю а уэлкам!
– Амсэгенало. Вы не могли бы нам помочь? Мы тут немножко заблудились и никак не можем вспомнить название нашей гостиницы. Она должна быть где-то совсем рядом.
– Гостиница? Есть, да. Рядом, но вам один трудно. Я мог проводить, но я сейчас не мог уходить. Через полчаса жду хозяин. Вы мог ждать полчаса, пить кофе?
Изнутри кофейня мало отличалась от обычной хижины: приземистый бамбуковый столик, рассохшееся бревно вместо скамейки, на полу – джутовая циновка, на стенах – глиняная утварь, тазики для мытья ног и посуды; воздух пропитан дымом эвкалиптовых дров, запахом мокрой шерсти. Ушастый юноша принес нам кофе и, отойдя на несколько шагов, стал наблюдать за нами с видом человека, ищущего случая, чтобы сказать что-то важное. Наконец собрался с духом:
– Меня зовут Алему.
– Очень приятно, Алему. Спасибо за кофе.
– Алему. А вас как?
Мы представились.
– Я знаю много история Бахр-Дар. Хочешь, вам рассказал?
– Расскажи, конечно. Присаживайся.
Присаживаться Алему не стал; наоборот, принял торжественную позу чтеца-декламатора, закатил глаза. «Пой мне, о муза…» В течение следующих двух часов мы услышали две истории. Первая была историей Бахр-Дара и его окрестностей – от царя Гороха до средневекового царя-крестоносца Амдэ-Цыйона I и далее: предания об отцах-пустынниках, богословские диспуты между монахами толка тоуахдо и тыграйской сектой кыбат; нагорный дворец-темница Амба-Гышен, куда эфиопские правители ссылали своих родственников, чтобы исключить возможность дворцового переворота3939
Ср. в «Хронике Сусныйоса»: «И когда был он там, пришли к царю мужи злосоветные, немилосердные, с гортанями, подобными открытым гробам, и с языками льстивыми, с ядом змеиным за устами. И внушали они слова погибельные, худшие, нежели яд, говоря: “Вот возрос этот сын абетохуна Фасиледэса и стал силен. Лучше схватить его и поместить на амбу Гешен как заведено для чад царских, чтобы не было волнений в области, смуты в стране“».
[Закрыть]; реформы поэта-императора Наода, каравшего смертной казнью за наушничество и доносы, а также запретившего профилактическую ссылку возможных претендентов на престол (после смерти Наода «княжеская тюрьма» снова открыла свои двери для царской фамилии); тридцатилетняя война с кровожадным имамом Ахмедом Гранем, сожжение монастыря Дэбрэ-Либанос и мытарства императора-изгнанника Либнэ-Дынгыля. Когда мы дошли до тридцатилетней войны, выяснилось, что Алему помнит все даты сражений, численность войск с каждой стороны, «лошадиные» имена всех расов, деджазмачей и фитаурари4040
В Эфиопии многие исторические лица известны под своеобразными псевдонимами, которые называются «йефарас сэм» («лошадиное имя»). Вместо имени самого человека в истории фигурирует имя его лошади; на человека ссылаются как на хозяина («отца») лошади такой-то. Имя, выбранное для лошади, отражает деятельность, характер или жизненную позицию ее хозяина. Так, например, император Йоханныс IV известен как Отец лошади Принуждай-всех-платить-подати. Рас, деджазмач, фитаурари – высшие титулы в эфиопской военно-феодальной иерархии.
[Закрыть]. В какой-то момент мне стало казаться, что я присутствую при рецитации новой «Илиады» – с той разницей, что наш бард вынужден обходиться без лиры и переводить свой эпос на ломаный английский.
Вторая история была биографией самого Алему; ее нам поведал хозяин кофейни по дороге в гостиницу (официанта-сказителя оставили сторожить лавку). Отец Алему был военным при режиме Менгисту. Мать ушла к другому мужчине, когда ребенок был еще в люльке. Бывший офицер Дерга держал сына в ежовых рукавицах, часто поколачивая, чтобы воспитать в нем стойкость духа и приучить к армейской дисциплине. В школе над Алему издевались, друзей не было. В восьмом или девятом классе появилась подруга, которая почему-то сразу не понравилась отцу. Вышла ссора, родитель, как всегда, дал волю рукам, но на этот раз Алему ответил и, высказав накипевшее, хлопнул дверью. С неделю он ночевал где-то на окраине города; наконец, не выдержал, вернулся домой и обнаружил, что входная дверь запечатана. От соседей Алему узнал, что через два дня после его ухода отец покончил с собой.
– …Теперь этот бедолага живет у моей сестры, она ему приходится троюродной теткой. Вообще-то наш Алему – со странностями, но сестра терпит. Вот и меня заставила взять его на работу. Хотя пользы от него не слишком много.
– А вы знаете о его увлечении историей? Он нам рассказывал про Амдэ-Цыйона и про Ахмеда Граня, очень хорошо рассказывал.
– Лучше бы научился работать как следует. Он мне со своим Амдэ-Цыйоном уже половину посуды перебил.
– Тяжело ему, наверное…
– Знаете, у нас на это обычно говорят, что тяжелы три вещи: праведность, табот4141
Табот – каменная плита с вырезанным на ней крестом и именем святого-покровителя церкви. В эфиопской православной традиции табот символизирует Ковчег завета, привезенный Менеликом из Иерусалима. Во время праздника Тимкат священники, возглавляющие шествие к бассейну со святой водой, несут табот над головой.
[Закрыть] и покойник.
***
За вычетом электричества, которое здесь, как и везде в Африке, подается с перебоями, и горячей воды, которой практически не бывает, в гостинице с непроизносимым названием было все, о чем только может мечтать человек в этой части света. Исправный санузел, чистое постельное белье. На шатком столике – записка от администрации, уведомляющая дорогих гостей, что в этом номере нет ни мышей, ни тараканов, ни даже клопов (поживем – увидим!). Прашант плюхнулся на соседнюю койку и разразился блаженным храпом. Помнится, когда мы собирались в поездку, он уверял меня, что никогда не храпит; я ему и тогда не поверил. На грани засыпания разрозненные дневные впечатления оформились в жутковатую видеоинсталляцию вроде тех, которые делает аддис-абебская художница Салем Мекурия. Игра воображения, никак не переходящая в полноценный сон. Душещипательные истории Робо и Алему смешались с другими, услышанными во время недавнего посещения монастыря Азуа-Мариам.
Этот монастырь находится на одном из бесчисленных островов священного озера Тана, где пять столетий назад принял смерть супостат эфиопов Ахмед Грань. По правилам жанра здесь должна следовать фраза вроде «мало что изменилось с тех пор», что, разумеется, не вполне соответствует действительности. Изменилось почти все, но и в наши дни главный водный транспорт – остроносая папирусная лодка, разрезающая отражения нильских акаций вдоль линии берега. Седобородый лодочник бормочет под нос, время от времени резюмируя пять минут амхарской скороговорки двумя-тремя бессвязными фразами по-английски: «Геенна в брюхе Земли. Небо и озеро. Если солнце встает надо озером, греет землю. Грешникам негде скрыться. Палит их весь день, всю ночь. Садится, чтобы не перегореть. Снова встает, видишь, вон там…»
Местный гид, вызвавшийся показать «самый древний из сохранившихся монастырей Бахр-Дара», довез нас до острова и препоручил своему помощнику. Через непроходимые заросли мы вышли к монастырскому скиту, где нас уже ждал помощник помощника. У того, разумеется, был свой помощник и так далее. Это была целая гильдия экскурсоводов, работающая по принципу матрешки. Позже нам объяснили, что каждый из «помощников» является экспертом в том-то и том-то; так, наш лесной проводник, кажется, считался знатоком эндемичной флоры. Время от времени он кивал на какое-нибудь большое дерево и восклицал, как будто обращаясь к дереву по имени: тыда! бесанна! ванза! Дерево отзывалось сердитыми криками желтых попугаев.
Макушка острова была очищена от растительности, как монашеская тонзура. Там и находились монастырский скит и сам монастырь, окруженные изгородью энсеты. Энсета, или абиссинский банан, растет по всей Эфиопии. Съедобных плодов, т.е. бананов как таковых, это дерево не дает, однако играет важную роль в сельском хозяйстве, особенно у народности гураге, проживающей в юго-западной части страны. При упоминании гураге любой эфиоп автоматически произносит два слова: «бизнес» и «энсета». Бизнесмены-гураге умудрились найти две дюжины применений бесплодному абиссинскому банану и разработали сложную технологию его культивирования: чтобы получить несколько пригодных к употреблению растений, нужно обработать около сотни саженцев на разных стадиях роста. Из лубяных волокон энсеты плетут корзины и циновки, отвар из листьев используется в качестве лекарства, корневища служат стройматериалом, а из черенков, закапываемых в землю на несколько месяцев, добывают ценный продукт питания – что-то вроде творожной массы, из которой можно готовить разные условно съедобные блюда.
Монастырский скит представлял собой несколько хлипких построек из хвороста, тростника и глины. На рогоже, расстеленной у входа в жилище, лежали ломтики сушеной инджеры, листья крушины и зёрна пророщенного ячменя для приготовления домашнего пива. На энсетовых веревках сушилось белье, выстиранное в застойных лужах. Указав на одну из тростниковых хижин, помощник № 3 объяснил, что это – студенческое общежитие. Оказалось, что в каждой хижине размером с одноместную туристическую палатку живут пять или шесть послушников монастыря. Из недр «общежития» доносилось многоголосое бормотание: это послушники в дэбэлах4242
Дэбэла – овчина, которую по традиции носят ученики монастырских школ.
[Закрыть] зубрили священное писание на литургическом языке геэз. На первых порах от семинаристов, изучающих геэз, не требуется знание грамматики или словаря; литургию зубрят «вслепую». Считается, что сам звук языка уже является достаточным для того, чтобы ученик проникся духом религии. Текст священного писания превращается в мантру. А бумага, испещренная сокровенными письменами, – в предмет почитания. Поэтому, хотя большинство прихожан не обучены грамоте, многие хранят дома Библию и перелистывают ее от случая к случаю. Известна даже история деревенского лекаря, который добивался исцеления больных путем кормления Библией: для скорейшего выздоровления пациенту полагалось съесть несколько страниц натощак.
Видимо, эту закостенелую, доведенную до абсурда «слепую веру» и имел в виду Уорку, когда говорил, что «поставил крест на тоуахдо». А может быть, для него, как для многих образованных эфиопов, институт церкви неизменно ассоциировался с памятным образом отца Могессие4343
Отец Могессие – персонаж романа Хаддиса Алемайеху «Любовь до гроба», олицетворение алчности и ханжества.
[Закрыть]. Словом, причин достаточно. Но для иностранца, вооруженного фотоаппаратом, важна внешняя сторона вещей, оболочка, состоящая из трех концентрических кругов: притвор, святилище и Святая святых (Кэддуса кэддусан). Архитектура эфиопских церквей, повторяющая структуру Иерусалимского храма. Коническая крыша, крытая соломой и увенчанная шпилем из семи страусиных яиц, символизирующих семь небес, семь дней творения, начало начал (ab ovo) и крепость веры (страусиное яйцо непросто раскокать).
При входе в Азуа-Мариам в нос ударяет запах ладана. Настоятель держит в руках Библию в окладном переплете из красного дерева, натертого маслами и благовониями. С гордостью объявляет: XIV век. Затем демонстрирует три обязательных атрибута церковной службы: барабан, систр и молитвенный посох. Из барабана «калберо» можно извлечь любые звуки; низкие и глухие символизируют тело, высокие и звонкие – дух. Систр, храмовая погремушка, пришедшая из Древнего Египта на заре Аксумского царства, имеет форму подковы с двумя перекладинами, символизирующими лестницу Иакова, и пятью медными пластинами (пять – это дихотомия тела и духа + Святая Троица). Изогнутая рукоять молитвенного посоха символизирует одновременно рог агнца, принесенного в жертву вместо Исаака, и матку Богородицы.
Эфиопский ритуал богослужения – смесь африканского (барабан, оголтелые пляски) с ветхозаветным (шаммы-талесы, жертвенный дым курений… так, должно быть, служили в Иерусалимском храме). Хотя кто сказал, что Африка и Ветхий Завет – разные вещи? Племена, испокон веков исповедующие иудаизм, разбросаны по всему африканскому континенту: часть племени игбо в Нигерии, сефви в Гане, тубу в Мали и Чаде, лемба в Зимбабве, Малави и Мозамбике. Анализы ДНК подтверждают наличие общих корней с сефардами и ашкенази. Что, увы, никак не влияет на бытовой расизм, который, насколько я понимаю, в Израиле цветет пышным цветом (особенно среди выходцев из бывшего СССР), побуждая некоторых эфиопских евреев возвращаться в предместья Гондэра.
Окружная глинобитная стена, отделяющая притвор от святилища, полностью покрыта росписями, иллюстрирующими библейские сказания: Жертва Авраама, Даниил среди львов, Иона во чреве кита, Посещение Елизаветы, Рождество, Избиение младенцев, Бегство в Египет. Своеобразный конспект в картинках. Классическую эфиопскую живопись ни с чем не спутаешь: она вся состоит из удивленных аспидно-черных глаз в пол-лица. На картинах мастера гондэрского периода Аббы Хайле Мескела эти глаза, как глаза Джоконды, неотступно следят за наблюдателем. Это глаза праведника: по традиции, праведники всегда изображаются анфас, а грешники – в профиль. С приходом Дерга вся «старая» живопись, от росписей Средневековья до модернистов Афэуорка Тэкле, Гэбрэ Кристоса Дэста и Скундера Богоссяна, была объявлена идеологически чуждой, но основные принципы перекочевали в новый стиль: на полотнах эфиопского соцреализма враги народа показаны в профиль, а строители коммунизма – анфас.
За иллюстрациями библейских сюжетов на храмовой стене следуют изображения Георгия Победоносца и девяти Сирийских отцов, а за ними – самое интересное: выдержки из специфически эфиопской агиографии. Вот Тэкле Хайманот, известный кроме прочего тем, что десять лет неподвижно простоял в быстротечной реке, а когда рыбы съели его левую ногу, простоял еще десять лет на правой, пока Господь не взял его на небеса. Вот Яред Сладкопевец, изобретатель эфиопской музыкальной системы. Заслушавшись божественным пением Яреда, император не заметил, как проткнул копьем стопу Сладкопевца, а тот, истекая кровью, продолжал петь, пока не повалился замертво. Вот Гэбрэ Мэнфэс Кидус, покровитель всех бахитави4444
Бахитави – эфиопские аскеты-мистики.
[Закрыть], никогда не носивший одежды и не бравший в рот человеческой пищи. Триста лет он скитался по горам в сопровождении львов, гиен и птиц, которым давал напиться влаги из собственного глаза. Вот людоед Белай; когда-то он был праведником, но сошел с пути истинного и пристрастился к человеческому мясу. Съев всех родных и близких (в общей сложности семьдесят восемь человек), людоед отправился в другую деревню в поисках новых лакомств. По пути ему повстречался прокаженный, до того мерзкий, что Белай, как ни был он прожорлив, не решился употребить его в пищу. Прокаженный же, не зная, что имеет дело с людоедом, стал просить воды, и в конце концов, умилосерженный Белай дал ему каплю из своей фляги. Когда Белай предстал перед Страшным судом, на одной чаше весов оказались семьдесят восемь съеденных родственников, а на другой – капля воды, данная прокаженному. И тогда Богородица дотронулась двоеперстием до той чаши, где была только капля, и чаши уравнялись.
В конце экспозиции Гэбрэ Мэнфэс Кидус, похожий на Алему, угостил зверей и птиц свежесваренным кофе, Робо помог одноногому Тэкле-Хайманоту перейти через дорогу, и я догадался, что уже сплю. Во сне я увидел многоочитую темноту потолочной росписи с названием где-то в углу: «Вселенная». Пока я вглядывался в этот перенаселенный глазами мрак, кто-то невидимый с амхарским акцентом объяснял мне: «Космос расширяется потому, что проходит через человека. Чем больше энергии человек забирает у Вселенной, тем быстрее она расширяется. Ваша наука узнала об этом недавно, а мы знали с самого начала». Я кивал, делая вид, что все понял.
***
С наступлением дня лай собак, мелизматическое пение алеки4545
Алека – настоятель монастыря
[Закрыть] и шум припустившего под утро дождя разом прекратились, как будто были частью сна. В промежутке между ночными и утренними звуками на землю опустился густой туман – занавес для смены декораций. Первыми проснулись запахи; в разреженном воздухе запахло смесью навоза, дыма и того дрожжевого брожения, которым всегда пахнет в Африке во время сезона дождей. Прашант сказал, что этот дрожжевой запах исходит от мокрой глины и напоминает ему об Индии. Впрочем, с Индией у него ассоциировалось все подряд. Любой амхарский обычай, любая история или сцена из здешней жизни вызывали у него одну и ту же реакцию: «Совсем как в Индии». Я, в свою очередь, всюду выискивал общий знаменатель с той Африкой, которую знал лучше всего: «Совсем как в Гане».
Так уж прямо «совсем»? Да нет, ничего общего. Ни с Ганой, ни с Мали, ни даже с соседним Суданом. Но человек странствующий, homo peregrinans, сородич человека играющего, всегда склонен видеть не то, что есть. Так, прибыв в Джибути, Гумилев пишет Вячеславу Иванову: «Здесь уже настоящая Африка. Жара, голые негры, ручные обезьяны». Страны Африканского рога, то есть Эфиопия, Эритрея, Джибути и Сомали, разительно отличаются от всего остального, что есть на этом континенте; сказать, что здесь «настоящая Африка» – примерно то же самое, что назвать Туву «настоящей Россией». Но Гумилев смотрит вокруг и видит ту Африку, о которой загодя написал десятки стихотворений («Дагомея», «Нигер», «Мадагаскар» и так далее) и в которой, увы, так и не побывал. «…На озере Чад изысканный бродит жираф…» Настоящий Чад – пыльные барахолки и мусорные горы Нджамены, повсеместный патруль с заплечными «калашами», беспрестанная проверка документов и вымогательство взяток, грязная вода в желтых канистрах, соляные равнины, запорошенные песком деревья, жутковатое безлюдье песчаных улиц – так же далек от фантазии Гумилева, как от хроник Канем-Борну4646
Письменный памятник среднекового государства Канем-Борну, существовавшего примерно с 700 года н.э. на территории современного Чада. Хроники Канем-Борну датируются XIII веком.
[Закрыть]. Зато он вполне совпадает с априорными представлениями современного homo peregrinans: все это мы уже видели – кто по телевизору, а кто и воочию; мы уже бывали в похожих местах (я – в Мали, Прашант – в пустынной части Гуджарата), и, в конце концов, все места оказываются похожими. А ведь нам хотелось другого. Умудренные опытом глобализации, упраздняющей вопрос «Есть ли жизнь на Марсе?», мы все равно путешествуем на край света, чтобы еще раз убедиться в том, что марсиане – это мы. Убедиться и удивиться.
Пока мы шли к автобусной остановке, выглянуло солнце. От первого солнечного луча, как от лучины, поднесенной к склону холма, вспыхнуло синее пламя люпинов. Странно, что и здесь – люпины, знакомые с детства цветы. Совсем как у нас, на Марсе.