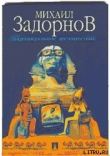Текст книги "Ужин для огня. Путешествие с переводом"
Автор книги: Александр Стесин
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
2. ДЕТИ РЕВОЛЮЦИИ
С Деми мы дружили в университете, но в последние годы переписывались редко. О новых, все более невероятных витках ее биографии я узнавал в основном от общих знакомых. Уроженка Дыре-Дауа, того самого города на востоке Эфиопии, где охотился за сокровищами Рембо, томился в ожидании каравана Гумилев и строчил желчные репортажи Ивлин Во, Деми шутила, что повторила маршрут европейских литераторов-первопроходцев, но в обратном направлении. На самом же деле ее траектория была куда более сложной. Она рассказывала, что никогда не знала своего отца; уже во взрослом возрасте узнала, что человек на трогательных фотографиях из семейного альбома был убит в начале гражданской войны, за два или три года до ее рождения, а своим появлением на свет Деми обязана безымянному солдату СВЭД44
Социалистическое всеэфиопское движение – одна из противоборствующих политических группировок, образовавшихся после свержения императора Хайле Селассие I.
[Закрыть], ворвавшемуся в хижину во время налета, когда первая волна «Красного террора» захлестнула регион Дыре-Дауа. Все это держалось в секрете не только от Деми, но и от других членов семьи, которые, впрочем, и сами в те годы старались знать как можно меньше и держаться как можно дальше. Известно было, что человек на семейных фотографиях некогда принадлежал к поруганной ЭНРП55
Эфиопская народно-революционная партия – группировка, боровшаяся со СВЭД и режимом Менгисту Хайле Мариама.
[Закрыть], и мать Деми, опасаясь преследований со стороны хунты Менгисту Хайле Мариама, несколько лет пряталась с детьми в подвале у некой тетушки. Сама Деми ничего из этого не помнит; первое отчетливое воспоминание – лагерь для беженцев, откуда их с матерью и старшей сестрой вывезли в Италию, когда Деми было десять. Именно из отсутствия детских воспоминаний и вырос, годы спустя, автобиографический роман, после которого Деми стали причислять к созвездию молодых писателей эфиопской диаспоры – «детей революции» – наряду с Маазой Менгисте, Ребеккой Хайле и Динау Менгесту. К слову, первая книга Динау, бывшего соседа Деми по бруклинским трущобам, изначально так и называлась, «Дети революции» (впоследствии он заменил это рабочее название цитатой из Данте: «The beautiful things that Heaven bears»66
«Краса небес в зияющий просвет» (пер. М. Лозинского).
[Закрыть]). Мне запомнилась сентенция, которую произносит один из его персонажей в качестве тоста: «Наша память как река, отрезанная от моря. Со временем она пересохнет на солнце. Поэтому мы пьем и пьем и никак не можем напиться». Что-то подобное говорила и Деми, когда мы шумной компанией просиживали в кабаках после или вместо занятий. В ту студенческую пору она поразила меня своими познаниями в области русской словесности и тем, что четыре или пять раз прочла от корки до корки «Улисса». Таская нас, очкариков с литературного факультета, по злачным местам в самых неприветливых районах города, она повторяла, что вкус жизни всегда оседает на дне общества, как сироп – на дне стакана.
Это было пятнадцать лет назад, и знаменитые строки русского классика эфиопского происхождения – «всё те же мы…» – едва ли применимы к нашей тогдашней компании. Время от времени отголоски юности доходят в виде не слишком увлекательных сплетен: кто-то из бывших начинающих авторов подался в бизнес или пошел по академической стезе, учился, но недоучился, пробовал снимать фильмы, располнел, полысел, отрастил бороду, чтобы скрыть второй подбородок. Динау Менгесту преподает теперь в Джорджтаунском университете и считается одним из самых многообещающих англоязычных писателей поколения «under 40»77
Те, кому нет сорока.
[Закрыть], продолжателем линии Сола Беллоу. А Деми продолжает свои бесконечные странствия, взяв за правило нигде не задерживаться дольше года.
Когда ей было четырнадцать, она решила сменить Италию на Америку и, вопреки увещеваниям матери с сестрой, купила билет в Лос-Анджелес, где жили какие-то дальние родственники. При этом она не позаботилась о въездной визе. Как ее без визы выпустили из Италии, бог весть. Во всяком случае, из Лос-Анджелесского аэропорта она отправилась прямо в спецприемник, где провела следующие полгода. Наконец получив разрешение на въезд в США, она ненадолго поселилась у родственников, которых никогда до этого не встречала, но вскоре снова собрала чемоданы и уехала в Нью-Йорк – к кому-то из тех, с кем успела подружиться в спецприемнике.
Остается загадкой, как при таком кочевом образе жизни она умудрилась закончить школу, поступить в институт, а потом – правда, уже после издания книги, принесшей ей известность, – в аспирантуру Гарварда. Но у Деми вся жизнь – одна сплошная загадка. После окончания аспирантуры она преподавала литературу в тюрьмах и колониях для несовершеннолетних, по году жила в Париже, Мадриде, Мехико и Рио-де-Жанейро, овладела пятью или шестью языками, включая арабский. В последнее время она живет в Саудовской Аравии, где проводит писательские мастер-классы для учащихся женского пансиона, исподволь проповедуя им идеи эмансипации.
И вот несколько месяцев назад я получил от нее сообщение в Фейсбуке: «Мархаба!88
Здравствуй! (араб.)
[Закрыть] Помню, ты когда-то мечтал побывать в Эфиопии, а я тебя отговаривала. Должна тебе сказать, что я пересмотрела свою точку зрения и собираюсь туда этим летом. Не хочешь ли встретиться в Аддисе?» Если это и совпадение, то из тех, что случаются раз в жизни, подумал я и бросился звонить Прашанту. Но за пару недель до вылета, когда наши планы и так уже были под вопросом из-за событий в Египте, я получил еще одно сообщение: «Извини… Моя мама заболела, кладут на операцию. Завтра лечу в Рим. Посылаю тебе координаты моего приятеля Уорку. Он живет в Аддисе. Свяжись с ним, он все устроит».
***
Уорку встретил нас в аэропорту. Это был низкорослый сухощавый человек неопределенного возраста (позже выяснилось, что мы ровесники), упрятанный, как улитка, в безразмерную кофту с капюшоном. Огромные, глубоко посаженные в череп глаза, лоб с набухшими венами и залысинами. По-английски он говорил вполне бегло и почти безостановочно. «Добро пожаловать в Эфиопию! Как долетели? Устали? Сколько сейчас времени в Нью-Йорке? Здесь? Полчетвертого утра. То есть для европейцев – полчетвертого, а для нас – полдесятого. У нас ведь по-другому время считают, сутки начинаются не в двенадцать, как у вас, а в шесть. Не знали? У нас и календарь другой, отстает от вашего на восемь лет. И в году не двенадцать месяцев, а тринадцать. Так что для ференджа99
Европеец (амхар.)
[Закрыть] в Аддис-Абебе сейчас две тысячи тринадцатый год и полчетвертого утра, а для эфиопа – две тысячи пятый и полдесятого. Те, кто говорил вам, что Эфиопия – отсталая страна, были правы. Все из-за календаря, ха-ха. В общем, когда будете спрашивать у местных, который час, имейте в виду. Отнимать шесть часов. Нет, пардон, прибавлять. Башка не варит, не проснулся еще. Почему-то у нас все международные рейсы обязательно прибывают среди ночи. Может, они эфиопское время с европейским путают? Когда надо кого-нибудь встретить, я обычно с вечера в аэропорту дежурю, чтобы не проспать. Паркуюсь у входа в терминал, завожу будильник и сплю в машине. Удобно. В машине спать удобно, в моей по крайней мере. Привык. А вас я в гостиницу отвезу, забронировал. Там недорого. Отоспитесь, а часика в четыре, то есть в десять по-вашему, заеду за вами, поедем в город. Вы – от Деми, да? Моя сестра – ее давняя подруга, они в Париже вместе квартиру снимали. Сестра до сих пор там. А Деми где? В Саудовской? Вот те на. А я-то думал, она в Штатах… Я от сестры неделю назад вернулся, почти месяц у нее гостил. Мне такие длинные отпуска редко выпадают. Париж в общем понравился, хороший город, вроде бы, но Лондон роднее. В Лондоне Зелалем раньше жил, мой двоюродный брат. Вы с ним сегодня познакомитесь. Но сначала надо поспать. Мы, кстати, приехали».
Поспать в гостинице так и не удалось. Причиной тому были церковные песнопения, начавшиеся по местному обычаю в четыре часа утра (в десять – по эфиопскому времени) и транслируемые на всю округу с помощью стадионных динамиков. Непривычные для европейского уха гармонии напоминали о древности музыкальной культуры: согласно преданию, эта звуковая система была создана Яредом Сладкопевцем аж в шестом веке. На краю Ойкумены, в одном из самых древних и изолированных государств на земле, все существует с незапамятных времен и меняется чрезвычайно медленно. Господствующая религия здесь – тоуахдо, абиссинский вариант православия, за семнадцать веков своего существования накопивший множество диковинных обрядов и догматов. Кроме того, после исламского нашествия в XVI–XVII веках в Эфиопии осело значительное число мусульман. Говорят, на сегодняшний день эфиопские сунниты и приверженцы тоуахдо относительно мирно сосуществуют. Как бы то ни было, вскоре к православному песнопению примешался азан муэдзина: мусульманское меньшинство боролось за право голоса в утренней партитуре. Затем вступили окрестные петухи, и воцарилась нормальная африканская какофония. Я такого еще в Гане наслушался. Короче говоря, к семи утра мы были готовы на выход. Спустившись в фойе, мы нашли там неутомимого Уорку. За эти три часа он уже успел побывать в церкви и теперь смиренно дожидался нашего пробуждения.
– Что это вы так рано? Вы же небось не выспались!
– А ты?
– Мне много не надо. И потом, я же еще в машине пару часов подремал, пока в аэропорту вас ждал. А в машине я всегда хорошо высыпаюсь… Может быть, вам здесь слишком шумно? Хотите, отвезу вас к себе, поспите еще часок-другой?
– Да нет, спасибо. Нам тоже много не надо, – соврал я и тотчас почувствовал на себе негодующий взгляд Прашанта. – Может, позавтракаем?
– Завтракайте, конечно, – кивнул Уорку, – я не завтракаю, но с удовольствием с вами посижу.
Когда мы вышли на улицу, город уже бодрствовал. Группы молодых людей в американских футболках и джинсах лениво прогуливались, переговариваясь вполголоса, или сидели на низких табуретках перед полуоткрытыми жестяными лачугами, в которых продавались фрукты и всякое хозяйственное барахло. Другие горожане, нагруженные охапками дров и продовольственными корзинами, брели по обочинам в сторону рынка Меркато. В отличие от праздношатающихся и праздносидящих, эти были одеты в основном в традиционные бурнусы и шаммы1010
Шамма – накидка из газовой ткани.
[Закрыть], некоторые вели за собой тощую скотину. Мимо них проносились бело-голубые маршрутки и старые «Жигули» – «тройки», «пятерки», «шестерки» – пережитки эпохи эфиопско-советской дружбы. В воздухе стояла приятная свежесть, какая бывает после дождя, но придорожная суглинистая почва была суха. Главное, никакой африканской жары. Ночью, когда мы прилетели, было и вовсе холодно. Позвонив жене в Нью-Йорк, я узнал, что там началась полоса сильной жары, на улицу не выйти. А здесь, в Африке, ходишь в легком свитере или куртке, запахиваешься при порывах ветра. Эфиопы утверждают, что у них в стране тринадцать месяцев солнца. Дотошные экспаты уточняют: четыре месяца дождей и слякоти, девять – прекрасной весенней погоды.
– У вас бывает жарко, Уорку?
– Не жарче, чем в Европе летом. Я бы даже сказал, холоднее. Градусов двадцать пять, двадцать семь максимум. Мы же в горах находимся. Аддис – одна из самых высокогорных столиц в мире.
Аддис! Еще недавно название столицы Эфиопии ассоциировалось у меня исключительно с детской игрой в города: Анкара, Астана, Алушта, Анапа… Кто бы мог подумать, что Аддис-Абеба окажется первым городом из этого списка, где мне доведется побывать. «В садах высоких сикомор, аллеях сумрачных платанов…» По сравнению с городами Западной Африки, центр Аддис-Абебы выглядел вполне презентабельно: широкие, асфальтированные улицы, многоэтажные здания, ровный шелест акаций, растущих вдоль тротуаров.
«Это всё китайцы строят, – пояснял Уорку, пока мы кружили по одной из главных улиц в поисках стоянки, – все эти новые здания, дороги. Мэйд ин Чайна. У проституток в Аддисе есть такая присказка. Когда им предлагают слишком низкую цену, они возмущаются: “Что я, по-твоему, мэйд ин Чайна?” Проститутки знают, что почем. Низкая цена – низкое качество. Не удивлюсь, если все эти небоскребы рухнут через лет десять-пятнадцать. Да и если не рухнут, эфиопам от этого будет мало проку. Китайцы всю рабочую силу с собой привозят, наших не нанимают, технологиям строительства не обучают. Зато сносят “жестянки”, через год-другой ни одной не останется. Что, конечно, хорошо для облика города, только людям-то где жить? Вряд ли их всех расселят по новым кондоминиумам. Хотя правительство именно это им обещает. Наше правительство считает, что заключило выгодный контракт с Китаем, потому что участки под застройку не переходят во владение китайских инвеститоров, а сдаются им в бессрочную аренду. Только наши болваны могут считать это выгодной сделкой. Кстати, видите вон ту башню? Это здание Африканского союза. Там заседают наши диктаторы. У нас говорят, что эта башня – средний палец Аддису».
Поставив машину на «платную стоянку», то есть попросту оставив ее посреди одной из боковых улочек и заплатив несколько быров мальчишке-беспризорнику, чтобы тот присматривал, Уорку повел нас в кафе, где, по его словам, стряпали лучший в городе «фыр-фыр», традиционное утреннее блюдо из кусочков инджеры вперемешку с острым соусом. Инджера, пористый блин из перекисшего теффового1111
Тефф – высокогорный злак, произрастающий главным образом в Эфиопии и Эритреи, где он является основной зерновой культурой.
[Закрыть] теста, составляет здесь основу завтрака, обеда и ужина. Его используют и в качестве общей тарелки, на которую горками выкладываются пряные мясные соусы, салаты и каши, и – вместо ложки, отщипывая от «тарелки» по кусочку и захватывая этими кусочками мясную или овощную начинку. В путеводителях по Эфиопии обычно пишут, что вкус у инджеры – на любителя. Мы оказались любителями, уплетали за обе щеки. Уорку жевал спичку, уставившись в потолок. На предложение помочь нам с фыр-фыром он ответил, что никогда не ест раньше полудня. Складывалось впечатление, что сон и еду он считает барской прихотью.
– Вы только мэсоб1212
Мэсоб – перевернутая плетеная корзина, используемая в Эфиопии в качестве обеденного стола.
[Закрыть] случайно не съешьте, – предостерег он, взглянув на наше обжорство.
– Не будем. Оставим мэсоб на ужин.
– Для ужина он вам не понадобится, ужинать будем у Зелалема.
– У того, который в Лондоне жил?
– Угу. Давайте, кстати, обсудим план действий. Вам ведь город показать надо. Я этого сделать, к сожалению, не смогу: работа. Но есть человек, который сможет. Зовут его Ато Айелу. Мы с ним в одну церковь ходим. Интересный мужик, свидетель нескольких эпох. При старом режиме, до коммунистов, он чуть ли не в дворцовой гвардии служил. При Дерге1313
Дерг – амхарское название Временного военного административного совета, главного органа власти при режиме Менгисту Хайле Мариама (1974–1991).
[Закрыть] учительствовал где-то в сельской школе. Потом вышел на пенсию, а недавно ни с того ни с сего женился. Молодая жена, затраты, сами понимаете. Так что теперь он подрабатывает частным гидом. Берет недорого. Если дадите ему двести быров1414
Около десяти долларов.
[Закрыть], он будет доволен. Уверяю, оно того стоит. Ходячая энциклопедия. Только имейте в виду: в его присутствии ни в коем случае нельзя говорить ничего плохого об императоре Хайле Селассие. Айелу его боготворит. Если б я не знал, что он – протестант, решил бы, что он – растаман.
– Протестант? – удивился я. – Мне казалось, в Эфиопии все христиане – монофизиты…
– Не все, – Уорку назидательно поднял указательный палец. – Большинство, но не все. Я-то ведь тоже протестант. На тоуахдо я, прости за каламбур, поставил крест много лет назад. Отдельный разговор. Короче, вы все поняли, да? Никакой критики в адрес Хайле Селассие. Только восторженные междометия.
– Я так понимаю, ты этих восторгов не разделяешь?
– Просто я не считаю его героем без страха и упрека. Хайле Селассие очень долго правил и постепенно перестал владеть ситуацией. Ему надо было уйти еще в шестидесятом, когда взбунтовались гвардейцы и студенты. А он стал цепляться за власть, как клещ за солдатское одеяло. Вот и поплатился. Что произошло в начале семидесятых, ты и сам наверняка знаешь.
– Напомни.
– Ну как, была засуха в Уолло, недород, страшный голод, в общей сложности двести тысяч погибло. Люди обращались с просьбами о помощи, а когда устали ждать ответа, собрали манатки и сами отправились в Аддис. Тысячи беженцев! Хайле Селассие, который к тому моменту давно уже впал в старческий маразм, стал паниковать, потому что через несколько месяцев в Аддисе должен был состояться международный саммит и ему не хотелось, чтобы весь мир увидел, что по городу бродят толпы дистрофиков. Он и сам факт того, что в Эфиопии голод, пытался скрыть. Все, что оставалось в закромах с урожайных лет, отправлял на экспорт, чтобы создать иллюзию изобилия. От гуманитарной помощи отказывался, уверял, что всё под контролем. Короче, когда прибыли беженцы, он не придумал ничего лучшего, чем приказать армии силой вернуть их в Уолло. Так что поделом ему.
– Но разве те, кто пришел после него, не были еще хуже?
– А я и не говорю, что Дерг был лучше. Понятно, что Менгисту Хайле Мариам был палачом почище Сталина и Пол Пота. Но моя родня пострадала в первую очередь не от коммунистов, а от Хайле Селассие. У меня в Уолло половина семьи перемерла. И вообще странно работает наша историческая память. Мы не забыли про зверства итальянцев во время оккупации, хотя это было почти восемьдесят лет назад, и никто из моих знакомых, которых передергивает, когда они слышат итальянскую речь, тогда еще не родился. Но все почему-то забыли про Уолло и готовы провозгласить Хайле Селассие святым мучеником.
Уорку все больше распалялся, хотя ни я, ни Прашант практически ничего не знали о предмете дискуссии и, следовательно, не могли возразить или согласиться. Возможно, его монолог был продолжением какого-то недавнего спора с Айелу. А может быть, это – не единичный спор, а постоянная тема их разговоров. Унаследованные истины, несправедливая избирательность исторической памяти. Революция, о которой до сих пор спорят бывший лейб-гвардеец его величества и потомок крестьян Уолло, произошла почти полвека назад. Уорку приходится этой революции не сыном, а внуком. Но говорит так, как будто сам был если не участником, то уж точно очевидцем. Странная штука эта «историческая память». События не стираются из нее так, как они стираются из памяти личной. Расстояние между мной и тем, что было до меня, с детства остается неизменным. Где-то на подсознательном уровне мне всегда будет казаться, что Великая отечественная война закончилась всего три-четыре десятилетия назад, а под «прошлым веком» подразумевается девятнадцатый. Пренатальная память, невидимый источник. Как ни эффектна «питейная» метафора Динау Менгесту, она, разумеется, неверна: ведь реки не вытекают из моря, а, наоборот, впадают в него, как в беспамятство. Как и другие реки, эта питается грунтовыми водами, дождевыми ручьями. И, уж если на то пошло, можно сказать, что детство – сезон дождей, и собранной влаги хватает на всю продолжительность памяти, даже когда эта река берет начало в самом засушливом из регионов.
– А вообще, досадно, – сказал Уорку после некоторой паузы, – у большинства иностранцев Эфиопия ассоциируется исключительно с голодом. Наши правители из кожи вон лезли, чтобы скрыть этот голод от мира, а получилось наоборот. И теперь приходится всем объяснять, что есть и другие вещи, которые заслуживают внимания.
– Не теффом единым, – ввернул я и тут же устыдился своей неуместной шутки.
– Не теффом единым, – вежливо улыбнулся Уорку. – Кстати, я надеюсь, вы сыты?
3. ПУШКИНСКИЙ ДОМ
У Айелу для нас была запланирована обширная программа. Он хотел не столько рассказывать, сколько показывать – в первую очередь свое педагогическое мастерство, выражавшееся в умении переводить древнюю культуру Абиссинии на язык современного ширпотреба. Энергичный, крепкий старик, он был одет в щегольскую черную кожанку и затрапезные брюки с пятнами под ширинкой. Своим видом и повадками он напомнил мне книготорговцев с развалов на Брайтон-Бич, тех, кого моя мама называла «старичок-кочерыжка». Когда мы только приехали в Америку, один из таких «кочерыжек» продавал мне, подростку, паленые кассеты с записями советского рока, по которому я тогда тосковал. На дворе был девяностый год, и старичку было, наверное, лет семьдесят, но, раскладывая передо мной свой товар, этот человек сталинской эпохи демонстрировал познания, которым позавидовал бы любой патлатый завсегдатай Ленинградского рок-клуба. Он даже использовал молодежный сленг, да так бойко, что вполне мог бы сниматься в известной рекламе Альфа-банка: «С каждым клиентом мы находим общий язык».
Айелу был того же сорта. Если тридцатипятилетний Уорку был погружен в события и реалии прошлого, о которых мог знать разве что из книг или рассказов старших, то его семидесятилетнего соприхожанина куда больше занимали вопросы поколения MTV и компьютерных гаджетов. Впрочем, Айелу был подкован по самым разным предметам (недаром Уорку назвал его «ходячей энциклопедией») и, в соответствии с лозунгом Альфа-банка, готов был найти общий язык с каждым клиентом. Так, в разговоре со мной он мгновенно переключился на тему русской литературы и стал перечислять известные ему имена. Я, в свою очередь, старался не ударить в грязь лицом и выжать из памяти ответный список эфиопских авторов. Благо, в университете, пока Деми читала Джойса и Андрея Белого, я корпел над курсовыми по африканской литературе.
– Лео Толстой, Теодрос Достоэвски, Антон Чэхоу, – загибал пальцы Айелу.
– Афэуорк Гэбрэ Иесус, Хаддис Алемайеху…
– Микаэль Шолохоу! Эскиндер Солдженыцэн! Патэр… Патэрнак, Живаго Патэрнак?
– Бырхану Зэрихун, Бэалю Гырма…
– Гырма? А что ты о нем знаешь?
– Я читал его повести. «За горизонтом» и еще что-то.
– Гырма был любимчиком Дерга, его даже назначили министром пропаганды. А потом он взял и написал «Оромай». Ты читал «Оромай»? Это была первая книга против Палача и его режима. Палач вызвал Гырму к себе, предлагал отречься, а Гырма отказался. И в тот же вечер исчез. Смелый был человек.
– Данячоу Уорку, – не унимался я.
– Хм… Этого я не знаю. Надо же, и откуда только у тебя такие познания? Тебе надо выступать по радио. Но, говоря об эфиопской литературе, ты не назвал главного.
– «Слава царей»1515
«Слава царей» («Кэбрэ нэгэст») – эфиопская книга XIV века, повествующая о происхождении Соломоновой династии.
[Закрыть]?
– Эскиндер Пушкин! Он, конечно, русский поэт, но и эфиопский тоже. Сегодня вечером ты узнаешь почему.
– Сегодня вечером, насколько я понял, мы приглашены к Зелалему.
– К какому еще Зелалему?
– К брату Уорку.
– Зелалем подождет, сходите к нему завтра. Ты иврит знаешь? Знаешь, что такое «бэт лехем»?
– Вифлеем?
– Бэт лехем! Это значит «дом хлеба». На иврите и на амхарском «бэт» – это дом. Сейчас мы пойдем в Бэт Георгыс, а вечером – в Бэт Эскиндер.
Что такое «бэт Эскиндер», было известно одному Айелу, а вот про Бэт Георгыс написано на первой странице любого путеводителя по Аддис-Абебе. Одна из главных достопримечательностей города. Восьмигранный собор Святого Георгия, купающийся в зелени пихт и акаций. В нем, как в пущенной по волнам бутылке, запечатано послание потомкам. Это послание – история итало-эфиопской войны, вернее, войн, начавшихся еще в XIX веке, когда с присоединением Папского государства к Сардинскому королевству Италия озаботилась проблемой колониальной экспансии. Проблема состояла в том, что основная часть темнокожего мира была уже порабощена другими носителями «бремени белого человека». Свободными оставались только княжества Африканского рога, многие из которых сплотил эфиопский Бисмарк, император Теодрос II. Туда и устремились итальянские завоеватели. Сперва были высланы научные экспедиции, чьи карты и отчеты предполагалось использовать впоследствии при продвижении военных отрядов. Затем настал черед дипломатии: в 1889 году был подписан Уччиалльский договор о вечной дружбе и сотрудничестве двух держав. Текст соглашения был составлен послом Италии, и, как позже выяснилось, амхарский вариант весьма отличался от итальянского. К примеру, в амхарской версии документа говорилось, что в вопросах внешней политики царь царей Эфиопии может прибегать к услугам правительства его величества короля Италии; в итальянской же версии глагол «может» был заменен на «согласен». К тому моменту, как переводческая «неточность» обнаружилась, итальянские войска уже продвигались через Эритрею. Обнаружилось и другое: император Менелик II, славившийся незаурядным умом и политической интуицией, тоже втайне собирал армию, готовясь к отражению возможной атаки даже в момент подписания Уччиальского договора. Знал он и то, что итальянская армия несравненно лучше вооружена и имеет численный перевес. Но на стороне Менелика была история. Дело в том, что за предыдущие две тысячи лет в эфиопских летописях было зафиксировано всего тридцать лет без войны. Все остальное время прошло в феодальной резне и битвах с мусульманскими соседями. Словом, жители Африканского рога имели возможность поднатореть в военном деле как никто другой. Так что беспрецедентное событие, произошедшее 27 октября 1895 года, в исторической перспективе кажется не таким уж удивительным. «Случилось то, что в Абиссинии убито и ранено несколько тысяч молодых людей и потрачено несколько миллионов денег, выжатых из голодного, нищенского народа. Случилось еще то, что итальянское правительство потерпело поражение и унижение», – писал Лев Толстой в обличительном обращении «К итальянцам». Речь шла о сражении при Адуа, о первом случае в истории человечества, когда темные туземцы разгромили европейскую армию.
Именно в память об Адуа и был возведен Бэт Георгыс, полностью спроектированный и построенный итальянскими военнопленными. И именно поэтому сорок лет спустя, в период фашистской оккупации, Муссолини приказал перво-наперво сжечь собор. Впрочем, из актов возмездия разрушение собора было самым безобидным. Так, например, после неудавшегося покушения на африканского наместника дуче, маршала Родольфо Грациани, итальянские войска получили приказ в течение трех дней истребить максимальное количество мирного населения Эфиопии. Для достижения наилучших результатов рекомендовалось использовать иприт. Операция была проведена блестяще: по некоторым оценкам, число убитых превысило триста тысяч. Примечателен и тот факт, что одним из наиболее ярых сторонников «актов возмездия» был глава католической церкви, папа Пий XII. По слухам, собор был сожжен с его благословения. В послевоенные годы Бэт Георгыс был отреставрирован по указу императора Хайле Селассие и украшен витражами знаменитого Афэуорка Тэкле. «Хоть я и не православный, но Бэт Георгыс почитаю святыней из святынь», – сообщил Айелу.
После Бэт Георгыса мы побывали в Национальном музее, где посетители имеют возможность познакомиться с первой жительницей Эфиопии, австралопитеком Люси, чей возраст археологи оценивают в 3,2 миллиона лет; на суматошном Меркато, самом крупном рынке на всем континенте; в городском зоопарке, где в клетках мечутся черногривые абиссинские львы, а смирившиеся с судьбой пеликаны невозмутимо спят стоя; в соборе Св. Троицы, где покоится прах последнего монарха, и еще в каких-то храмах. Программа и вправду была насыщенной.
В саду Национального музея стоял скромный памятник русскому поэту. Чугунный бюст, такой же, как и другие в этом саду. Он выглядел так, как будто стоял здесь всегда. Да и где же еще ему быть? Здесь, но не в смысле прародины, не «под небом Африки моей», а просто здесь, между шиповником и кигелией. Часть скульптурного парка, образец окончательной анонимности. Айелу дружески похлопал классика по плечу («А вот и наш Эскиндер!»), предложил сфотографировать нас вместе. На фотографии моя рожа получилась восторженно-бессмысленной, а пушкинский бюст – расплывчатым и почти неузнаваемым.
– Странно, – задумчиво произнес Айелу, – имя у него эфиопское, Эскиндер, а вот имя отца – совсем не наше.
– Вам известно даже его отчество? – удивился я.
– Ну конечно. Пушкин.
– Пушкин – это не отчество, а фамилия.
– Но все-таки его отца звали Пушкин. Откуда такое имя? Эфиопы так своих детей не называют.
– Он был эфиопом по материнской линии. И потом, фамилию «Пушкин» придумал не дед Эскиндера и не прадед.
– А кто же?
Действительно, кто? Я и забыл, что у эфиопов не бывает фамилий. Есть только имена и отчества. Если человека зовут Уорку Тэсфайе, значит отца его звали Тэсфайе. Часто имя для ребенка выбирается таким образом, чтобы сочетание имени и отчества составляло законченное предложение (например, имя-отчество известного драматурга Менгисту Лемма в переводе означает «Ты – государство, которое процветает»). Если же имя отца неизвестно, его заменяют чем-нибудь еще, каждый – на свое усмотрение. Вот почему Уорку сказал, что «отчество» Деми для эфиопского уха звучит странно. В переводе с амхарского оно означает «бабочка». Наверняка сама Деми и придумала. С другой стороны, почему странно? Ведь многие сочинители брали псевдонимы, – то ли чтобы провести границу между собой и своим писательским альтер-эго, то ли потому, что выдуманное – долговечней. Не только литература, но и вся история сплошь состоит из псевдонимов. Взять хотя бы тот же собор Св. Георгия, его попечителей и разрушителей: Хайле Селассие, Пий XII… Вымышленные имена. Кто помнит сейчас настоящее имя фашиствовавшего папы римского? «О, многие, – заверил меня Уорку, – его звали Эудженио Пачелли, у нас это имя помнят многие…» Эфиопия помнит ФИО Пия. Чем не строчка для кынэ?
Разговор о кынэ зашел у нас еще утром, когда наш экскурсовод доказывал мне, что Эфиопия – родина поэзии вообще и русской поэзии в частности. Чтобы разъяснить специфику кынэ Прашанту, Айелу продекламировал известный английский каламбур – четверостишие с использованием топонима Тимбукту (Timbuktu): «When Tim and I to Brisbane went, / We met three women, cheap to rent. / As they were cheap and pretty too, / I booked one and Tim booked two».
Но это был пример из языка ширпотреба; настоящее кынэ – нечто совсем иное. Стихотворная форма, возникшая много веков назад, во время правления шоанского императора Эскиндера (вот она, магия имени), и до сих пор считающаяся чуть ли не высшим достижением эфиопской литературы. В кынэ присутствуют жесткая метрическая структура, многочисленные аллюзии и тропы. В основном это стихи религиозного или философского содержания; их главный принцип – двусмысленность, которая в местной поэтической традиции называется «сэмынна уорк» («воск и золото»). Дополнительный смысл часто вкладывается с помощью пантограммы, то есть фразы, смысл которой зависит от расположения словоразделов. В европейской поэтике пантограмма – введение сравнительно недавнее и малоприменимое. Из русских стихов последнего времени можно вспомнить опыты Дмитрия Авалиани («Не бомжи вы / Небом живы», «Пойду, шаман, долиною / Пой, душа, мандолиною»), словесную эквилибристику Льва Лосева или скрытую цитату из пушкинского «Лукоморья» в названии книги Владимира Гандельсмана «Там на Неве дом». Нет никаких оснований полагать, что пантограммы пришли в европейскую поэзию из Эфиопии, да и вряд ли эфиопы были первыми, кто использовал этот комбинаторный прием. Точно так же скандинавских скальдов вряд ли можно считать изобретателями кеннинга («корабль пустыни» перевозил кочевников через Сахару задолго до Старшей Эдды), но только в скандинавской поэзии этот вид метафоры был возведен в принцип.