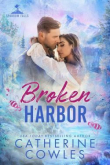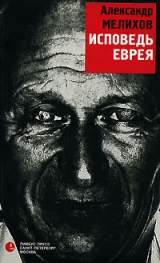
Текст книги "Во имя четыреста первого, или Исповедь еврея"
Автор книги: Александр Мелихов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Поднять скандал, дать в морду – расписаться в получении оплеухи: лучше уж поспешно, как чирей – и с тем же успехом! – выдавить "еврея" из памяти. Но потом я долго (по нынешений день) припоминал, сколько раз я что-нибудь находил и возвращал – с полчемодана бы набралось. В еще дочеловеческом облике я вернул механизм от часов: пацаны, задумчиво облокотясь, высматривали его в свином загончике, а он – блестященький, красивенький – полеживал у них под ногами: в оградке была такая косая щель из-за горбыля. Уж как меня Гришка потом ругал!
Но когда я попробовал быть поумней – в Универмаге у мужика двадсончик, позванивая, укатился в неведомые (только не для меня) края, и я, выждав, рассеянно поднял его, и – желудок стиснуло таким спазмом, – чуть не вырвало, – что я кинулся за хозяином. Да вот и совсем недавно я нашел в телефонной будке дамскую сумочку с такой пачкой четвертных – страшно было в руки взять. Я по записной книжке (дочка в изумлении следила, неужели я доведу эту воспитательную процедуру до конца) вызвонил подругу хозяйки – так меня встречали чуть ли не фанфарами, соседи, сияя, выглядывали из дверей: "В наше время и такой честный человек!" – всем кажется, что они живут в какое-то особенное время. Муж сумочкиной хозяйки офицер, прибыл с Севера для прохождения отпуска – улыбался, входя во владение жениной сумочкой, не без блудливости: предвкушал, с каким козырем в руках встретит свою раззяву... Да! Еще я совсем забыл про два японских зонтика на скамейке, где я... Но вы, я думаю, и так постигли величие моей души. И вот мне-то... Ладно, закончим.
Наше кладбище – это был грандиозный и страшный Город Мертвых на краю света: сваренные из стальных полос кресты, идейно выдержанные сварные же пирамидки с красными звездочками (растиражированные звезды Кремля), крашеные оградки, похожие на спинки железных коек, и – несколько литых оград с факелами по углам, подавляющих красотой и величием. Это были усыпальницы великих людей – Начальника Треста, Директора Шахты... Такие имена – Нечипоренко! Сапогов!
Через двадцать лет я добрался до этого пятачка за пяток минут: повалившиеся, распавшиеся на заржавелые тяжеленные линейки кресты, облупленные скворечники пирамидок с ржавыми, как бы окровавленными шестереночными зубьями звездочек и – Боже, до чего убогая, провинциальная фантазия осыпающихся слоями ржавчины усыпальниц, эти завитушки пламени на факелах, похожих на розочки уличного мягкого мороженого. Вдобавок, все они были совершенно одинаковые – модельщик в литейке Мехзавода, видать, хранил формочку от одной исторической даты до другой, от Нечипоренко до Сапогова, от Сапогова до Гольдина. Не позволяйте взгляду чужаков касаться ваших святынь!
Я разыскал обратившиеся в ничтожество пирамидки Вирьясова, Володина и до того сделалось горько, что среди них не было пирамидки Якова Абрамовича – пусть бы уж он погружался в вечность вместе с той Вселенной, где он был Учителем, а не заурядным, никому не ведомым евреем.
Пирамидки Жарова я тоже не нашел. Неужто его бросили без погребения? В могиле за моей спиной кто-то заворочался, загремел листовым железом. Я похолодел и не вмиг решился обернуться. Это была коза – заурядная наружность дьявола из семинаристов.
Могилки кто-то все же посещал: едва ли не из-под каждой мне казала кукиш свернувшаяся фигой кучка кала. Иные фиги были совсем свежие. Когда я овладевал гармошкой, гармонист дядя Паша от щедрот своих обучил меня еще и такой частушке:
Моя милка, как бутылка,
На могилки ходит ср...
А покойник отвечает:
"Уходи, ... мать".
Мне покойники ничего не ответили. Да и что мне было им сказать? Оставить еще одну фигу, как дядипашина милка?
Обратный путь я проделал еще быстрее, страшась оглянуться и чувствуя, что сзади все натягивается и натягивается какая-то... я не мог понять, что.
Один матрос (самые отчаянные головы) поспорил, что в двенадцать часов ночи вобьет гвоздь в могильный крест. Вбил, повернулся уходить, а его сзади кто-то как рванет за шинель, – он упал и, естественно, умер от разрыва сердца. Утром смотрят – лежит мертвый матрос, а пола шинели прибита к кресту.
Теперь я понял, в каком месте вбит гвоздь, прихвативший меня к этой земле такой бесконечно растяжимой и не разрываемой – чем же? Резинкой от моей рогатки или подтяжками, которых я не ношу?
Раз поспорили русский и американец, чья резина крепче. Американец говорит: у нас человек упал с сотого этажа, зацепился подтяжками на пятидесятом, они растянулись до земли и забросили его обратно на сотый. А русский отвечает: у нас человек упал с сотого этажа, сам разбился, а галоши целые остались.
Невидимая резина, которую я тяну всю жизнь, выматывая из своей души, как шелковичный червь, будет почище американской, когда-нибудь она внезапно забросит меня из Французской Ривьеры или Тивериадского озера в мой незабвенный, безвозвратно утонувший, загаженный Эдем – я чувствую, как она с каждым днем натягивается все сильнее...
Мне кажется, так называемая массовая культура рождена страхом перед бесконечным разнообразием мира, тягой вернуться в утраченный рай, в мир простоты и обозримости, где Зло так Зло, а Добро так Добро, Красота так Красота, а Победа так Победа, – где ничто не вызывает сомнений и все воплощается в единственном экземпляре: Самый Лучший Поэт, Самый Великий Ученый, Самая Красивая Женщина. Но пока рядом с вами живет хоть один чужак-соглядатай, канувшему раю не подняться со дна: дорогие призраки тают под холодным, скептическим оком.
Безостановочно, как пескоразбрасывательная машина, швыряться камнями, готовя себя к бабкам, отбивать зад на велосипеде, готовя себя к велику в начале всегда было слово. Слово рождало мечту, мечта рождала усердие, которое, как известно, все превозмогает: я обратился в велокентавра (гонял без рук, без ног, без глаз) – но я во всем выкладывался лишь до тех пор, пока не становился уважаемым, но не первым человеком: ведь первенство – это опять одиночество.
Как-то я влетел передним колесом в яму от бывшего столба. Собираю себя из частей, а на пороге совершенно неподвижно стоит и смотрит девочка-татарка. "У, татарка", – сказал я ей, а она, не шелохнувшись и ни секунды не промедлив, возразила: "Русский – глаза узки". Я потом долго размышлял: ведь это наоборот у нее глаза узки – почему же она говорит, что у меня? Наверно, из-за того, что я не разглядел яму.
У нас не было никакой национальной дискриминации – просто говорили: здесь живут Барановы, а там татары. Да еще ругались национальностями: казахов называли казаками, а обзывали киргизами – смертельнейшее оскорбление, хуже калбита (это "вшивый", что ли, – я не интересовался).
Такая история раз вышла: работали вместе китаец и казах, китаец сбрасывал сверху бревна, а казах оттаскивал. Китаец кричит (обхохочешься!): "Быргыс!" (берегись), а казаху слышится: "кыргыз!" Он психанул и орет: "Китай!" (тоже ругательство). Китаец слышит: "Кидай!" – бросил и зашиб до смерти.
Но гармошка – нет, кажется, это все-таки было по-настоящему мое. Я сросся с ней, когда еще не знал, что это престижно, – это меня и сгубило.
Еще в нечеловеческом статусе меня ослепляла неунывающая и нержавеющая улыбка дураковатого, а тогда блистательного дяди Паши, и оглушала змеившаяся в его руках гармошка, раскинувшаяся, как море, широко. Хотя дядя Паша чаще заводил "Раскинулись ляжки у Машки", – все-таки именно море, раскинувшееся широко, как гармошка, слилось для меня – "раззудись плечо" – с жестом безоглядной российской распахнутости. Другой производитель музыки, солидный Шура, – не толстый, не жирный, а именно полный, только не знаю чем, – вызывал больше почтительности, чем восхищения, что гибельно для искусства. Я уже по его граненым брюкам предчувствовал, что это не нашего поля ягодица, и меха он раскрывал и скрывал обратно без распаха, зовущего к объятию, и на завалинку-то садился излишне опрятно, подстелив газету, – не наша, залетная птица в халупе почернелой одноглазой Маруси, готовящаяся по окончании техникума сняться и лететь в более теплые края. Даже гармошка его звалась "баян" – примерно с такой же деланной скромностью сейчас для меня звучит слово "гармония", хотя гармонией, строго говоря, была именно гармошка.
Шура степенно разводил меха, раскрывая целый гардероб граненых брючек, сверху и снизу защипнутых блестящими чемоданными уголками, и заводил баском (у нас ценились именно баски): "Снова замерло все до рассвета..." Мы замирали в отдалении.
Я от всякой музыки вытягивался, как висельник, и впадал в забытье не хуже кобры перед дудочкой факира, – Гришка же заводился вполне по-деловому, по-еврейски (он был страшно заводной, пока не сделался отщепенцем, постоянно напоминающим себе, что кипятиться вредно – снова останешься в дураках, – да и не из-за чего), – и в нашем доме тоже появилась гармошка: ради духовных ценностей папа Яков Абрамович не щадил ни денег, ни трудов. Гармошку прислал нам Посылторг, пахнущую яблоками (то есть почтовым ящиком) и черную, словно маленькое пианино. Выпуклые кнопки поблескивали, как чрезвычайно спелые арбузные семечки.
Это потом, когда я стал человеком и главной моей заботой сделалась забота о престиже, мне уже не нравилось, что звук у нее не мявкающий, как у дяди-пашиной, а многоголосый и одинокий, словно гудок электровоза, который я однажды слышал на станции и который своей благородной печалью среди истошных паровозов вверг меня в слезы. А тогда я нажимал на кнопку, похожую на макушку негритенка, самого траурного из траурных рядов, долго вслушивался, прижавшись ухом к полированной черной груди, и отрывался от мучительного наслаждения, только когда снова закипали слезы.
Поскольку целые тучи эдемского народа там-сям учились тому-сему всему гармоничному, – очень скоро Гришка с непривычной покорностью следил, каких макушек (ведущих прямо к струнам души) касается надменный маэстро, умеющий исполнять без басов первую строчку песни "Горят костры далекие". И вот уже сам Гришка вытягивает шею над черными макушками, робко тычет пальцем, и в муках, по изувеченным частям, рождается мелодия – что-то в таком роде, если передавать литературными средствами: го...рят... кост...ро – "Ззарразза!.." Гы... рят... – "Черт бы!..." Гу... рют... – "Блин, блин, блин!!!" Го... рят... куст... ры...
Но строчку "Луна в реке купается", начиная с "пается", нужно было продолжить уже самому.
Луна в реке купи...
Луна в реке купо...
Луна в реке купы...
Луна в реке купррр...
Я едва успел подхватить инструмент, неподъемный, как сундук. Гармошка перешла ко мне, как нервная девушка из хорошей семьи, истерзанная и брошенная лихим гусаром, достается робкому, мечтательному письмоводителю, располагающему только любовью и терпением.
Мне еще не хватало шеи – приходилось косить на кнопки сбоку, будто из-за угла: луна в реке купббб... луна в реке куке... луна в реке купа... Ура! Купа, купа, купа, купа!
Неистово жиреющий кабан рычал за жердями, а у меня, в одном с ним сарае, луна в реке все купается, и купается, и купается. На земляном полу уже давно светится какое-то удивительное пятнышко – я не выдерживаю и, выпутавшись из ремней, подбитых алым, как галоша, накрываю пятнышко сандаликом. А оно – юрк! – уже сидит на сандалике. Я нацелился как на муху – р-раз! А оно опять преспокойненько сидит сверху. Я нагреб навоза, сухого, словно махра, и натрусил на него – а оно на навозе. Я, надрываясь, приволок деревянное корыто – оно на корыте, только чуточку перекосилось. Лишь тут по какому-то наитию я поднял голову и связал дырочку в крыше со светлым пятнышком на земле. Вот так и приходят к Богу...
Но для меня дырочка осталась просто дырочкой, без божества. Вот что касается женщин – там я сумел остаться мистиком: я не умею изменять жене с порядочными женщинами. Да и с непорядочными – только в какой-то разудалой компании, хотя бы воображаемой: когда я исполняю роль, нужную другим, когда я – не я.
А луна все купается и купается, а парень с милой девушкой все прощается и прощается. Глаза у парня ясные – "Как у барана красные", – допел Гришка, просунув в дверь кудлатую, именно что как у барана... нет, барбоса, башку, но я лишь сомнамбулически взглянул на него и снова погрузился в мир расчлененной музыки.
И Гришка притих, скромненько приблизился и присел на корточки (дикие звери, внимающие Орфею). Впоследствии Гришка с гордостью составлял список моих песен, – нам надоело припоминать только где-то в конце восьмого десятка.
Любую песню я ухватывал с первого прослушивания и, после одной-двух поправок, играл уже без промаха. Даже если я напевал про себя, пальцы сами собой нажимали на воображаемые кнопки: они срослись со мной, а через меня и басы срослись с голосами, хотя сначала все хотели самостоятельности, особенно басы – они больше нуждались в суверенитете, оттого что были примитивнее: "тум-ба-па, тум-ба-па" – это для вальсов, и "ту-ба, ту-ба, ту-ба, ту-ба" – для частушек: "Эх, Подгорна, ты Подгорна, широкая улица".
Мною уже вовсю восхищались взрослые – за то, что я такой маленький. Дедушка Ковальчук, тоже любуясь мною, подпевал: "Как у нашего гармониста чрез гармонь сопля повисла".
– Другие играют пальцами, а он душой! – восклицала Едвига (так мне слышалось) Францевна. Ее подбородок, слегка волнуясь, струился за воротничок... нет, "блузка" – это у мамы, а для одеяний Едвиги Францевны эдемский язык не имел названий: все, что соприкасалось с ней, обращалось в не наше. Рост? – и это было слишком мелко, чтобы создать ее величие, рожденное... Чем же? Ощущением нездешности? Декламацией? Тем, что она не касалась спинки стула, гораздо менее распрямленной, чем ее спина?
"Я видел березку – сломилась она", – надрывал я душу рыданием гармони. Этому надрыву, от трагического восторга покрываясь гусиной кожей, я выучился у безногого нищего, на несколько дней возникшего со своей гармошкой на цементных ступенях гастронома. Я каждый день выпрашивал двадсончик и бежал к нему (удаляться от младенческого микроэдема для меня в ту пору еще было труднее, чем крысе пересечь открытое пространство), чтобы счастливо звякнуть своим подарочком о горсточку других добрых дел ("Хпахибо, хынок, дай Бог тебе хдоровья", – страшно хрипел мой гаммельнский крысолов), а затем отдаться, как вода полосам ряби, порывам гусиной кожи, норовившей забраться в самые неприличные закутки, и, вместе с тем, как с подступающим наводнением, борясь со слезами, готовыми хлынуть – если заткнуть глаза – даже из ушей.
"Его повели, расстреляли на старый кладбищенский двор. И там над сырою могилой рыдает отец-прокурор", – не заурядная жалость – Красота стискивала мое горло и охватывала шкуру восторженным холодом. Рыдания удерживались в моей груди только вполне земными ежеминутными встрясками: то и дело находились люди, способные не бросить Орфею хоть медяк. "Не дай Бог вам так полхгать", – раздирающе хрипя, отпускал им вину музыкант, и я из кожи выпрастывался, стараясь показать, что мне мучительно стыдно за моих соотечественников.
Едвига Францевна и не подозревала, из какого сора вырастали мои гармонические рыдания. Я кидался к каждому гудящему столбу с хрипящим репродуктором, чтобы ухватить хоть одно словцо из потрясающих, как падение с крыши на спину, грандиозных музыкальных творений – "Амурские волны" (как наполненно звучит!), "Дунайские волны"...
Я доискивался "слов" у всех подряд, – зато "Березка" досталась мне в виде дара. Загорелый босявка с ободранными коленками, я был музыкант – и Едвига Францевна элегически делилась со мной воспоминаниями о каком-то канувшем мире, которому, хотя в нем тоже звучала "Березка", не могло найтись места в "реальной действительности": его, как дядю Зяму, держали на дне такие ненашенские слова, как "веранда", "влюблен", "гимназист", "бокал", "лимонад". Кто бы мог подумать, что лимонад был чем-то сродни нашей фруктовке, красной, как столовский борщ, шибающей в нос уксусом так, что слезы прыскали, как у клоуна. Зато когда допиваешь ее – горяченькую, обезгаженную – из недопитых раскаленных солнцем бутылок, натыканных в клетушки горячих ящиков за киоском, – она уже смирная, кисло-сладкая, как еврейский соус в доме деда Аврума. В том мире даже слово "инженер" означало совсем не то, что у нас на Мехзаводе, – там оно сопрягалось с "устрицами" и "лимонным соком". Яблоки у нас на базаре продавались штуками, а чтобы увидеть лимон, мне пришлось поехать в Москву.
Меня всегда удивляло, как это дворяне – всякие графы и князья – не считали западло ходить по улице, когда рядом шныряют какие-то чумазые разносчики и лошади роняют свои конские яблоки. Но когда я вспоминаю фигуру Едвиги Францевны, удаляющуюся в перспективе жердей и плетней, над голозадыми пыльными пацанятами и степенными курами, чопорно роняющими плевочки помета, – я сразу понимаю: в Эдеме ни в чем не бывает ничего зазорного – только положенное.
Меня, как и папу Якова Абрамовича, больше всего любили женщины. Хоть они и хохотали от умиления, когда я пел про любовь – "Встретишь вечерочком милую в садочке – сразу жизнь становится иной". Но кое-кто иной раз смахивал и непрошеную слезу. И подпевали всерьез – не то что пацаны: "Выйди на крылечко ты, мое сердечко, я тебя огрею кирпичом". Да и взрослые парни в самый трогательный миг ("Руку жала, провожала") могли вдруг заорать:"Руку стиснула, чемодан свистнула, убежа-ала, убежа-ала!" (а то и: "Руку жала, хер держала"). Или исполнить с плаксивой задушевностью: "Все ждала и верила, милому скажу. А пошла, проверила – с триппером хожу" (впрочем, это было позднее).
На меня обратилась вся женская любовь, предназначенная Дунаевскому, Мокроусову, Фрадкину и Соловьеву-Седому. Но меня самого творения этих человеческих, слишком человеческих гениев трогали гусиной кожей лишь в отдельных местах. Меня влекло к более величественным шедеврам, от которых вся шерсть вплоть до ладоней и подошв вставала дыбом.
Наш облезло-полированный гроб (я имею в виду приемник) передавал только треск, писк и завывания – именно их почему-то обожал слушать папа. Мне понадобилась огромная политическая зрелость, чтобы додуть, что этот отщепенец пытался получить инструкции от своих заокеанских хозяев, угнездившихся на острове Окинава – это имя, поспешно гасимое, иногда ухватывал и мой неискушенный слух. Поэтому я пасся вокруг хрипатых и гундосых уличных репродукторов, пытаясь, как кот в пузырек с валерьянкой, с головой втереться в вибрирующий от ветра столб.
Подобно археологу или палеонтологу, я восстанавливал из черепков и раздробленных косточек те великие песни, от одной капли которых на ведро хрипа и треска я занимался гусиной кожей от макушки до ногтей. Оставшись дома один или забравшись в сарай к кабану, такому же неистовому, как я, я распевал их, эти песни богов и титанов, срывающимся от жертвенного восторга голоском: голос – ерунда, любой сколько-нибудь намекающий знак немедленно рождал в моих ушах целый симфонический оркестр.
Но – искусство должно принадлежать народу. Мне становились все теснее и теснее мои одинокие восторги... И вот, наконец меня, будто большого, пригласили с гармошкой на гулянку. Встретили умильным ревом. Хохочущие добродушные рожи, багровые, как взрытые в мисках винегреты. "Скажи: кукуруза", – дружелюбно выкрикнул кто-то. "Кочаны", – в детстве отвечал папа Яков Абрамович, но я не хотел хитрить. "Кукугуза", – для поддержки дружелюбия ответил я: я уже знал, что такой ответ почему-то приводит людей в прекрасное расположение духа – и не ошибся. После громового хохота мной уже не умилялись, а сердечно любили. Усадили едва ли не на трон, но из-за гармошки выглядывала почти что одна моя златокудрая макушка, как завершающая, русская из русских, звуковая кнопка. Я задохнулся от восторга и любви к единоверцам, готовясь надуть их своей страстью. Даже срывающийся голос сумел врубить мой внутренний оркестр:
Слушай, рабочий!
Война началася!
Бросай свое дело!
В поход собирайся!
Рабочий слушал мои задыхающиеся выкрики в полном безмолвии: "И как! Один умрем! В борьбе! За это!" Не убавляя напора, на плечах бегущих прочь земных шуточек и страстишек я завладевал все новыми и новыми пространствами открывшихся мне душ: в бой роковой мы вступили с врагами – вперед заре навстречу, по долинам и по взгорьям, – и к нам не смела приблизиться паясничающая скверна: "Смело мы в бой пойдем за суп с картошкой. И всех врагов побьем столовой ложкой" или "По долинам и по взгорьям шла коза, задравши хвост. И на Тихом океане на козу напал понос".
Нет, прочь, гнусные призраки – шел отряд по берегу, а вышел к Херсону, в живых я остался один, под солнцем горячим, под ночью слепою ты мне что-нибудь, родная, на прощанье пожелай...
Санитары со смирительной рубашкой действовали с удивительной деликатностью, я и не заметил, когда и откуда привели дядю Пашу – его сочувственная выщербленная улыбка заслонила мир совсем неожиданно: "Дай-кось, я спробую". И развернулся с ррусссской удалью: "Степногорские вы дефти, куда, дефти, вас девать? Скоро лошади подохнуть – будем девок запрягать". И облегченный вздох, как порыв весеннего ветра, прозвенел стаканами, затрепетал холодцами... А тут уже заюлила, заподмигивала барыня, барыня, сударыня-барыня и обрушившийся топот с подвизгом окончательно указал мне мое место – за дверью.
Но я, выходцем с того света (мира чужих), еще долго цепенел рядом с дядей Пашей, стараясь показать, что я завсегда душой с народом, вот и гармошка моя, сами видите, не против – вон как разливается, – но душевная боль была уже вполне зрелой. Боль одиночества – никем не разделенной любви.
Дома, все еще охватываясь гусиной кожей, я не оставил вдохновенных распеваний: "На них чудовища стальные ползли, качаясь, сорок штук. Мы защитим страну родную, сказал гвардейцам политрук". Чудовища стальные это (хоть я и не знал таких слов) потрясало именно поэтической силой образа. Надо же так найти: "чудовища стальные!" Да еще "качаясь" – зримо до ужаса. Рифма "стальные" – "родную" не удивляла. Гришка как-то возмущался, что в "Пионерской правде" рифмуют "просто" и "из-под моста", а сосед Лешка Самсонов – авторитетный человек, комсомолец, билет показывал, прикрывши номер: это секрет, а то выгонят на хер из комсомола – так вот, Лешка разъяснил, что стихотворение, наверно, революционное. Да не революционное, выходил из себя Гришка, а грузовик упал с моста. Ты не понимаешь, со значением останавливал его Лешка, раз "просто" – "из-под моста" – значит революционное. Это из обрезанного Маяковского он вынес или сам додумался? Наш Эдем ведь был полон намеков и политических предзнаменований. Я, например, был уверен, что у шпионов в документах буква "гэ" пишется вверх ногами – латинское "эль" из папиных иностранных книжек.
Ни одного мига я не мечтал о победе, о торжестве – только о прекрасной гибели, о гордых пытках: только падал, как подкошенный, раскинув руки, только выкрикивал презрительные слова в лицо своим палачам. Но выносить святыни большого Эдема в отторгнувший их малый Эдем я уже не решался. Одинокая гармонь, сирень-черемуха в саду, калина в поле у ручья это, конечно, осталось для общего употребления. Но – женская любовь не может заменить Родину. Я начал подменять страсть кокетливой техникой, разрушая мелодию финтифлюшистыми проигрышами и проигрывая в мнении слушательниц. И когда – правда, уже после смерти Хозяина, – в наш Эдем стали проникать чуждые фокстроты и танго, я уже сознательно капризничал, повторяя искренние дядипашины слова: "Не знаю я ваших танков". Хотя, позволив себя уговорить, я халтурил на уличных танцульках ровно настолько, чтобы видели, что я могу играть в десять раз лучше.
В ту пору я был одержим еще более возвышенной, а потому еще более отщепенческой мечтой. Мама пришла со смотра худсамодеятельности (Клуб) просветленная и успокоенная и мечтательно (не я ли ей представился?) произнесла: "Сегодня Валик Синицкий (сын Начальника Треста – скромник и отличник) исполнял полонесс (так я услышал) Огинского..." И мне до того захотелось!..
Да, чтобы и про меня кто-нибудь тоже такое сказал – этого, конечно, тоже. Но главное – до ужаса захотелось тех небесных наслаждений, которые обещал таинственный полонесс. Так, вероятно, задыхается и стискивает себя в объятиях девственная институтка, поглощая неистовый любовный роман, в котором наиболее подробным описанием неземных наслаждений оказывается что-то вроде "комната закружилась" или "мир исчез".
Я кидался на все неземные звуки – но как угадать, который из них полонесс? Я восстановил из хрипа и дребезга "Танец маленьких лебедей", оба концерта для ф-но с оркестром – Грига и Чайковского, "Вальс-фантазию" Глинки и его увертюру к "Руслану и Людмиле", "Турецкий марш", "К Элизе" и довольно много других мнимых полонессов.
На гармошке не хватало полутонов – я заменял их фальшивоватыми аккордами, не хватало диапазона – я, с налету натыкаясь на лакированную деревяшку, бросался октавой выше или ниже – словом, из кожи... верней, наоборот, влезал в себя поглубже, чтобы поменьше слышать реальные звуки, а побольше – воспоминание о них! Тем не менее, вся культурная часть родительских знакомых наперебой восторгалась мною и требовала учить меня всерьез.
Наконец папа Яков Абрамович, обожающий всяческую духовность, захватил меня с собой в Акмолинск на экспертизу. Настораживающе вежливая женщина, чем-то (не внешностью) напоминающая Едвигу Францевну, заставляла меня повторять какие-то распевы и вычурные, похожие на чечетку, прихлопы ладошками. Пока она разговаривала с папой, в котором вдруг тоже ощутилось что-то чуждое, соучастническое – только лет через двадцать до меня дошло, что она тоже была еврейка: у нас же в Эдеме, не считая нас с папой и заоблачного Гольдина, ихнего брата не водилось, я подобрался к раскрытому роялю и начал потихоньку потрогивать рояльные хрустальные звуки.
Я быстро нащупал сходство (до-ре-ми-фа-соль-ля-си, хлеба нету – ... соси, как учили меня мои наставники) между американскими, в ниточку выравненными сверкающими зубами рояля и негритянскими, уже в белесых лишаях, макушечками моей гармошечки – и уже через две-три минуты практически без ошибок выбренькивал одним пальцем "Горят костры далекие", "Ой, дивчина, шумить гай", "Вихри враждебные веют над нами", а потом, впадая в транс, – "Танец маленьких лебедей", "Марш Черномора", "Песню Сольвейг" от хрустальных звуков гусиная кожа прокатывалась по мне морским прибоем.
Экзаменаторша принялась наигрывать мне невероятно прекрасные куски чего-то (может, это и есть полонесс, каждый раз замирало мое сердце), я, как сомнамбула, безошибочно повторял. Настораживающие (не наши) слова: "удивительно", "обязательно" и даже "было бы непростительно" – до меня доходили плохо: я не мог оторваться от рояля, как уже упоминавшийся кот от озера с валерьянкой. Ты хочешь учиться музыке, спрашивали меня, и я кивал, понимая одно: полонесс будет мой.
И однажды – мы жили уже возле Столовой, в доме для чистой публики (евреи рано или поздно в нее пролезут), спровадив русских деда-бабу вслед за Троцким в Алмату, – к нашему дому подъехал газон, в кузове которого, как на возу, рядом с ящиком величиной с поваленный ларек сидела мама, от холодного ветра умотанная в шаль, словно в скафандр. Как этот ящичище сгрузили, не помню скорее всего именно потому, что впоследствии это казалось невозможным. Комната отражалась в "Красном Октябре" (надпись пыльным золотом) глянцево-черной и таинственной (одновременно лакировка и очернительство), но задняя непарадная стенка еще хранила исконный красный цвет Октября: сочетание наружного черного глянца и алой изнанки, присущее галоше, было выдержано и здесь.
Что-то меня тянуло время от времени заглядывать за заднюю стенку, каждый раз вспоминая загадку, которую у нас на пионерском часе задал Петров – по легкомысленному предложению самой же пионервожатой: "Сверху черно, внутри красно – как засунешь, так прекрасно". "Так галоша же это, галоша!" – упорствовал он в грехе, когда его стыдили.
Впрочем, основной жар обрушился на Буселку (Буслову) – "Ведь ты же девочка!" – задавшую еще более простодушную загадку: "Кругом волоса, а посередке колбаса" – ответ: "Кукуруза".
Загадке солидного, хозяйственного Соколова на этом фоне вообще не уделили внимания: он как истый эдемчанин не видел ничего неприличного в своем иносказательном изображении самовара: "Стоит дед на мосту – кричит: всех обо..." – последние буквы я опускаю в качестве неисправимого (непоправимого) чужака.
Так вот, на задней стенке были закреплены две огромные руки, то бишь рукоятки (сгодились бы для великанского напильника) – странные, как если бы крепились к паровозу либо дому – предметам явно неподъемным: помню ощущение каменной неподатливости, когда я пытался двинуть пианино то за одну, то за другую рукоятку.
Я уже вовсю разыгрывал, теперь без искажений, весь свой репертуар, приладив к нему и левую руку с ее "тум-ба-па, тум-ба-па" и "ту-ба, ту-ба, ту-ба", – когда появилась Луиза Карловна, робкая немка, не до конца разделившая участь своего народа: ее придержали в столице нашего Енбекшильдерского (она никак не могла выговорить) р-на обучать детей начальства музыкальным азам. По недоразвитой завивке, плечистому женскому пиджаку вместо ватника, ботам вместо сапог она относилась тоже к культурной публике, и даже кое в чем нездешней, отдаленно веяло Едвигой Францевной – даже имена перекликались; слова "окончила консерваторию" тоже звучали не по-нашенски.
Луиза Карловна, как и все, начала с привычных (но не приевшихся) восторгов насчет моих дарований, однако очень скоро ремесло поставила подножием искусству. Причем, укладывая этот фундамент, запрещалось поднимать голову, воображая будущий храм и уклоняясь, таким образом, от текущих обязанностей.
Все мои попытки хоть чем-нибудь дотянуться до настоящей музыки Луиза Карловна воспринимала как претензии рядового скакнуть прямо в полковники. А когда я перестал скрывать, что отношусь без благоговения к искусству скрючивать пальцы, как ведьмины когти, приговаривая "и раз-два-три", – мои мечты о полонессах начали представляться ей прямо каким-то развратом, словно я в пятом классе пытался начать регулярную половую жизнь.
Но я не сделался ремесленник, перстам придав послушную сухую беглость, – они и так бегали будь здоров, перепрыгивая через соседей, что было запрещено до нервных вскрикиваний. А я ведь еще норовил нажимать подушечками, как на гармошке, хотя Луиза Карловна, едва сдерживая свое немецкое "пфуй!", не велела даже прикасаться к этому вульгарному инструменту. Но я только на нем и отводил душу – часа по два после каждого занятия. Сама-то она!... Как ни крючила по-ведьмински пальцы с торчащими костлявыми косточками – постылые этюды и гаммы съедобней не становились. До-ре-ми-фа-соль-ля-си, хлеба нет – этюд соси...