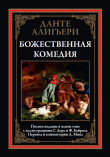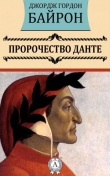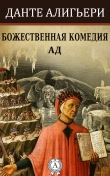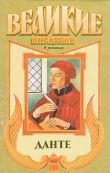Текст книги "Данте Алигьери"
Автор книги: Александр Доброхотов
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 12 страниц)
Глава VI. Вознесение к истине
 обытия в Земном Раю подготовили Данте к путешествию на небо. Теперь он может превратиться из личинки в «ангельскую бабочку». В полдень Беатриче устремляет взгляд на солнце. Для Данте это невозможно, он смотрит на отражение солнца в глазах Беатриче и таким образом возносится вместе с ней на первое небо, попадая в сферу Луны. Этот необычный способ путешествия полон смысла. Взгляд возлюбленной открывает целый мир, но любимая Данте – это Небесная Мудрость, и в мире, где она обитает, царят разум, красота и добро. Главная физическая субстанция этого мира – свет. Свет и его превращенные формы играют основную роль в метафорическом строе третьей кантики (см.: 78. 87). Созерцание света сообщает энергию движения Данте и Беатриче, из света сформированы души Рая, свет движет круги звезд и планет. Но свет – это еще и метафора знания, полученного через созерцание предмета. Развитие познания происходит в «Рае» не только потому, что на каждом новом уровне Беатриче сообщает Данте то, что он уже способен воспринять, но и благодаря слиянию странника с тем светилом, которого он достигает. Таким образом, каждая ступень восхождения соответствует ступени видения истины.
обытия в Земном Раю подготовили Данте к путешествию на небо. Теперь он может превратиться из личинки в «ангельскую бабочку». В полдень Беатриче устремляет взгляд на солнце. Для Данте это невозможно, он смотрит на отражение солнца в глазах Беатриче и таким образом возносится вместе с ней на первое небо, попадая в сферу Луны. Этот необычный способ путешествия полон смысла. Взгляд возлюбленной открывает целый мир, но любимая Данте – это Небесная Мудрость, и в мире, где она обитает, царят разум, красота и добро. Главная физическая субстанция этого мира – свет. Свет и его превращенные формы играют основную роль в метафорическом строе третьей кантики (см.: 78. 87). Созерцание света сообщает энергию движения Данте и Беатриче, из света сформированы души Рая, свет движет круги звезд и планет. Но свет – это еще и метафора знания, полученного через созерцание предмета. Развитие познания происходит в «Рае» не только потому, что на каждом новом уровне Беатриче сообщает Данте то, что он уже способен воспринять, но и благодаря слиянию странника с тем светилом, которого он достигает. Таким образом, каждая ступень восхождения соответствует ступени видения истины.
Данте, несомненно, многое почерпнул в неоплатонических течениях средневековой философии. В частности, метафизика света, развитая в «Ареопагитиках», у аббата Сугерия, в шартрской и сен-викторской школах, у Гроссетеста и Бонавентуры, безусловно, была ему известна. Конечно, Данте хорошо знал римских неоплатоников Макробия и Сервия, комментировавших Вергилия. Неоплатонические источники, устанавливавшие соответствие между звездным небом и миром идей, подсказали Данте способ совмещения пространственного пути героя и внутреннего движения его души и духа.
Взлетая, Данте и Беатриче пересекают сферу огня, окружающую Землю. В этот момент герой ощущает, что изменяется все его естество, это – «пречеловеченье» (trasumanar – I 70), преображение человека, которое предсказывали некоторые отцы церкви. Данте не уверен, был ли он только душой или чем-то еще, – ему дано было не знание, а только переживание этого явления. Терцина 73–76 звучит как цитата из апостола Павла, рассказывающего о том, как он был «восхищен до третьего неба» (2 Коринф. 12, 2). Данте удивлен легкостью вознесения, и Беатриче дает ему пояснение:
…Всё в мире неизменный
Связует строй; своим обличьем он
Подобье бога придает вселенной.
Для высших тварей в нем отображен
След вечной Силы, крайней той вершины,
Которой служит сказанный закон.
И этот строй объемлет, всеединый,
Все естества, что по своим судьбам —
Вблизи или вдали от их причины.
Они плывут к различным берегам
Великим морем бытия, стремимы
Своим позывом, что ведет их сам (I 103–114).
Это новая глава в философии любви, развиваемой в поэме. Мировая гармония предполагает, что у каждого существа собственный тип стремлений. У высших творений это разум и любовь, у низших – тяготение или инстинкт. Каждая тварь стремится занять свое природное место. Естественная область бытия души – Эмпирей, занебесное непространственное царство. Именно туда и устремляется душа, освобожденная от груза вещества и от сбивающей с пути дурной воли.
Полет останавливается на небе Луны. Данте, погружаясь в прозрачное твердое тело «первой звезды», которая воспринимает пришельцев, «как вода – луч света», загорается желанием, подобно тому как он увидел изнутри лунное светило,
Увидеть Сущность, где непостижимо
Природа наша слита с божеством.
Там то, во что мы верим, станет зримо,
Самопонятно без иных мерил;
Так – первоистина неоспорима (II 41–45).
В переводе исчезает специфическое звучание философских терминов Фомы Аквинского и Ансельма Кентерберийского, которые Данте без усилий вплетает в стих своих терцин, но смысл передан вполне адекватно: знание «демонстративное», полученное через формально-логические построения, уступит место прямому созерцанию истины. Возможно, что звучит здесь и мотив посланий апостола Павла: «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан» (1 Коринф. 13, 12).
Но не только теологические проблемы волнуют Данте в сфере Луны. Почти вся II песнь посвящена астрофизической проблеме лунных пятен, Беатриче обстоятельно опровергает гипотезу Данте о слоистой структуре Луны, попутно предлагая ему поставить опыт («…ведь он для вас источник всех наук») со свечой и тремя зеркалами, чтобы убедиться в равномерно распространяющейся силе света. Она объясняет различную интенсивность свечения частей Луны тем, что они получают разные порции света из высших источников. Более детальные комментарии Беатриче носят уже философский характер. Небесные сферы вращаются под воздействием ангельских сил. Эмпирей передает свою силу небу Перводвигателя, где эта сила равномерно распространяется. Перводвигатель передает силу небу звезд, в котором сила распределяется на отдельные точки, а из них распространяется на нижние уровни небесной иерархии:
И небо, где светил не сосчитать,
Глубокой мудрости, его кружащей,
Есть повторенный образ и печать.
И как душа, под перстью преходящей,
В разнообразных членах растворясь,
Их направляет к цели надлежащей,
Так этот разум, дробно расточась
По многим звездам, благость изливает,
Вокруг единства своего кружась (II 130–138).
На небе Луны появляются фигуры, поначалу принимаемые Данте за отражения, так что он оборачивается, чтобы увидеть оригиналы. Эти бледные тени – пассивные души, не сдержавшие обета. Поддавшись давлению злой воли, они сошли с верного пути, но сохранили любовь к своим идеалам. На вопрос Данте, не тоскуют ли они по более высокому уделу, звучит ответ: несмотря на то что царство небесное иерархично и блаженные души тоже распределены по ступеням, всякое место на небе – Рай и блаженство всех душ одинаково. Блаженные души желают то, что они имеют, в противном случае была бы невозможна гармония воли душ и воли бога, а значит, невозможен Рай. Поскольку желания душ суть следствия всего их духовного склада, они получают свое, а не навязанное им высшей волей.
Беатриче, заметив, что Данте волнуют неразрешенные вопросы, начинает пространные объяснения. Прежде всего она отметает самое опасное из возможных заблуждений: души, которые им встретились, обитают не на звездах, вопреки Платону. Место блаженных – Эмпирей, а здесь они для того, чтобы дать наглядный урок Данте, распределившись по небесным сферам. Платон неправ, утверждая, что душа после смерти возвращается на звезду, с которой она вселилась в свое время в тело, но если он имел в виду влияние звезд на души, то его мнение справедливо. Далее Беатриче разъясняет, почему наказывается пассивность. Это новый виток рассуждений о воле, которые уже встречались нам в «Чистилище». Волю нельзя сломить силой, она, как пламя свечи, будет упорно выпрямляться, сколько бы мы ее ни гнули. Но воля может, сама того не желая, из страха, слиться с силой, и это уже не должно оставаться без наказания:
…Превысший дар создателя вселенной,
Его щедроте больше всех сродни
И для него же самый драгоценный,—
Свобода воли, коей искони
Разумные создания причастны,
Без исключенья все и лишь они (V 19–24).
Данте просит объяснить, можно ли возместить делами нарушение обета. Здесь следует несколько терцин, поразивших в свое время Гегеля:
Я вижу, что вовек не утолен
Наш разум, если Правдой непреложной,
Вне коей правды нет, не озарен.
В ней он покоится, как зверь берложный,
Едва дойдя; и он всегда дойдет,—
Иначе все стремления ничтожны.
От них у корня истины встает
Росток сомненья; так природа властно
С холма на холм ведет нас до высот (IV 124–132).
«Нынешнее отчаяние в возможности познать истину чуждо всякой спекулятивной философии, как и всякой подлинной религиозности», – пишет Гегель, противопоставляя Дантовы стихи такому пессимизму («Философия духа» § 440).
В ответ на просьбу взгляд Беатриче загорелся такой любовью, что поэт потерял сознание. Этот феномен получает из ее уст разъяснение: на самом деле у Данте резко возросла сила зрения, и он увидел уровень любви, дотоле недоступный его взору. В свою очередь «вечный свет», загоревшийся в его уме, не может не вызвать любовный взгляд Беатриче, поскольку любить можно только этот свет, а влечение к другим предметам лишь «восприятый ложно того же света отраженный след» (V 11–12). В дальнейшем время от времени будет происходить преображение Беатриче, и взору Данте придется приспосабливаться к новым уровням небесной красоты. Наконец Данте получает ответ на свой вопрос относительно обета: сам договор нельзя отменить, но можно заменить то, что жертвуется, если новые обязательства станут большим испытанием. Эта проблема, видимо, волнует Данте не только как моральная. Переход от Ветхого завета к Новому тоже по существу был сменой обета. Данте, возможно, хочет показать преемственность двух эпох, их историко-религиозное единство в осуществлении высших целей.
Второе небо – Меркурий. Здесь Данте встречают танцующие и поющие честолюбивые духи. Их достоинство в активной реализации идеалов. Главная встреча на небе Меркурия – с императором Юстинианом. Его речь представляет собой целый исторический трактат, в основном посвященный Риму. Одна его фраза вызывает у Данте недоумение, разрешению которого посвящена VII песнь. Юстиниан рассказал, что в царствование Тиберия бог возложил на римскую власть миссию отмщения за грех Адама, что и было осуществлено через распятие Христа. Но затем, в царствование Тита, бог велел отомстить иудеям за отмщение этого греха, и был разрушен Иерусалим (70 г.). Может ли праведная месть быть правосудно отомщенной? – спрашивает Данте. Беатриче объясняет: Христос, чтобы искупить грехопадение Адама, погубившего вместе с собой всю отпавшую природу, воплотился, слив себя с природой. Казнь Христа, которая распинала грешную природу, была высшей справедливостью, но она же позволила торжествовать иудеям, казнившим бога. Поэтому справедливой была и вторая кара. Но почему богом был избран такой сложный путь искупления? – недоумевает Данте. Создание бога, отвечает Беатриче, если оно сотворено им непосредственно, обладает вечностью, свободой и богоподобием. Таков и человек. Он создан прямым актом божественной благости и в отличие от подверженных разрушению земных стихий, созданных косвенными силами, может быть бессмертным. Но грех, лишив человека одной доли совершенства – свободной воли, отнял у него и все остальное. Лишившись своих совершенств, человек уже не может столь же вознестись, сколь он пал. Ему нужна помощь бога: или милость, или возможность самостоятельно искупить грех. Для бога дело тем милее, чем больше в него вложено блага, поэтому он идет обоими путями. Простое оправдание человечества несравнимо со щедростью божьей самоотдачи. И правосудие невозможно было бы осуществить, если бы не воплотившийся Христос, который стал, так сказать, и объектом и субъектом правосудия. В этой своеобразной диалектике у Данте соединены философия истории, философия личности и философия любви.
Взлетев на третье небо – небо Венеры, Данте видит, как внутри светила кружатся маленькие звезды. Это души любвеобильных; характер и скорость их полета зависят от степени погруженное и в созерцание бога. Души этого неба говорят с Данте о необходимости вдумчиво следовать природе, об очищающей силе любви, о недостойных пастырях, прелюбодействующих в своей корысти, вместо того чтобы хранить супружескую верность церкви. Помянул здесь Данте и Флоренцию, создав выразительный образ: Люцифер, как дурное семя, пророс из преисподней стеблем, который и есть Флоренция. На стебле расцвел проклятый цветок – флорин (на монете была изображена лилия), множимый Флоренцией на горе людям.
Пять песней (X–XIV) посвящены пребыванию на небе Солнца, где перед Данте разворачивается целый мир средневековой философии.
Взирая на божественного Сына,
Дыша Любовью вечной, как и тот,
Невыразимая Первопричина
Всё, что в пространстве и в уме течет,
Так стройно создала, что наслажденье
Невольно каждый, созерцая, пьет (X 1–6).
Это введение как бы задает тон циклу песней о небе Солнца, границе вещественного мира. Завеса солнечного света и преграждает смертному взору путь выше, и освещает то, что ниже. Не случайно именно здесь встречают Данте души мудрецов.
Поэта окружает венец из сияющих и поющих солнц, который трижды оборачивается вокруг него. Один из светочей начинает речь и знакомит Данте с остальными. Это Фома Аквинский – пожалуй, самый знаменитый философ XIII в. Он открывает Данте имена мудрецов, начиная с того, кто по правую руку. Первый из них – Альберт Великий, учитель Фомы, крупнейший ученый своего века, один из зачинателей новой аристотелевской традиции в средневековой философии. Далее – Грациан, юрист XII в., согласовавший в своих «Декретах» юридическое и церковное право. Петр Ломбардский, теолог XII в., чьи «Сентенции» стали традиционным объектом комментариев в схоластике XIII в. О пятом сиянии Фома говорит:
Тот, пятый блеск, прекраснее, чем каждый
Из нас, любовью вдохновлен такой,
Что мир о нем услышать полон жажды (X 109–111).
«Такой мудрец не восставал второй», – заключает поэт (X 114). Это – Соломон, сын царя Давида, царь Израиля, года правления которого были самым благополучным временем для древнееврейского государства (Соломон значит «мирный»). Он построил Иерусалимский храм, прославился своей мудростью, написал книги Притчей, Екклесиаста и Песни песней (на которые так любил ссылаться Данте). Далее идет Дионисий Ареопагит, считающийся автором корпуса сочинений неоплатонического характера. «Ареопагитики» оказали огромное влияние на средневековую философию. Данте воспроизводит в «Комедии» учение Дионисия о небесной иерархии, да и световая символика «Рая» в значительной мере восходит к его сочинениям. Следующий – Павел Орозий, ученик Августина, написавший хорошо известную Данте всемирную историю. В отличие от Августина он относится к Риму как к опоре христианской государственности и закладывает основы христианской мистической интерпретации Римской империи. Восьмой – Боэций, казненный Теодорихом по подозрению в политическом заговоре. Его сочинение «Об утешении философией» – одна из самых любимых книг средневековья, оказавшая влияние и на создателя «Божественной Комедии». Исидор Испанский (560–636), автор знаменитой «Этимологии» – компилятивно-энциклопедического сочинения, которое было одним из источников средневековой образованности. Беда Достопочтенный (674–735), англосаксонский ученый: историк, грамматик, теолог. Ришар Сен-Викторский (ум. 1173), крупнейший представитель мистической школы, обосновавшейся в монастыре св. Виктора в Париже. Под влиянием Бернара Клервоского сен-викторцы развивали учение о восхождении души через различные ступени душевного и рассудочного совершенства к непосредственному созерцанию высшей истины. Замыкает круг Сигер Брабантский, глава школы парижского аверроизма. Аверроисты, стараясь оставаться в рамках ортодоксии, тем не менее вводили в схоластику смелые новшества, опираясь на аристотелизм Ибн-Рушда (Аверроэса). Они утверждали, что мир относится к богу как следствие к первопричине и «совечен» творцу; отрицали бессмертие индивидуальной души, признавая лишь бессмертие интеллекта, нумерически единого для всех людей; ограничивали в ряде случаев божественное всемогущество. По крайней мере так формулировал их заблуждения епископ Тампье, дважды осудивший своими постановлениями парижский аверроизм. Сигер был привлечен к церковному суду и убит секретарем при невыясненных обстоятельствах. О последнем светоче венца у Данте сказано подробнее, чем о других, поскольку с ним связана старая проблема, обсуждаемая среди комментаторов «Комедии» (см., напр.: 48. 85). Фома Аквинский, по левую руку от которого оказался Сигер, был ярым противником аверроизма и даже иногда изображался на фресках попирающим поверженного Аверроэса. В течение четырех лет он вел в Париже активную борьбу против сторонников Сигера. Поэтому такое соседство вызывает у комментаторов недоумение. Пытаясь объяснить эту странность, исследователи или преувеличивают влияние аверроизма на Данте, или же находят следы раскаяния в поздних трудах Сигера. И то и другое плохо согласуется с текстами. Гораздо естественнее предположить, что здесь реализован уже известный нам принцип композиции поэмы: соединение противоположностей в гармоничное единство. Фома оказался «золотой серединой» между Альбертом Великим и Сигером Брабантским, причем все участники этой группы предстают в неприглаженной оригинальности своего духовного облика. О Сигере говорится, что он был «ясный дух, который смерти ждал, отравленный раздумий горьким ядом» (X 134–135). Данте не скрывает, что Сигер «неугодным правдам поучал» (X 138). Но это событие земной истории, которая вся построена на мучительных диссонансах. Царство небесное примиряет тех, кто, каждый по-своему, отражал истину, но вступал в конфликт с другими искателями истины. Данте – и в Средние века, может быть, только он – считает, что истина слишком велика для того, чтобы ее познал один мудрец. Необходимо сообщество умов, которые, дополняя друг друга, избавляясь от односторонности и даже соединяя крайние позиции, создают подвижный образ вечной истины.
Продолжая свою речь, Фома Аквинский дает философско-теологическое обоснование роли францисканского и доминиканского орденов. Невеста-церковь, говорит он, спешит на зов жениха-Христа. Небесная мудрость определила ей в помощь двух вождей. Один придает ей уверенности в себе, другой помогает сохранять верность жениху. Один сияет мудростью херувима (в ангельской иерархии херувимы осуществляют полноту знания), другой пылает любовью серафима (серафимы обозначали пламенеющую любовь к богу). Первый – св. Доминик, второй – св. Франциск. Небесная этика в изображении Данте такова, что петь хвалу себе и своему непосредственному вождю считается недостойным. Поэтому Фома возносит хвалу Франциску Ассизскому, воспевая его аскетичность, смирение, любвеобильность, а в заключение порицает своих братьев по ордену – доминиканцев, которые сбились с истинного пути. После его слов вокруг первого венца появляется второй. Данте сравнивает эти два концентрических круга с гирляндами роз и с двойной радугой. Второй венец останавливает свое вращение, и раздается голос, произносящий хвалебную речь в честь св. Доминика, ревностного борца с ересями. Заканчивается этот гимн порицанием францисканского ордена, не сохранившего чистоту первоначальных идеалов. Затем говорящий открывает свое имя. Это Бонавентура из Баньореджо, генерал францисканского ордена, один из самых знаменитых мистиков своего времени. Впоследствии он был канонизирован и причислен к десяти великим учителям церкви. Его книга «Путеводитель духа к богу» – один из источников «Божественной Комедии». Оба оратора делают упор на взаимной связи двух вождей, на единстве их цели и необходимости их для церкви, которая, как боевая колесница, опиралась на эти два колеса в междоусобных битвах (XII 107–108). Интересен мотив их сопоставления как «Востока» (Франциск – XI 53–54) и «Запада» (Доминик – XII 50–51), причем «Восток» ассоциируется с аскезой, любовью, созерцанием, «Запад» же – с активным утверждением идеалов, организующей силой («садовник», «страж»), знанием.
Бонавентура представляет остальные одиннадцать огней в своем венце. Сначала идут Августин и Иллюминат, первые ученики и последователи Франциска Ассизского. Затем Гуго, глава сен-викторской школы (1096–1141), учитель Ришара (который был в первом венце), особенно чтимый Бонавентурой философ. Следующий – Петр Коместор (XII в.), прославившийся «Схоластической историей» (своего рода исторической энциклопедией, следы чтения которой можно обнаружить и в «Комедии»), Пятый – Петр Испанский (ум. 1277), создавший трактат, который стал одним из главных логических трудов средневековья. Шестой – пророк Нафан (Натан), советник царя Давида, учитель Соломона, по совету которого Соломон предпринял постройку храма. Затем – Иоанн Златоуст (350–407), византийский проповедник, изгнанник и мученик. Ансельм Кентерберийский, «отец схоластики», основатель рационалистического метода истолкования богословских истин. Элий Донат (IV в.), философ и грамматик, христианин, вышедший из римской школы неоплатонизма. Рабан Мавр (776–856), архиепископ Майнца, крупный просветитель эпохи «каролингского ренессанса». Наконец, Иоахим Флорский, о котором уже шла речь в предыдущих главах. Мы видим, что венец замыкается так же, как и первый: по одну сторону от Бонавентуры верные последователи Франциска, по другую – «радикал»-еретик. С иоахимитами Бонавентура неустанно боролся, и поэтому слова о «вещем Иоахиме» звучат в его устах парадоксально.
Данте рисует впечатляющую картину созвездия великих мыслителей, которое двумя венцами вращается вокруг него в противоположных направлениях, образуя счастливое «содружество божеств» (XIII 31). Данте сравнивает созвездие философов с венцом Ариадны, обладавшим магическим свойством светиться в темноте, называет его мудрецов паладинами, рыцарями короля Артура, говорит о 12 парах цветов, выросших из одного зерна веры. Этим усиливается впечатление гармонии и согласованности всей композиции. Но столь же настойчиво Данте обращает внимание читателей на различия как между отдельными огнями венца, так и между двумя его кругами. Общее между внутренним и внешним кругом в том, что они собирают крупнейших мыслителей средневековья и отчасти составлены по принципу контраста. Видно, что Данте отдает предпочтение философам-просветителям, закладывавшим основы христианской культуры и образованности. Заметны и различия: внутренний круг, доминиканский, более схоластичен, рационалистичен, больше связан с аристотелевской традицией; внешний, францисканский, больше связан с мистикой, с традицией Августина. В то же время чувствуется, что Данте вкладывает в эту конструкцию более конкретный смысл, что его классификация мыслителей тоньше, чем представляется на первый взгляд. Не случайно и движение в противоположных направлениях, при котором каждая позиция дает новую пару философов. Во всяком случае, поэт хочет показать нам, что споры, а иногда и взаимные преследования философов и мудрецов земли превращаются на небесах в созвучие, которое не только не исключает различия, иерархии (францисканский круг все же иерархически выше доминиканского), но и предполагает их. «Венец Ариадны» – это одна из первых попыток создать историко-философскую концепцию и теоретически объяснить процессы, происходящие в философии Средних веков. Иоахим Флорский попытался в свое время выделить в каждом историческом цикле 12 мужей, выражающих в своей деятельности смысл данного периода; он также предсказывал появление 12 мужей духовных, которые ознаменуют эру святого духа. Но Данте идет дальше, не просто формируя группу лиц, но отыскивая логику разделения и соединения философских позиций. Впрочем, можно подойти к его конструкции и по-другому: «венец Ариадны» объясняет, почему в Средние века не возникла история философии. Потребности в систематизации эмпирического многообразия не было, поскольку культурным процессам не придавалось самостоятельного значения. Вместо культурно-исторического развития философии Данте изображает логикоэстетическую композицию, в которой восполняются все изъяны и случайности исторической последовательности событий и психологических конфликтов. И все же надо признать, что сама попытка Данте осмыслить кипение умственных страстей своей эпохи, привести в теоретический порядок разноголосицу тенденций, в реальной жизни скорее ломающих традицию, чем дружно поющих, как в Дантовом хороводе, была смелым шагом к новому пониманию философии.
Заканчивается эта сцена по традициям схоластического трактата – разрешением трудных вопросов. Фома разбирает две проблемы: почему Соломон мудрее всех и всегда ли душа в Раю будет заключена в световую оболочку. Решая первую, Фома рисует картину бытия в духе «Ареопагитик»: свет троицы (сила – мысль – любовь), отражаясь в девяти зеркалах – девяти уровнях небесной иерархии, создает все множество творений.
Всё, что умрет, и всё, что не умрет,—
Лишь отблеск Мысли, коей Всемогущий
Своей Любовью бытие дает;
Затем, что животворный Свет, идущий
От Светодавца и единый с ним,
Как и с Любовью, третьей с ними сущей,
Струит лучи, волением своим,
На девять сущностей, как на зерцала,
И вечно остается неделим;
Оттуда сходит в низшие начала,
Из круга в круг, и под конец творит
Случайное и длящееся мало (XIII 52–63).
Фома объясняет, что творение бывает несовершенным отпечатком, потому что между творцом и созданьем – длинная цепь опосредований и к тому же вещество, как правило, оказывается несовершенным материалом для воплощения замысла. Но в двух случаях была выбрана чистая материя и приложена непосредственная сила творца: так были созданы Адам и Христос. Поэтому они мудры вне всех сравнений. Среди остальных же мудрейший – Соломон, ибо, когда во сне ему явился бог и спросил, чего он хочет, Соломон попросил разума, чтобы судить и управлять (3 Цар. 3, 9—15). Богу понравилась эта просьба, и он сделал Соломона таким мудрецом, какого не было до него и не будет после. Данте в «Монархии» и «Пире» отводил большую роль союзу власти и мудрости. Поэтому не удивительно, что Соломон оказывается мудрейшим в «венце философов», но главное – мудрейшим «меж царями» (XIII 107). Любопытно, что в Библии Соломон отвергает такие возможности, как долгая жизнь, богатство, власть над душами врагов. По Данте же, он мог польститься на суетное знание:
…можно ль заключить
К necesse при necesse и возможном;
И можно ль primum motum[7]7
Т. е. можно ли получить необходимое (necesse) заключение в силлогизме, где одна посылка – необходимое, а другая – возможное, и можно ли допустить первоначальный толчок (primum motum).
[Закрыть] допустить;
Иль треугольник в поле полукружья,
Но не прямоугольный, начертить (XIII 98—102).
Данте сурово осуждает самонадеянность разума, его гордыню. Среди примеров лжемудрости, ставшей жертвой своего однобокого интеллектуализма, основатели ересей и некоторые философы: Парменид, Мелисс, отрицавшие существование мира многообразия на основании чисто рациональных аргументов, и почему-то присоединенный к ним Брис (Брисон), ученик Евклида (о котором Данте, видимо, узнал из Аристотеля, критикующего в своих логических сочинениях решение задачи квадратуры круга, предложенное Брисоном). Выразительно звучит мораль этого рассуждения:
Никто не думай, что он столь велик,
Чтобы судить; никто не числи жита,
Покуда колос в поле не поник.
Я видел, как угрюмо и сердито
Смотрел терновник, за зиму застыв,
Но миг – и роза на ветвях раскрыта (XIII 130–135).
Вторая проблема разрешается самим Соломоном. Он говорит, что в новом теле, которое душа получит после Суда, свет будет слабее, а сила зрения увеличится. Поэтому блаженные души проступят зримыми чертами нового тела сквозь свет. Остальные мудрецы хоровода так радостно откликаются на это утверждение, что Данте предполагает:
…Им был явно дорог прах могильный,—
Быть может, и не свой, а матерей,
Отцов и всех, любимых в мире этом
И ставших вечной чередой огней (XIV 63–66).
Рай – это возможность любить. В этой особенности Дантова Рая выражается вся сущность его таинственного устройства. Не слепое наслаждение, а радость общения, которая с каждой ступенью подъема становится все более личностной, составляет небесное блаженство.
Пребывание Данте на небе Солнца заканчивается странным эпизодом: два венца окружаются ослепительным третьим (XIV 67–78), образованным из новых душ. После этого Данте возносится на следующее небо, и для читателя остается не вполне ясно, что за души появились вокруг венца мудрецов. Поскольку Данте называет этот третий круг истинным пламенем святого духа, можно предположить, что это некий новый уровень мудрости. Может быть, это своеобразное «произведение» двух венцов, давшее сакральное число новых блаженных душ (12 * 12 = 144).
Затем Данте оказался внутри красной звезды пятого неба. Это Марс, звезда, астрологически связанная с судьбой Флоренции. В древние времена Марс считался покровителем этого города, но впоследствии он уступил свою роль Иоанну Крестителю. На пятом небе перед Данте открывается зрелище грандиозного распятия, составленного из сияющих душ. (В «Пире» рассказано о метеорологическом явлении: крестообразном скоплении паров над Флоренцией, сопутствовавшем звезде Марса, – II 13, 22. Как всегда у Данте, земное и небесное отражаются друг в друге.) Одна из душ начинает разговор с Данте. Это прапрадед поэта крестоносец Каччагвида. Беседа с предком, занимающая три песни кантики (XV–XVII), касается рода Данте, но вовлекает целую историю Флоренции. Данте глубоко волнует эта тема, ведь все его путешествие есть в некотором смысле возвращение на родину. В беседе он докапывается до самых корней своего земного бытия. Несмотря на ироническое отношение к аристократии крови (ср. XVI 1–4), Данте серьезно воспринимает историю предков, поскольку чувствует прямую связь с прошлым. Чтобы понять эту серьезность, вспомним, что социальная иерархия в Средние века была по существу родовой системой, спроецированной в социальное измерение. «Вертикальные» отношения в обществе были отношениями «отцов» и «детей», «горизонтальные» – отношениями «братьев», привычные нам «заслуги» как источник воздаяния и наград считались менее почтенными, чем ни за что полученные «дар» и «благодать». Такая ценность Нового времени, как равенство, воспринималась бы во времена Каччагвиды как безродность, лишенность корней и соответственно соков, питающих каждую родовую веточку.
От предка Данте узнает свою судьбу. С этим связан философский аспект беседы с Каччагвидой: прапрадед открывает поэту тайну предвиденья.
…Возможное, вмещаясь в той тетради,
Где ваше начерталось вещество,
Отражено сполна в предвечном взгляде,
Не став необходимым оттого,
Как и ладьи вниз по реке движенье —
От взгляда, отразившего его (XVII 37–42).
Данте коротко выразил свое отношение к проблеме, волновавшей христианских мыслителей со времен Августина. Как совместить свободу воли и всеведение бога? И как можно наказывать за грех, если заранее известно, что свершение его предопределено? Данте примыкает к философам, разделявшим два уровня событий: события, связанные причинно-следственными отношениями, которые бог может увидеть все сразу, и события, связанные через акты свободной воли и потому подлежащие моральной оценке. В обыденной жизни эти уровни не разделены, что приводит к иллюзии тождества предопределенного события и необходимого поступка.
В предсказании пращура открыты самые важные вехи жизни Данте: изгнание, козни врагов, покровительство друзей, загадочная роль Кан Гранде, которому предначертано изменить судьбы многих бедняков и богачей. Услышав, сколь грозные силы противостоят его правдолюбию, Данте колеблется, стоит ли сообщать миру все, что он узнал на небе. Каччагвида отвечает: