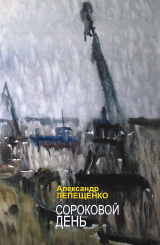
Текст книги "Сороковой день"
Автор книги: Александр Лепещенко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
VI
Коромыслом гнутая бабка Марья и рябая сорокалетняя вдова Коломыйчиха вмиг разнесли по Берёзовке весть о том, что к Закатовым жених припожаловал, да не один, а с дружком.
– Ресницы длинные, чёрные. В общем, красавец, – шептала соседкам Коломыйчиха.
– У женишка ихнего грудь, як мельничный жёрнов, а дружок – той тщедушный, на осу в пинжаке похож, – перешушукивала тем же соседкам бабка Марья.
– Поженятся небось теперь?
– Пойми их: год не писал ей зэк, не приезжал, а приехал – та сразу и приняла, – рассуждала одна.
– Як пить дать, подженются, – уверяла соседок другая.
Все три дня, что Кольчугин с приятелем гостил у Закатовых, Оля находилась в каком-то напряжении: она никак не могла решить, как держать себя с ним…
– Здравствуй, Оленька! Я приехал на тебя посмотреть, поговорить, – были его самые первые слова.
О делах рассказывал туманно. Будто бы работал в первопрестольной, снимал там с другом квартиру, но хозяин вдруг выставил за дверь. Денег шиш, нужно позвонить в контору, чтобы выслали. Однако звонить не спешил. С отцом её и Лёшкой ходил на рыбалку. А по вечерам усаживался на диван, поближе к ней, но разговор выходил отвлеченный: совсем не о том, что хотела и так боялась услышать она.
На третий день мужики по обыкновению пошли рыбачить, но вскоре дверной колокольчик проклинькал – вернулся Кольчугин. Он нашёл Олю плачущей: та глотала слезы, но они выступали на глазах, поблескивали на ресницах и медленно скатывались по щекам.
Девушка сидела в инвалидной коляске прямо, с застывшим бледным лицом, глядя в одну точку и не ожидая, что её кто-то увидит.
Дмитрий опустился перед нею на колени.
– Я виноват, я мучаю тебя.
– Встань, Дима, я прошу.
Он не поднялся.
– Душа моя ошибочная, ну почему я раньше не приехал…
– Не жалей, ты начал новую жизнь.
– Начал…Только выходит дрянцо!
– Не надо так, милый.
Кольчугин, стыдивший себя после за минутную слабость, сказал:
– Оленька, ты – лучшее, что в моей жизни было.
– Димка…
– Да, самое лучшее в моей беспутной жизни.
– Зачем ты это говоришь?
Он заглянул в её ясные кроткие глаза.
– Оля, вечером я уезжаю с Лёшкой.
– Как уезжаешь?.. Вернёшься ли?
– Вернусь, только очень жди.
– Буду, я буду ждать… – крупные слезинки бежали всё быстрее, скатываясь по щекам.
Вечером гости засобирались в Волгоград. Забрали вещи, ушли, а наутро Берёзовка заговорила о краже. Ночью были вскрыты почта и сельсовет.
Из райцентра приехал следователь Иванников. Он опросил соседей, а потом зашел к Закатовым.
– Ольга Андреевна, он какой, этот ваш Кольчугин? – сразу начал следователь.
– Голос теплый-теплый, и глаза не лукавые…
– Ла-а-дно, отставить! Соседи говорят, вы познакомились, когда он был в заключении…
– И что?
– Как вы думаете, – взглянул на Олю следователь, – вы бы ответили ему тогда, если бы не были столь одиноки?
– Я не одинока… – опустила голову девушка. – Болтаю по телефону, вяжу, смотрю телевизор… Переписываюсь…
Иванников нервно теребил синюю фуражку.
– Поймите, Оля, бывших зэков… их не бывает…
– Не смейте мерить людей одной меркой! Кто вам только лицензию на это выдал?
– Ольга Андреевна… Оля…
Она не слушала его.
– Можно сделать мерзость, не будучи мерзавцем! И эта черта – самая грустная черта нашей теперешней жизни.
– Простите, Оля! Я не то хотел сначала сказать. Ведь я тоже не согласен, что у всех натуры стали ползучими и ожирели сердца…
* * *
Следователь Иванников уехал, так и не сообщив Ольге ни о задержании её друга, ни о том, что он сознался ещё по нескольким эпизодам. А вот Борща поймать не удалось, пропал бесследно.
В «Гамбринусе»

Безмятежные дни в Одессе рассеялись, как сон. Пространством Гуськова сделался «Гамбринус». Кроме этого кабачка, он больше никуда не ходил… Потянулись однородные августовские дни, заполнявшиеся вином и Акутагавой Рюноскэ. Алкоголь и новеллы японского Достоевского на пользу не шли. Андрей Николаевич, словно утративший память и потерявшийся в большом городе человек, был испуган. Страх убивал невоскресимо, и никто не мог избавить от душевных мучений… Жены больше не было…
«Не оттого ли я убил жену, что с самого начала имел намерение её убить, а землетрясение предоставило мне удобный случай?.. Не убил ли я её, опасаясь, что, и придавленная балкой, вдруг она всё же спасётся?» – слова эти попадались Гуськову всякий раз, когда он открывал книгу, и это уже походило на безумие. Казалось, что Акутагава Рюноскэ преследовал его… Мучения обещали быть долгими. Спасала лишь молитва, сложенная святым Ефремом Сириным[3]3
…Спасала лишь молитва, сложенная святым Ефремом Сириным. – Молитва (IV век), которую далее цитирует Гуськов, была любимой молитвой А. С. Пушкина. Поэт полностью ввёл её в своё стихотворение «Отцы-пустынники и жёны непорочны».
[Закрыть].
«Господи и Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми, – шептал Гуськов, – дух же целомудрия, смиреномудрия, терпения и любви даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи, царю, даруй ми зрети мои прегрешения и не осуждати брата моего, яко благославен еси во веки веков. Аминь».
Завсегдатаи «Гамбринуса» попривыкли к лысоватому, шепчущему молитву старику. Курчавые волосы плотно облегали его затылок, образовывая вокруг головы подобие тёмного нимба. Глаза нехорошо блестели от вина, но стоило ему протрезветь, и они становились цвета воды, которую хочется пить и которой нельзя напиться…
В кабачке на Дерибасовской старик был уже своим. Он восседал за бочкой-столом и угощался красненьким. Временами от этого занятия его отрывали туристы, увешанные фотоаппаратами и интересовавшиеся, как пройти к Дюку, Приморскому бульвару, оперному театру или Тёщиному мосту. Гуськов с помощью местных «тудой-сюдой» терпеливо пояснял, что все достопримечательности находятся рядом, в кучке, и между ними особо не побродишь. Иногда он просил у туристов фотоаппараты и со знанием дела осматривал их. Случалось, ему даже разрешали сделать снимок, и он радовался этому, как ребёнок… Свою фототехнику мастер распродал года два назад, чтобы дочь Анюта смогла съездить на чемпионат Европы. Он верил в неё, и она действительно взяла «золото» в спортивных танцах. Гуськов тогда горд был очень. Когда воспоминания оживали, он переставал себя изъязвлять. Но бесы не отпускали надолго: всё мерещилась придавленная балкой жена…
«В цветущих акациях город…» – слышался голос Утёсова. Музыка в «Гамбринусе» звучала негромко. Официанты в матросках принимали и разносили заказы. Людей в кабачке было уже много. Новый посетитель в надвинутой на глаза бейсболке прошёл мимо бара и остановился у стола Гуськова.
– У вас занято, папаша?
– Садитесь, свободно.
Появился рыжий официант.
– Щё закажете?
– У вас есть икра из синих и всего остального?
– Сколько вам влезет.
– Принесите жидкое и курочку… И щёб она мене ещё вчера бегала живая и здоровая.
– Вам чай с лимоном, да?
– Мене кофе без ничего.
– Щё-то ещё надо?
– Всё. Точка.
Вскоре рыжий в матроске принёс чечевичную похлёбку, жареную курицу и салат.
– Жидкое, а? – крякнул от удовольствия Гуськов.
– То, щё доктор прописал… И салатик – чистое здоровье.
– Слушайте, вы же актёр… Машков…
– Папаша, я так плохо говорю? – Актёр переложил бейсболку на другой край стола.
– Говорите хорошо и играете… Парфён Рогожин и вор Толян запомнились. Может, кисляка или пива?.. Меня Андреем Николаичем кличут.
Мужчины пожали друг другу руки.
– Я бы очень хотел есть булки, пить пиво, но не могу себе этого позволить. Это момент воспитания. Поверьте, это очень увлекательное занятие – воспитывать самого себя, – начал горячиться Машков.

– В вас есть одержимость, Владимир. Это-то мне и нравится, это передаётся на экран.
– Андрей Николаич, у меня уже были в жизни моменты, когда я относился к своей профессии достаточно легко и воздушно, пытаясь всех вокруг развлечь. Может, моя профессия тем и уникальна, что в течение жизни помимо того что приобретаешь опыт, ещё и меняешься – и внутренне, и внешне. Ты постоянно находишься в пути…
– И теперь?
– Да, и теперь. Я у Сергея Урсуляка снимаюсь.
– В Одессе съёмки-то?
– С утра в дворике на Колонтаевской работали, а вечером – в анатомическом театре.
– Это который в Валиховском переулке, напротив морга?
– Ну да, наверное.
– А что за картина-то?
– Картина маслом… «Ликвидацией» называется.
Официант принёс кофе и забрал тарелки.
– Андрей Николаич, вы, кажется, хорошо город знаете…
– Мне было восемь, когда умер Сталин. Я жил тогда в Одессе пыльной[4]4
…Я жил тогда в Одессе пыльной… – Гуськов цитирует строку из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин».
[Закрыть]…
– Так вы приезжий?
– Я из России… О Волгоградской области слышали?..
– Бывал даже.
– Ну вот… А в этих краях я в последний раз – повспоминать о былом. Недавно по Киеву бродил, не осталось там почти каштанов. Знаете, а лаврские художники – всё те же, что и полвека назад, – Гуськов по-детски улыбнулся. – Владимир, такие детали я запоминаю, ведь сам фотохудожник. Как и вы, я – человек эмоциональный. И если у меня нет чего-то определённого, за что я держусь, – это ужасно. Я просто не могу с собой справиться.
Андрей Николаевич внимательно посмотрел на Машкова и сказал:
– Вот вы хорошо, с чувством, рассуждали о булках и воспитании самого себя.
– Понять, значит, почувствовать, говорил Станиславский. Никакого другого пути в этой профессии нет.
– Ни в какой нет.
– Вы правы, пожалуй… Я в детстве любил книгу «Человек-невидимка» и удивлялся, почему же герою хочется быть видимым? Грим же есть! Можно загримироваться, и получится один человек, другой, третий…
– Мне нравится ваша прочность…
– Все бывает в жизни, Андрей Николаич. Во всяком случае, мы должны иметь в себе запас прочности и понимать, что мы – не устрицы. Жиденькое существование устрицы без ракушки мне всегда было неприятно в людях. И я всегда гордился такими, у которых есть цель, и они её добиваются, не уничтожая других.
Машков потрогал небритые щёки и надел бейсболку.
– Приходите на съёмочную площадку, я вас проведу. – Актёр положил руку на плечо старику.
* * *
Гуськов пробудился, оттого что выронил книгу. Странное дело, она раскрылась на «Сомнении» Акутагавы Рюноскэ… Какое-то время Андрей Николаевич смотрел на книгу и не мог понять, где находится. Наконец сообразил, что в «Гамбринусе», и стал припоминать сон – развалины горящего дома, придавившие жену, себя, стаскивающего тяжёлую балку… «Ирина спасена», – сомнения отступили вместе с бесами.
Гуськов чувствовал, что сон, литература и жизнь смешались в сложный и тяжёлый коктейль… Негромко, но призывно зазвонил сотовый телефон.
– Алло!
– Андрюш, ты когда домой?
– Билет на восьмое сентября взял.
– Приезжай, я вернулась… Я не могу без тебя жить.
– Знаешь, Ирин, я с Машковым познакомился…
– Тебя что-то плохо слышно…
– Я говорю, соскучился… Целую, моя царица, – сказано это было с надеждой, ведь в жизни его появлялось что-то определённое, за что он мог бы теперь держаться.
Сороковой день

I
Всякое время имеет свои пределы. И нужно не запропастить, не погубить себя. Гуськов не смог. Сначала я надорвала с ним душу, а потом дети забыли его, как забывают свой дом или улицу люди, давно живущие на чужбине. Оттого, может, и на похоронах их не было? Не знаю и не сужу. Но раньше дети держались за него, как за веревку. Впрочем, на сороковой день они всё-таки приехали.
В доме чувствовались стылость и неполнота. И пыль, проволгнув за сорок дней, плотно лежала на щербатом полу. На столе таинственно темнела икона, чадила лампадка и ютилась фотография покойного. Муж сделал автопортрет незадолго до смерти. Андрей Николаевич жил и творил наособицу, вдумчиво. Избывал в искусстве свои боли и обретал радость. Но этот снимок получился у него обреченно-минорным, холодным, обманчиво-тихим, как тиха бывает сердечная боль, выматывающая человека. Случись у детей понижение ума, они и тогда бы заметили: жизнь эту поперёк переехало горе. И они заметили. Поняли, что к нему ни с какой мерой и подойти-то нельзя, не только с его собственной.
Нет, он не стоял на коленях перед творчеством. Это присуще художнику с завышенной самооценкой своего места в искусстве. Он стоял на коленях перед человеком – добрым человеком, и всё хотел увидеть силу влияния доброго человека на жизнь, всё хотел найти ту связь, что существует между ними. В глубине души он всё же боялся людей. Боялся цинизма и жестокости. Но всякий раз преодолевал свой страх… Помню, как он вернулся с Соловков с раздавленной душой. В Северодвинске Андрей задумался, как изменить жизнь: бороться за справедливость или стать фотохудожником? И вот он, инженер «Звёздочки», решил, что станет фотохудожником, чтобы творить настолько честно, насколько это в его силах. Он дал подписку о неразглашении военных секретов и вскоре уволился с завода.
Если что было не так, то за совестливой жизнью Гуськов мог и в другие края наладиться да там и осесть. Вместо почетного паломничества по маршруту из Петербурга в Москву, который раньше предпочитал Радищев, а ныне – честолюбивые чиновники, ему пришлось держаться захолустных городков и поселков, этих лимфатических узелков на карте большой страны, а такое путешествие куда более плодотворно для её понимания… И он понял, что у нас грех никогда не сделается правдой жизни.
Он лишь однажды ошибся. Оттолкнул детей и остался в гордом одиночестве да в незапятнанных одеждах. Однако если бы всё-таки впустил детей в храм свой – да, был бы шум и кавардак. Но зато там были бы и сами дети. Я не пережила утраты семейных крепей. Мимолетное чувство чуждости между мною и мужем переросло в ненависть. Андрей же вообразил, что он полный владыка своей судьбы. Это безумие, соблазнительное и глубокое, потому что дало простор всем страстям человека, позволило ему быть волком и считать себя агнецом… Так семейная жизнь наша, отгорев, оставила после себя лишь пепел и обугленные палочки.
II
Гуськов не знал никакой надежной защиты от смерти и несчастья. Он часто повторял заговор-сглаз, который услыхал ещё в Северодвинске от одного старого помора и которым в древние времена якобы пользовались жёны, чтобы скорее сжить со свету нелюбимых мужей. Звучал этот «душегубец» примерно так: «Ешь, муж, нож, ты гложи ножны… А и сохни с боку, боли с хребту, со всего животу». Повторял Гуськов это всегда с усмешкой. Нельзя сказать, что он боялся смерти: помню, как он смотрел ей в лицо, когда она уже вошла в его комнату. Узнали это дети на сороковой день. Они слушали меня и смотрели на его фотографию.
Андрей Николаевич рано облысел. Лишь затылок плотно облегали курчавые волосы. Они образовывали вокруг головы подобие тёмного нимба. Глаза у него были цвета воды, которую хочется пить и которой нельзя напиться. Таким его запомнили дети. Вот только с фотографии глядел совсем другой человек. Видно было, что всю жизнь он брёл по выбитой степи, палимый солнцем, отчего в его облике появилась какая-то суровость, плохо вязавшаяся с природной мягкостью. Он был худой – стал как тень. Он превратился в спичку, готовую воспламениться в любую минуту.
Андрей признался однажды, что у него есть двойник. Он изводил его. «Жить, я жить хочу, – говорил двойник, – какое мне дело до того, что хочешь ты». Но только этот деспот и спасал Гуськова. Страсти толкали в людскую грязь, но двойник хватал и вытаскивал из неё. Не так легко перевоспитаться. Однако он сделал это, он одолел свою легковесность. Андрей работал всё больше, стал аскетичнее в словах и жестах. Он старался, как говорил, умертвить в себе ветхого человека. Двойник увеличивал влияние.
Гуськов был отменной дичью для ловких охотников. Он остро чувствовал одиночество, в котором бьётся человек, невозможность соединения с теми, кого любишь. И только искусство было для него надежной броней против всего недоброго.
Когда у него не оставалось денег на печать фоторабот, он брался за карандаш. Я не забуду, как он рисовал. Линия ложилась на бумагу без колебаний и переделок, с безукоризненной чёткостью. Это было невероятно.
Случалось, у мужа застопоривало, и тогда проходил день, другой, а он не мог работать дальше и чувствовал, как проходили дни, которых у него так мало, и проходили бездарно. Как фотохудожник, создавший не одну сотню работ, он боялся утерять мысли, которые шумят в голове. Незадолго до смерти его стало преследовать ощущение, что любая работа – последняя и другой уже не будет.
Он задыхался от мизерности цели и низкого неба и говорил: «Без работы не жизнь, а так… дожитки». Он хотел быть в своём деле не поэтом, который с жалобными причитаниями снисходит до техники, а мастером.
«У меня простой метод, – повторял он, – не беспокоиться о поэзии. Она должна явиться сама собой… Произнесёшь вслух её имя и вспугнёшь…»
Поэзию не приручишь. Она давалась Андрею, который, притаившись, поджидал её в фотостудии, окружённый образами.
III
Восток дивно бледнел. Муж взял фотоаппарат, позвал меня, и мы спустились со своих хрущевских этажей. К Волге шли через сумрачный утренний парк. Ветви деревьев обнимали нас, как родственники.
– Смотри, берёзка на старшенькую нашу похожа… на Анюту.
– Очень похожа… Как ей, наверное, грустно в Волгограде одной… в этой танцевальной школе?.. И зачем ты её отдал туда?..
Я губами коснулась губ Андрея и зашептала:
– Вот сейчас подумала, что хочу первой умереть.
– Почему, моя царица?
– А ты тогда останешься на земле, чтобы вымолить меня у Господа.
– Какая хитренькая…
Я не выдержала и засмеялась, он тоже стал смеяться и целовать меня…
«Ирина – моя истинная помощница и утешительница» – эти слова он повторял не один раз в разговорах с друзьями. В дневнике он писал более восторженно: «Сделай её царицей и дай ей целое царство, она управит им как никто, столько у нее ума, здравого смысла и сердца».
…Думаю, тот вымышленный персонаж, в который превратили Андрея Николаевича, защищал его.
На сороковой день я и дети открывали для себя Андрея только благодаря дневнику: «В конце фотосъёмки я заметил, что натурщица моя Ирина меня искренно любит, – писал Гуськов о необычных обстоятельствах своей женитьбы, – хотя никогда не говорила мне об этом ни слова, а мне она всё больше и больше нравилась. Так как после смерти брата мне тяжело жить, то я предложил ей за меня выйти… Разница в годах ужасная, но я всё более и более убеждаюсь, что она будет счастлива. Сердце у неё есть, и любить она умеет».
Я и в восемнадцать лет знала, что моя любовь к сорокалетнему Андрею Николаевичу была чисто головной, идейной. Это было скорее обожание, преклонение перед человеком, столь талантливым и обладающим такими высокими душевными качествами. Это была хватающая за душу жалость к человеку, никогда не видевшему радости и счастья. Но всё это были высокие чувства, мечты, которые могла разбить наступившая суровая действительность, – семья покойного брата не приняла меня, потому что я отняла «их внимательного и щедрого Андрюшу». Благодаря окружающей обстановке для меня мало-помалу наступило время недоразумений и сомнений. Хотя я и горячо любила мужа, но гордость не позволила бы мне остаться с ним, если бы я убедилась, что он меня больше не любит. Мне даже представлялось, что я должна принести ему жертву, оставить его, раз наша совместная жизнь, по-видимому, для него тяжела.
Разрыва, катастрофы, однако, не произошло главным образом благодаря решительности Андрея. Он сделал всё для перемены обстановки, для отъезда в Заволжье, подальше от домашних неурядиц, от безалаберной северодвинской жизни.
Андрей Николаевич называл потом этот переезд жизненно необходимым, хотя и тяжёлым шагом: «Я поехал, но уезжал я тогда со смертью в душе: в Заволжье я не верил, то есть я верил, что не приживусь там, – записал муж в дневнике о своих тяжёлых предчувствиях. – Один с юным созданием, которое с наивной радостью стремилось разделить со мной странническую жизнь, но ведь я видел, что в этой наивной радости много неопытного и первой горячки, и это меня смущало и мучило очень… Характер мой тяжёлый, и я предвидел, что она измучается. Правда, Ирина оказалась сильнее и глубже, чем я её знал…»
Мы поселились в Камышине, потом перебрались в Николаевск. Я держала мужа, по его собственному выражению, постоянно «в хлопочках, как малое дитя». В дневнике даже есть запись, проясняющая главную сущность нашего союза: «Я её дитя, да ещё иногда блажное».
Сокровенного на страницах дневника много: «И вот я убедился, что люблю её и что она единственная моя царица, и это после четырнадцати лет!» Или вот: «Она меня видит обыкновенно угрюмым и пасмурным. Таков я всегда был, издёрганный и испорченный судьбой». В следующей строке уже беспощаднее: «Хуже всего, что натура моя ползучая, всю жизнь я в людской грязи валялся».
Если б муж только был со мною откровеннее, может, семейная жизнь наша и не оставила бы после себя лишь пепел и обугленные палочки. «Сердце болит о ней, – писал Андрей, – я здесь перебрал всё, как она мучилась, как страдала, – и для какой награды?»
Впрочем, и в первые счастливые годы нашей семейной жизни у него в дневнике появлялось такое: «Она самолюбива и своевольна».
Когда я оставила его и уехала в Котово к младшей дочери Валюше, он записал: «Я от уединения стал мнителен. Тоска моя такая, что и не опишешь: забыл, как говорить даже, удивляюсь себе, если случайно произнесу громкое слово. Голоса своего вот уже четвёртую неделю не слышу».
Последние дни свои доживал он в деревне Берёзовка Даниловского района Волгоградской области. Он и родился в Берёзовке, правда, в той, что на Украине.







