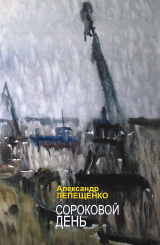
Текст книги "Сороковой день"
Автор книги: Александр Лепещенко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
Александр Лепещенко
Сороковой день
© ГБУК «Издатель», 2013
© Лепещенко А. А., 2013
* * *
Посвящается моей маме
«Люди, любите друг друга» – кто это сказал? чей это завет?
Ф. М. Достоевский
В Неопалимой Купине. Первая книга Александра Лепещенко
Александр Лепещенко родился в 1977 г. в г. Николаевске. Это и «лимфатический узелок на карте большой страны», и малая родина, где он рос, ходил в школу, мечтал. И кругом степь, «которой конца-краю нет» и которую он любит давно.
Публиковаться автор «Сорокового дня» начал почти сразу после армии – кстати, многие впечатления от ростовской стройбатовской жизни впоследствии легли в основу и этой книги. Как вспоминает сам Лепещенко, «диплом юриста с отличием открыл ему дверь… в редакцию районной газеты „Заволжье“ (2001). Корреспондент, заведующий отделом, ответственный секретарь, главный редактор. Множество историй было услышано за эти годы, три научные экспедиции по Чумацкому шляху (в качестве журналиста), наконец учёба в университете. Начал с рассказов. Писал мало, урывками…»
Но и этой малости хватило, чтобы в 2005 году принять участие в III слёте молодых писателей России «Дети Солнца», проводимом Московской городской организацией Союза писателей России и Литературным институтом имени А. М. Горького при информационной поддержке «Литературной газеты». Как вспоминает автор, «из сотен рукописей было отобрано около тридцати. Отбор жёсткий, поскольку сам факт участия – уже признание. По итогам Всероссийского слёта работы участников были опубликованы в „Московском вестнике“. Ректор литинститута Сергей Есин пригласил меня учиться в свою мастерскую прозы. Но отделению прозы Литературного института я предпочёл факультет филологии и журналистики Волгоградского государственного университета (был уже на третьем курсе). Впрочем, Сергея Николаевича Есина считаю своим наставником в литературе». Именно автор известного романа «Имитатор», разбирая рассказы молодого человека, написал: «Саша, дорогой, я надеюсь, что мы ещё увидимся, повод для этого – твоя проза…»
Александр Лепещенко возглавлял редакционные коллективы николаевской и камышинской газет – «Заволжье» и «Диалог». Он лауреат премии имени Виктора Канунникова (2009), член Союза журналистов России. С 2007 года печатается в «толстом» литературном журнале «Отчий край».
«Сороковой день» – первая полновесная книга молодого писателя. «Повествование в рассказах» – так определяет ее жанр сам автор. Действительно, книга состоит из шестнадцати относительно небольших рассказов, формально связанных между собой героями, чьи жизни и судьбы разнесены во времени и пространстве. И тем не менее перед нами цельное, законченное произведение, фабульное действие которого отступает на второй план перед незримым, неосязаемым, но необыкновенно сильно выраженным единством философским, метафизическим. Герои «Сорокового дня» – наши земляки, действие книги в большинстве своем разворачивается в Волгограде и городах нашей губернии, родных местах самого автора. Каждый рассказ – словно небольшой очерк, зарисовка, штрих, эпизод из жизни простого человека, встречающего – подчас даже «случайно» – на своем пути героя из совершенно другого рассказа, и этот монтажный метод перекрестных отсылок (Александр Лепещенко неоднократно признавался, что любит кино и сознательно использует кинематографические приёмы – fash-back, крупные и мелкие планы) рождает искусную иллюзию реальной жизни, цельную картину «бытия маленького человека». Нельзя не отметить, что этот прием автор сознательно позаимствовал из знаменитого цикла Оноре де Бальзака. Как признается автор, «замысел „поселить“ этих героев на страницы одной книги оформился благодаря „Человеческой комедии“ Бальзака». Персонажи книги «Сороковой день» имеют прототипов. Например, Игнат Топорков – бывший разведчик Алексей Колесников из села Очкуровка Николаевского района; Раиса Алексеевна Безрукова (Диденко) – бабушка автора книги; Алексей Николаевич Калинин – прадед; Евгений Опоченин (Гудименко), Евгений Торянников, Евгений Игоревич Якушев (Переверзев), Андрей Гуськов (Николай Васильевич Глушко) – друзья. Некоторые персонажи вымышленные. Это Верка и Лиза Иконкины, Сева Шульгин и юродивый Владка, Настасья Млечко и Степан Елагин. Ещё несколько персонажей – это собирательный образ. Среди них Алёша Безруков, профессор Смирнов, Марина Крещевникова, Андрей Касилов и Митя Кольчугин. Есть в книге и личности исторические – Александр Родимцев и Тихон Бельский. Но главное в «Сороковом дне» не это. Для автора создание – пусть и мастерское – иллюзии жизни не представляется самоцелью. В центре повествования находятся отнюдь не события и даже не жизненные коллизии героев. Основу книги составляет описание бытия человеческого духа. Духа, изгнанного из столиц, из дорогих гипермаркетов, из фирм и бирж, с широких бульваров и площадей, с подиумов и концертных залов, растоптанного, раздавленного, ненужного, казалось бы, исчезнувшего навсегда, но сохранившегося каким-то немыслимым чудом на самом краешке жизни – там, у далеких рыбацких костров, в темных стенах полуразрушенных домов глухих волжских деревень, у инвалидных кресел, в невнятном бормотании юродивых, у потемневших окладов старых икон, в глазах любящего и готового пожертвовать всем ради любимого человека…
И оказывается, что свет этих далеких костров, мерцание в сумерках от спичек прикуривающих сезонных работяг, огни уходящих в вечность поселков, огненный крест, очерченный перстами монастырского блаженного, суть одно – это есть свет Неопалимой Купины, в пламени которой горят, но не сгорают дух и жертвенность, уже забытые, но сохраненные на сокровенных берегах памяти и любви. «Сороковой день» – это книга-напоминание… Напоминание о том, что где-то осталось еще что-то настоящее, что-то человеческое, без чего и людьми мы больше называться не сможем…
«„Люди, любите друг друга“ – кто это сказал? чей это завет?» – этот эпиграф из «Сна смешного человека» Ф. М. Достоевского был взят не случайно. Как сказал Александр Лепещенко о своей книге: «Я хотел напомнить людям о том, что они люди». И это ему сполна удалось.
Александр МЛЕЧКО, доктор филологических наук, заведующий кафедрой журналистики Волгоградского государственного университета
Отрезанный ломоть

I
Заключённые четвёртой исправительной колонии неделю работали в Ковалёвке. По утрам, чертыхаясь, они рассаживались на лавках в бортовом ЗИЛе и уезжали из Ростова-на-Дону; днём мостили дорогу, а к вечерней поверке, угрюмые и раздражённые, возвращались назад. Не будь конвойных с автоматами, заключённые мало чем отличались бы от шабашников, тянувшихся летом в эти края за деньгой.
Начальство «четвёрки», напав однажды на золотую жилу, теперь бросило зэков её разрабатывать. Кольчугин знал это. А кто в колонии не знал-то: разве что священник, отец Алексий?
Кольчугин слыл первым каменщиком среди мастеровых. Когда работы для его кирки не было, он корячился со всеми. Теперь вот дорогу в Ковалёвке заканчивал. Заключённые, понимая, что дел осталось на полдня – не больше, расслабились. Кто-то часто и молча курил, кто-то словами случайными, обидными, злыми сыпал:
– Чё ты хочешь, Кольчуга?
– А чё ты можешь?
– Могу рёбра тебе обломать.
Дмитрий решил не спускать борзому зэку. В колонии умение задавить словом уважалось. А Кольчугин талантом давить обладал – не отнимешь. Фразы цедил он не то чтобы нехотя, скорее неторопливо, с достоинством; единожды высказавшись, стоял на своём стеной…
– А можешь и обломаться, бычара, – не порывисто, но твёрдо сказал Кольчугин. Ни один лицевой мускул его не дрогнул, лишь глаза цвета жёлудя потемнели, стали похожи на цыганские.
– Смотри, за базар ответишь!
– Чё, Ява, смотрящим сделался?
– Не грузи меня, зэк.
– Грузят лохов и проституток…
Как ни странно, мастеровым такие задёры были по душе: с ними время не сочилось по капле и работа не казалась столь тяжёлой. Порычав друг на друга, сплюнув чёрным под ноги, люди снова принимались раскидывать липнущий к лопатам асфальт.
…Тучи, сизые и тёмные, надвинулись на Ковалёвку. Зарокотало. Как перед грозой, в воздухе запахло огурцами. Неожиданно, смело и ярко блеснула красноватая зарница и раскрыла полнеба. И опять загремел дальний гром. В лобовое стекло ЗИЛа шумно застрекотали крупные, тяжёлые капли. Минут через сорок, через час зелёная туша грузовика выползла с размытой грунтовки на трассу, и заключённых перестало болтать.
Сидящие у борта вытирали фиолетовую грязь с лиц. Кольчугин курил в глубине под тентом, укрывая сигарету широкой, как блюдце, ладонью. Он глядел в остекленевший коридор дождя, блестевший за грузовиком, и думал о последнем письме Ольги. В щели за спиной мокро сёк ветер.
«Напишу, что очень рад был получить её буковки, – царапнула его мысль, – а ещё, чтобы не вздумала опускать руки, потерпела, дальше легче будет… и обязательно про волосы… чтобы ничего с ними не делала… я хочу увидеть её косу…»
II
Вечер прошёл в колонии, как обычно. Дежурный офицер сводил зэков на ужин, пересчитал и закрыл в бараке. Перед отбоем Кольчугин выцедил кружку чифира, долго ворочался на жесткой шконке, потом встал – до окаянства захотелось курить. В темноте взял с тумбочки сигареты, нашарил письмо и пошёл в бытовку.
Сначала залитая светом бытовка показалась ему пустой, но в углу зашуршало, и он заметил Огульца. Похожий на свое отражение в чайнике, Огулец выглядел испуганным. Коротконогий горбатый дагестанец быстро заварил Капитановскому чай и мышью шмыгнул в дверь. Кольчугин, проводив его взглядом, закурил, склонился над письмом и стал разбирать знакомые строчки. Напоминавшие муравьёв буквы были выведены каллиграфическим школьным почерком. Отличалась лишь «д»: всюду стояла она палочкой вверх и жизнерадостно тянула за собою строки. Оля Закатова писала:
Милый Димочка!
Не зову тебя «дорогой», поскольку считаю, что «милый» всё же бескорыстнее. Ты не обращай внимания на мои умствования. Знаешь, насидишься весь день в каталке, как прикованная, а потом нет-нет да и такое выдашь!
Ты вот с лётчиком Маресьевым меня сравниваешь, боевой дух поднимаешь. Но, Димочка, какой же я герой? Маресьев тот без ног летал, фашистов бил. А я лишь назло врачам с костылями научилась ходить да в каталке прямо сидеть. Ну ещё институт не бросила. Порой две недели сессии в Дантов ад превращаются. Ты не подумай, не от боли в ногах. Когда болят, я, наоборот, радуюсь: значит, они что-то чувствуют, оживают.
Мучаюсь же я эти недели потому, что не хочу казаться одногруппникам и профессорам ущербной. Чтобы одни из-за ущербности этой глаза от меня прятали и умолкали, когда я на ходунках мимо тюхаю, а другие – оценки ставили снисходительно, иногда и не спросив по билету.
Занесло меня, милый, но я уж не буду переписывать заново.
Ты просил разузнать о твоём имени, я кое-что нашла у Флоренского. По-гречески Дмитрий – плод земной. В тебе весьма определенно сказывается связь с землёй, а через землю – с Землёй-Матерью. Но насколько первая очевидна и выражена, настолько же вторая живёт в тебе, как тончайший привкус, и преимущественно в детстве. Скорее, даже материнство Земли вьётся около тебя, милый, и самим тобой смутно чается, как заветная и дорогая, но почти утраченная святыня детства.
Помнишь, ты писал, что после училища хотел идти трактористом в колхоз, да дружки в город сманили? А может, ещё не утрачена связь с землёй? Ты не думай, Дима, что я в деревню тебя зазываю. Вот через месяц вольную получишь, в Ростове устроишься – его ты знаешь теперь. Но мне просто подумалось, что земля душу твою изувеченную лучше всего исцелит.
Милый, ты прости мне рассуждения глупые. Только я точно знаю, что душа болит так же, как тело. Ее знобит, она облегчения ищет и покоя.
Бог мира да будет с тобой! Не обижайся, пиши!
Твой друг Закатова Оля.
«За что обижаться-то? Ты и не представляешь, дурочка, как одно лишь слово твоё уже исцеляет».
Окурок обжёг Кольчугину пальцы, он затушил его и надолго задумался.
III
Время от времени заключённые с затаённой надеждой жевали слух о снятии с должности начальника «четвёрки». Кто его запускал в колонии и зачем, дознаться было невозможно: слух обрастал новыми подробностями, но Кукуева почему-то не снимали.
С нетерпением ожидалось и злорадно обсуждалось очередное «снятие» начальника и накануне Дня России. Однако надежды зэков вновь не сбылись: 12 июня майор Кукуев изгнан с позором не был, более того, даже получил от руководства медаль.
«Индюшина!» – скрипели зэки, как немазаные петли.
Большой птичий кадык и впрямь делал Кукуева похожим на индюка. Майор знал свою кличку, но вида не подавал. Нелюбовь между ним и зэками обоюдной была. Начальник «четвёрки» не упускал случая прижучить, как он выражался, «этот сброд». Провинившихся ждал карцер.
Не трогал ненавистный майор лишь строительную бригаду – она ему безбедную старость обеспечивала. Правда, доказать махинации начальника со стройподрядами ни один заключённый не смог бы. Иван Алексеевич Кукуев, осторожничая, никогда ничего лично не подписывал…
Будоражащий колонию слух Кольчугин принял равнодушно: схоронившись в свою скорлупу, он мыслями был не в казённом доме, а в полутёмном, пропахшем печной сажей деревянном домишке на краю деревни Берёзовка. Он был с Ольгой. По письмам только и знал, как живёт она. Знал, что семья Закатовых тратит две инвалидные пенсии – Олину и отцовскую, а также зарплату мамы-почтальона на врачей, лекарства и инструкторов по физкультуре.
«Как я познакомился с ней? Со скуки это вышло или нет?.. Познакомились мы два года назад. Да, точно. Я отсидел уже половину своего срока: подломил тот злосчастный магазин… Она пять лет провела в инвалидной коляске.
Она написала статью в журнал «Ваши истории». Я прочел и отправил письмо «на деревню девушке» по тем скудным данным, которые были в журнале. А оно почему-то дошло.
«Сейчас я могу сгибать ноги в коленях и шевелить пальцами, а это большие достижения, – писала в своей статье Ольга. – Я уверена, что пройдёт ещё время, и я буду ходить самостоятельно».
Позже она рассказала мне, как ударно, без троек, окончила школу, поступила на свой истфак. Сдала первую сессию, в первый раз приехала домой на каникулы. А перед самым отъездом… не смогла встать на ноги. Это теперь врачи кое-как объяснили ей и самим себе, что, мол, какая-то инфекция, сужение кровеносных сосудов… А тогда Оля просто обнаружила, что половины её как будто нет…
Первый раз я чёрт-те что накарябал ей, – устыдил себя Кольчугин. – Кажется, плакался и оттого подло выставился: ломтём отрезанным назвался. Кто-то вон «пятнашку» мотает и ничё, крокодиловы слезы не льёт».
«Когда ты мне написал, я сразу решила ответить, – припомнил Дмитрий так поразившее его тогда откровение девушки. – Чтобы поддержать. Я знаю, как бывает с друзьями: они рядом, пока у тебя всё в порядке. А попадёшь в беду – не доаукаешься. Рядом оказываются совсем другие люди, от которых и не ждал никакой поддержки».
«Другие – это точно, – согласился Кольчугин. – Где они, мои прежние кореша? Нету их! Рядом только Капитановские, Явы да Огульцы». Мысль эта раздражила парня, он решил думать лишь об Ольге, её новом, ещё не прочитанном письме.
IV
Дмитрий нахлопал в кармане робы плотный, с портретом Шостаковича конверт. Раскрыл его.
Вместе с письмом Закатова прислала и свою фотографию. Ту самую, из «Ваших историй», ту, что зацепила его ещё два года назад. Он внимательно посмотрел на неё.
«А вот и знакомые ямочки на щеках. Брови светлые, тонкие, как у актрисы или ангела… Странно, что я подумал так: ведь я в жизни не встречал ни актрис, ни ангелов! Волосы… Какие у неё волосы? Тоже светлые. Нет, не смогу выразить. Но, наверное, шелковистые. И, может быть, пахнут розой. Да она и похожа на белую розу. А глаза? Глаза ясные, кроткие… Я таких никогда не видел… Какая же всё-таки она красавица! Невероятно, что судьба ей назначила инвалидную коляску».
Кольчугин пристроил фотографию на тумбочку и взял письмо. Строки чёрным бисером по белому росли и росли.
Здравствуй, мой милый!
Как же я обрадовалась твоему давешнему письму. Как ты могуче рассуждаешь о вере и свободе. Я несколько раз то место перечитала: в нем нет патетики, оно из сердца твоего вышло. Видимо, ты много об этом думал и прав конечно: надо веровать в Бога, мой милый.
И ты делай это, как ангел-хранитель твой, Дмитрий Донской, делал. Ведь в ночь перед битвой Куликовой князю было знамение: перед ним предстал образ святителя Николая, который предрёк ему победу. Обрадованный проявлением столь высокого заступничества, Дмитрий уверовал в успех и воскликнул, по словам летописца: «Сие вся угреша сердце мое!»
Как рассказывает житие[1]1
…Как рассказывает житие. – Одним из первых памятников эмоционально-экспрессивного стиля является «Слово о житие великого князя Дмитрия Ивановича, царя русского», написанного, по мнению филолога Т. В. Черторицкой, сразу после смерти героя Куликовской битвы в 1389 году. Ольга Закатова приводит в письме часть этого текста.
[Закрыть]: «И, восприняв доблесть Авраама, помолившись Богу, пошел он против поганого, как древний великий князь Ярослав Владимирович, на злочестивого Мамая, второго Святополка. И встретил его в татарских полях, на Дону-реке, и сошлись полки, как сильные тучи, блеснуло оружие, как молния в дождливый день. Ратники в сече врукопашную взялись, и по долинам кровь потекла, и Дон-реки течение с кровью смешалось, и головы татарские, как камни, падали, и трупы поганых были, как дубрава посеченная.
Многие достоверно видели ангелов Божьих, помогающих христианам. И помог Бог великому князю Дмитрию Ивановичу и сродники его, святые мученики Борис и Глеб. Окаянный же Мамай побежал от лица его, треклятый Святополк к погибели устремился, нечестивый Мамай безвестно погиб. Великий же князь Дмитрий Иванович возвратился с великою победой, как прежде Моисей Амалика победив. И была тишина в Русской земле! Так враги его посрамлены были».
Пусть и мои слова, Дима, согревают сердце твоё. Знай, я мечтаю о твоей свободе. Знай, я верую: ты – не отрезанный ломоть и не вернёшься больше в колонию. А Кукуев ведь оттого и терзал душу твою словами, что сладенько жить привык. Но прости его. Слаб он и не ведает, что творит.
А ты прошел колонию и победил. Себя победил! Не сегодня, так завтра ты станешь свободным.
Приветствую в мире свободных тебя, мой милый!
Твоя Оля.
V
«Уважаемые москвичи и гости столицы, администрация Павелецкого вокзала приносит вам извинения за доставленные неудобства и напоминает, что в зале ожидания работает кинолог с собакой», – донесся до Кольчугина предупредительный голос из вокзальных динамиков.
На втором пути промычал скорый поезд. Легкий взметнулся ветер. Съела глаза прибывшим жёлтая пыль. Дмитрий вышел из вагона, поправил ремень спортивной сумки, резавший плечо, и пошёл вдоль плавящегося на солнце перрона.
– Эй, братела!
Кольчугин обернулся: Лёшка Борщ, освободившийся полгода назад и обосновавшийся в Москве, силясь улыбнуться, двигал чингисхановскими скулами покровителя.
Дмитрий опустил сумку на перрон и, улыбаясь, словно именинник, обнял приятеля. Подвижный, как ртуть, Лёшка взял мотор до общаги. Пока доехали, Лёшка закончил болтать о своем столичном житье-бытье и ждал рассказа от Кольчугина.
– Как тебе в мире свободных, братела?
– Свободных?
– Ну да, в златоглавой… А чё?
– Да так, вспомнилось… – Кольчугина придавило уныние.
На секунду-другую он замолчал, потом сказал:
– Два чувства во мне, Лёха: первое – будто весна, девки и всякие там шорохи; а то вдруг в душе полное опустошение, хочется скорее прийти домой. И очень не хочется встретить по дороге домой знакомых.
– Ровно ты начал, братела, да криво кончил. Не грузись и девок моих сегодня не грузи…
– Лёх…
– Расслабься, говорю… Я тебя с такими цыпочками сведу!
Цыпочки. Шумные вечерухи. Замесы с армянами – соседями Борща по общаге. Будни, заполненные нескончаемыми московскими стройками. Всё это захлестнуло Кольчугина и на время успокоило его душу.
Рождество встретил он с новой знакомой – Роксаной Ахмаковой. Эта честолюбивая своевольная красавица даже в норковой шубке походила на солистку балета – до того была изящна. Каждым движением тела, каждым поворотом белокурой головки она будто говорила: любуйся мной. И Кольчугин не мог в такие мгновения отвести от нее взгляда, не мог не любоваться ею, не обожать.
Когда он оставался один, образ Роксаны и тогда тревожил его. Не видя её смеющейся, а лишь представляя такой, он понимал, что глаза её синие на самом деле никогда не смеются, не улыбаются, не грустят: они просто холодно и безучастно взирают. Но и это казалось ему тогда невероятным счастьем. Только вот таяло оно первым снегом, до чёрных троп.
«Пару дней меня не беспокой, закончу с делами, сама отзвонюсь», – мягко, но настойчиво мурлыкала Роксана и отстранялась, если он пытался обнять её.
Она не звонила неделю, а когда объявлялась, то вновь поручала Кольчугину выгуливать пекинеса, забирать из химчистки платья, наконец просто развлекать её.
И он старался как мог.
– Сегодня в «Праге» «Гарпастум»[2]2
…Сегодня в «Праге» «Гарпастум»… – Речь идёт о фильме, снятом Алексеем Германом-младшим в 2005 году. В центре повествования – история друзей, страстно увлечённых футболом. «Harpastum» (лат.) – античная игра в мяч. Постепенно всё опрокидывается в драму: один из героев погибает, уходит в армию другой, а возвращается уже в 1918 году. Россия между Сциллой и Харибдой – ввергнута в Гражданскую войну.
[Закрыть] с Чулпан Хаматовой.
– О, я хочу это посмотреть!
– Ты уверена?
– Скорее да, чем нет.
– Но ты ведь опять заснёшь.
– Мой ласковый и нежный зэк, я хочу…
После кино она обычно хотела в бар или клуб и только потом, быть может, домой. Иногда красавица позволяла Кольчугину остаться у неё, а утром, сухо простившись, снова исчезала из его жизни.
Он знал, что Ахмакова дорожит лишь своим рекламным агентством, что она никогда не полюбит его, бывшего зэка, и что любовниками они тоже скоро перестанут быть.
Всё и вышло так. В начале июня Роксана сообщила ему о своей помолвке с господином Вульфом: «Он мой партнёр по бизнесу, с ним мне будет спокойнее, и ты должен это понять…»
В тот вечер Кольчугин напился вместе с Лёшкой.
– Таким цыпам только с деньгами спокойнее, – кинул захмелевший Борщ.
– Мне их чё теперь, рисовать?
– Не-е-е, братела, снимать.
– По-я-сни.
– Ещё по одной – тиснем! – мотнув кудлатой головой, Борщ потянулся за бутылкой.
– Нет, ты по-я-сни.
Лёшка взглянул покровительственно.
– По-я-сняю. Лохов у обменников надо лущить.
– Ты чё трёшь, паскуда? – Кольчугин, неожиданно протрезвев, почувствовал, что приятель его не пьян, а только кажется таковым.
– Это же семечки: грызи да шелуху плюй, – не смутился Борщ.
Уже через месяц Кольчугина и Борща за разбои объявили в розыск.







