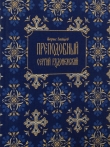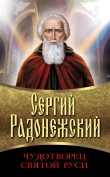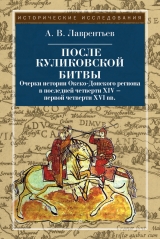
Текст книги "После Куликовской битвы"
Автор книги: Александр Лаврентьев
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Во второй раз в Константинополь Федор Симоновский отправился в 1386 г., и затем его имя упоминается только в 1390 г., год спустя после кончины Дмитрия Ивановича. Весной 1390 г. в Москву, во второй раз и теперь насовсем, вернулся митрополит Киприан, принятый новым великим князем Василием Дмитриевичем «с великою честью» и тогда же «приидоша с нимъ епископи русскые, коиждо на свою епископью» и среди них «на Ростовъ… Федоръ архиепископъ, ему же дастъ патриархъ в Цариграде архиепископьство»[340]340
ПСРЛ. Т.15. Стб. 152.
[Закрыть]. Последние годы жизни архиепископ провел у себя в епархии, где скончался в 1394 г. и был погребен в кафедральном Успенском соборе Ростова[341]341
Книга, глаголемая Описание о Российских святых… Дополнена биографическими сведениями графом М. В. Толстым. М., 1887. С. 96.
[Закрыть].
Таким образом, если Федор Симоновский находился четыре года в Константинополе, выехав из Москвы в 1386 г., то не позднее времени его отъезда обязанности духовника великого князя должны были быть в очередной раз возложены на кого-то иного. Скорее всего, именно тогда духовное попечение о Дмитрии Ивановиче принял на себя дядя Федора Симоновского, преп. Сергий Радонежский. Троицкий игумен оставался великокняжеским духовником вплоть до кончины великого князя в 1389 г. и в этом качестве свидетельствовал его «грамоту душевную».
Возвращаясь к единственному документальному свидетельству принадлежности Дмитрия Ивановича «покаяльной семье» троицкого игумена, духовной 1389 г., вспомним, что ее свидетельствовали не один, а два «отъци», игумен Сергий и некий игумен Севастьян, более в источниках не упоминаемый. Судя по всему, появление в числе великокняжеских духовников Севастьяна стало результатом стечения обстоятельств: обитель, в которой подвизался преп. Сергий, находилась вдали от великокняжеского двора в Кремле, где прошли последние часы жизни Дмитрия Ивановича.
Великий князь скончался 19 мая «долго вечера в два часа нощи»[342]342
ПСРЛ. Т. 15. Стб. 156.
[Закрыть] т. е. на исходе дня[343]343
Прозоровский Д. О старинном русском счислении часов // Труды 2-го археологического съезда в Санкт-Петербурге. СПб. 1884. В.2. С.171.
[Закрыть], причем так неожиданно, что даже, в отличие от всех князей – предшественников на московском столе, не успел на смертном одре принять иноческий постриг[344]344
Перед кончиной не был пострижен только Юрий Данилович, но по вполне понятным причинам – он был убит в 1325 г. в Орде. Об устойчивости традиции пострижения в иноческий чин великих князей и царей см.: Cherniavsky M. Tsar and People. Studies in Russian Myths. New Haven; L, 1961. P. 34–35.
[Закрыть]. Высказывалось мнение, что перед смертью Дмитрия Ивановича состоялось последнее свидание тяжелобольного князя с его духовником[345]345
Класс Б. М. Избранные труды. Т. 1. Житие Сергия Радонежского. С. 36.
[Закрыть], однако летопись сообщает всего лишь, что преп. Сергий Радонежский присутствовал в Москве на отпевании и погребении великого князя, имевшем место на следующий день, 20 мая[346]346
«И… положиша его в церкви святаго архангела Михаила… Бе бо ту… и Сергии игуменъ… и инии мнози» (ПСРЛ. Т.15. Стб. 156).
[Закрыть].
Очевидно, преп. Сергий в момент кончины своего духовного сына находился в Троице, и срочно исповедовать и причащать Дмитрия Ивановича пришлось некоему игумену Севастьяну, настоятелю, вероятнее всего, кремлевского Чудова монастыря[347]347
Во втором кремлевском монастыре, Спасском, с момента его основания была учреждена архимандрия. Впрочем, в исповедальной практике XIV в. известны случаи наименования в духовных грамотах игуменами не только настоятелей монастырей, но и духовников из рядовых монахов (Смирнов С. Древнерусский духовник. С. 10–11,21, 39).
[Закрыть].
Если имя второго игумена действительно было внесено в великокняжескую духовную в связи с экстраординарными обстоятельствами, в последнюю минуту и при окончательном редактировании документа, то в связи с этим уместно вспомнить позднее, но любопытное свидетельство, подробно описывающее механизм «свершения», в данном случае, царского завещания. В 1553 г. внезапно разболелся царь Иван Васильевич, «яко многим чаяти: к концу приближися. Царя же и великого князя дьяк Иван Михаилов (Висковатый. – А. Л.) воспомяну государю о духовной; государь же повеле духовную свершити, всегда бо бяше у государя сие готово», после чего духовную срочно «свершили», дабы еще при жизни завещателя привести подданных к крестному целованию наследнику престола[348]348
ПСРЛ. М., 2000. Т. 13. С. 533. Достоверность этого эпизода, содержащегося в приписке к основному тексту Царственной книги, неоднократно подвергалась сомнению (Граля И. Иван Михайлов Висковатый. Карьера государственного деятеля в России XVI в. М., 1994. С. 106–108), что не отменяет факта существования в царской канцелярии написанного заранее текста духовной грамоты.
[Закрыть]. Из изложения событий в Царственной книге, как видим, следует, что текст духовной грамоты пребывал в царской канцелярии в постоянной готовности, и дело было только за тем, чтобы внести в него последние коррективы («свершити»), прежде чем завещание станет юридическим документом.
Ивану Грозному в момент болезни было всего двадцать три года, но его духовная уже существовала в царской канцелярии притом, что летописи не сообщают о каких либо серьезных заболеваниях царя ранее 1553 г. Великому князю Дмитрию Ивановичу, пра-пра-прадеду Грозного, в 1389 г. почти исполнилось сорок. Мало того, что возраст великого князя по русским понятиям того времени был достаточно почтенным[349]349
Обычная продолжительность жизни мужчины в XIV в., дай несколько столетии позже, составляла 30–35 лет. Подробнее: Козюба В. Средняя продолжительность жизни взрослого населения Древней Руси (историко-археологический и демографический аспекты) // Переяслав-Хмельницький державний педагогiчний унiверситет им. Г. Сковороди. Наукові записки з Украіньскоі історii. 2005. Вып.16. С. 125, 127.
[Закрыть] и уже по одному этому предполагал какие-то шаги по составлению завещания. Известно, что незадолго до кончины Дмитрий Иванович «разболеся и тяжко ему вельми бе», но потом наступило облегчение, после которого князь «пакы в болшую болезнь впаде», в результате чего и скончался[350]350
ПСРЛ. Т. 25. С. 216.
[Закрыть]. Так что текст духовной к маю 1389 г., скорее всего, уже существовал, в него было вписано имя царского духовника, преп. Сергия Радонежского. Имя же игумена Севастьяна могло появиться в грамоте в последнюю минуту, в момент «вершения» документа и в связи с отсутствием в этот момент в Москве великокняжеского духовника, обязанности которого по приготовлению Дмитрия Ивановича к отхождению в мир иной вынужденно исполнил игумен Севастьян.
Очевидно, схожая с 1389 г. ситуация повторилась в 1410 г., когда в Москве «о Троицыне дни» скончался серпуховской и боровский князь Владимир Андреевич[351]351
ПСРЛ. Т. 15. Стб. 186.
[Закрыть]. Духовная двоюродного брата и соправителя Дмитрия Ивановича была составлена заранее[352]352
А. Б. Мазуров полагает, что в январе – начале марта (Мазуров А. Б. Когда князь Владимир Андреевич Храбрый составил свое завещание? // Мазуров А. Б., Никандров А. Ю. Русский удел эпохи создания единого государства. С. 226–232. Им же приведены иные мнения, высказывавшиеся в историографии по датировке завещания).
[Закрыть], но свидетельствована, само собой, только после кончины завещателя, причем, как и в выше приведенном случае, не только духовником Владимира Андреевича, игуменом Никоном Радонежским, но и вторым игуменом, Саввой Спасским[353]353
ДДГ. С. 50.
[Закрыть]. Судя по всему, преп. Никон в 1410 г., как в 1389 г. преп. Сергий, не успел приехать к моменту кончины своего духовного чада из Троицы, и исповедовал и причащал князя на смертном одре не великокняжеский духовник, а срочно призванный игумен Спасо-Андроникова монастыря[354]354
Григорий, архим. Список настоятелей Московского Спасо-Андрониева монастыря и судьбы их. М., 1895. С. 7.
[Закрыть].
Возвращаясь к цели поездки великого князя Дмитрия Ивановича в Троицкий монастырь перед выступлением на Куликово поле, заметим, что, коль скоро игумен Сергий в 1380 г. не был великокняжеским духовником, свидание, в таком случае, не выглядело обязательным. Но, как кажется, Житие преп. Сергия Радонежского недвусмысленно и достаточно четко объясняет смысл встречи двух знаменитых современников, инициатива которого целиком исходила от Дмитрия Ивановича.
Как помним, в стенах Троицкой обители игумен Сергий предсказал Дмитрию Ивановичу будущую победу над Мамаем и возвращение живым домой с поля сражения. Выше высказывалось предположение о получении в Москве «вести» о кончине Митяя в Царьграде не после, а накануне Куликовской битвы, перед выходом армии великого князя московского к верховьям Дона. Если это так, то известие должно было произвести огромное впечатление не только на великого князя, но и на всех современников. Смерть претендента, пышущего здоровьем мужчины,[355]355
В приведенной в летописном рассказе портретной характеристике Митяя, «высокъ, плечистъ, рожаистъ» (ПСРЛ. Т. 15. Стб. 125) особенно подчеркиваются выдающиеся физические качества великокняжеского духовника («рожаистъ» – ражий, т. е. дюжий, матерый, дородный, крепкий, плотный, здоровый, сильный. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1980. Т. 4. С. 12)
[Закрыть] буквально в двух шагах от цели долгой и тяжелой поездки, стала абсолютной неожиданностью, но не для всех. Согласно Житию преп. Сергия, игумен еще в 1379 г., до отъезда русской делегации предрек великокняжескому духовнику финал его путешествия: «Никако же сана въсприати ему (Митяю. – А. Л.)… но и еще Царскаго града не имат видети». Митяй на самом деле скончался в самом конце пути, буквально в двух шагах от цели, в судне на подъезде к порту столицы Византийской империи, Галате, не только не «въсприя» митрополичьего сана, но и действительно так и не увидев Царьграда.
Рогожский летописец объяснял неожиданную кончину Митяя единодушным неприятием его кандидатуры в среде русского духовенства, в связи с чем «вси…епископи и презвитери и священницы… Бога… молиша, дабы не попустилъ Митяю в митрополитех бытии, еже и бысть»[356]356
ПСРЛ. Т. 15 Стб. 147.
[Закрыть]. Один из житийных памятников даже конкретизирует форму «пассивного протеста» русского духовенства против протежируемого Дмитрием Ивановичем несостоявшегося митрополита – «епископи же со архимандриты и игумены и ереи…вериги железныя накладаше и неповинно смиряше»[357]357
Житие св. Федора архиепископа Ростовского. Сообщ. архим. Леонид. С. 13.
[Закрыть]. Однако единственное предсказание дальнейшего развития событий и судьбы Митяя принадлежит преп. Сергию, причем оно не только сбылось, но и отличалось, как сообщает Житие, поразительной конкретностью.
Важно подчеркнуть, что свои пророческие слова игумен произнес прилюдно, в стенах Троицкого монастыря, «рече всему множеству братии» и, следовательно, предсказание, так или иначе, стало достоянием гласности. В связи с этим не вызывает удивления то, что кончина Митяя, в чем не сомневались современники, случилась «по пророчъству святого Сергиа; «оттоле, – заключает Житие, – имаху люди святого яко некоего велика пророка»[358]358
Клосс Б. М. Избранные труды. Т. 1. Житие Сергия Радонежского. С. 369.
[Закрыть]. Так что получение в Москве «вести» о кончине Митяя, кроме всего прочего, подтвердило пророческий дар троицкого игумена.
В связи с этим часто обсуждавшийся, причем с интонацией, характерной скорее для современной эпохи, принципиальный вопрос, был ли преп. Сергий «идейным вдохновителем» Куликовской битвы[359]359
Ср.: Кучкин В. А. Свидание перед походом на Дон или Вожу. С. 53; Он же. О роли Сергия Радонежского в подготовке Куликовской битвы. С. 116.
[Закрыть], может быть разрешен в рамках церковного понимания дара пророчествования, которого сподобился святой старец и который с несомненностью был подтвержден в истории с Митяем.
В богословской науке такой дар оценивается как особая благодать, способность предвидения неких событий, совершенно, на первый взгляд, случайных, которые «не могут быть предусмотрены из настоящего и с несомненною достоверностью предсказаны…только по откровению Всемогущего существа»; «самым важным признаком того, что пророчество есть истинное… служит его исполнение», а «из числа свидетельств относительно пророчеств… наиболее важное значение имеют те, которые принадлежат лицам, бывшим непосредственными свидетелями как провозглашения, так и исполнения…пророчества»[360]360
Рождественский Н. П. Христианская апологетика. Курс основного богословия, читанный студентам Санкт-Петербургской духовной академии. Т. 2. СПб., 1893. С. 163–164, 168, 170.
[Закрыть].
В данном случае история с неожиданной кончиной Митяя, публично предсказанной преп. Сергием еще в 1379 г., до отъезда несосотявшегося митрополита в Константинополь, объясняет факт спешного, незапланированного и в каком-то смысле неожиданного визита великого князя в Троицу в преддверии будущего сражения, результаты которого на Руси мог предсказать только преп. Сергий Радонежский. Если пророческий дар игумена действительно получил недвусмысленное подтверждение, повторимся, накануне выступления русских войск из Москвы, и решение Дмитрия Ивановича о поездке в Троицкий монастырь к преп. Сергию принималось под свежим впечатлением сбывшегося предсказания судьбы Митяя, то в данном случае великого князя, разумеется, интересовал исход противостояния с Мамаем. Если выше изложенные предположения верны, то такая встреча могла состояться только в 1380 г. и в любом случае по получении известия о кончине на пути в Царьград великокняжеского духовника.
Несмотря на сбывшееся пророчество преп. Сергия победы великого князя Дмитрия над Мамаем отношения князя и игумена переменились только через пять лет после битвы на Дону. Это случилось к концу 1385 г. в связи с активным участием игумена в примирении московского и рязанского великих князей после захвата последним Коломны[361]361
Подробнее о взаимоотношениях великого князя и игумена: Кучкин В. А. Сергий Радонежский и борьба за митрополичью кафедру всея Руси в 70-80-е гг. XIV в. С. 358.
[Закрыть]. После безуспешной попытки «смирить» рязанского князя военным путем, о чем подробно рассказывалось в предыдущей главе, Дмитрий Иванович обратился «с молением» к Сергию Радонежскому, дабы побудить троицкого игумена отправиться «посолством на Рязань ко князю Олгу о вечном мире и любви»[362]362
ПСРЛ. Т. 15. Стб. 150–151.
[Закрыть]. Особого внимания в летописном рассказе заслуживает употребленное в летописи применительно к рязанской миссии преп. Сергия Радонежского определение «сам ездил»[363]363
ПСРЛ. Т. 15. Стб. 151 («Toe же осени… игумен Сергии… сам ездил на Рязань ко князю Олгу о миру»).
[Закрыть]. Троицкий игумен как посредник в межгосударственных переговорах, вообще, шире говоря, духовное лицо в ранге дипломата – явление для средневековой Руси уникальное.
Наши знания о русском посольском обычае этого времени слишком скудны, чтобы делать какие-то серьезные обобщения, однако хорошо известно, что дипломатическая практика второй половины XV–XVII вв. отмечает полную непричастность русского духовенства к посольским делам. Скрупулезный исследователь русского дипломатического этикета Л. А. Юзефович, правда, полагает, что ранее духовенство принимало участие в межгосударственных переговорах, но приводит единственный такого рода пример, и это как раз миссия преп. Сергия Радонежского к великому князь рязанскому Олегу Ивановичу 1385 г.[364]364
Юзефович Л. А. Путь посла. Русский посольский обычай. Обиход. Этикет. Церемониал.
Конец XV – первая половина XVII вв. СПб., 2007. С. 53.
[Закрыть]
Здесь, очевидно, сразу стоит отделить посольскую миссию от ситуаций, когда духовное лицо содействовало решению проблем светской власти, но собственными, церковными методами. В биографии преп. Сергия есть примеры такого рода, поездки игумена в Нижегородское и Ростовское княжества. Традиция церковного почитания преп. Сергия не разделяла подобные миссии («и с Резанским и с Нижегородцким великими князьми великому князю Дмитрию Ивановичю мир вечный устроив посолствомъ своимъ»[365]365
Книга чудес преп. Сергия. Творение Симона Азарьина // Клосс Б. М. Избранные труды. Т.1. Житие Сергия Радонежского. С. 468. «Посолствами» называет поездки и Никоновская летопись (ПСРЛ. Т. 11. С. 5, 86–87).
[Закрыть]), а В. А. Плугин причислил все три миссии к посольствам, охарактеризовав эту сторону деятельности игумена как «практически политическую»[366]366
Плугин В. А. Сергий Радонежский – Дмитрий Донской – Андрей Рублев. С. 73.
[Закрыть]. Однако нижегородская и ростовская поездки, совершенно очевидно, имели красноречивые формальные отличия от рязанской.
Надо сказать, что в отличие от поездки преп. Сергия в Рязань 1385 г., факт и, главное, время которой зафиксированы в летописном тексте и никаких сомнений не вызывают, оба предыдущие эпизода оцениваются в историографии весьма неоднозначно в силу непростой ситуации с источниками. Но, независимо от того, действительно ли преп. Сергий ездил в Ростов в 1363 г. мирить московского князя с ростовским Константином Васильевичем[367]367
Борисов Н. С. Сергий Радонежский. С. 106; Аверьянов К. А. Сергий Радонежский. Личность и эпоха. С. 110–115.
[Закрыть] или нет[368]368
Клосс Б. М. Избранные труды. Т. 1. Житие Сергия Радонежского. С. 59–60; Кучкин В. А. Сергий Радонежский и борьба за митрополичью кафедру всея Руси в 70-е гг. XIV в. С. 88–89.
[Закрыть], формально поездка выглядела как паломническая: игумен ходил «в Ростовъ къ Пречистеи и къ чюдотворцем поклонитися»[369]369
Повесть о Борисоглебском монастыре (около Ростова) XVI в. Сообщение Хр. Лопарева. СПб. 1892. (Памятники древней письменности. Вып. 86). С. 7.
[Закрыть] (сонм ростовских святых, мощи которых почивали в Успенском соборе, был в это время одним из самых внушительных на Руси[370]370
Книга, глаголемая Описание о Российских святых. С. 90–102.
[Закрыть]).
Также непроста история с нижегородской миссией преп. Сергия – в историографии дискуссионными остаются как сам ее факт, так и возможная дата[371]371
Подробный обзор историографии: Аверьянов К. А. Сергий Радонежский. Личность и эпоха. С. 133–138.
[Закрыть]. Однако даже если троицкий игумен и принял посильное участие в «смирении» князя Бориса Константиновича, действовал он не как великокняжеский посланник, а как лицо духовное и от имени другого духовного лица, митрополита Алексея.
Согласно рассказу Никоновской летописи преп. Сергий чуть ли не лично «затворил церкви» Нижнего Новгорода за ослушание[372]372
«Прииде… преподобныи Сергии… в Новгородъ в Нижнии… по митрополичю слову Алексеева… церкви все затвори» (ПСРЛ. Т. 11. С. 5).
[Закрыть], но как «технически» выглядел интердикт, хорошо известно из одного из посланий на Вятку митрополита Ионы второй четверти XV в., времени противоборства великого князя Василия Васильевича Темного и князей Галицкого дома. Предостерегая вятчан от участия в военных действиях против великого князя на стороне Дмитрия Шемяки, митрополит подробно описывает, как будут «затворены церкви» в случае неподчинения: «А не послушаете нас… и мы к вашим игуменом и попом и ко всему священству, к вашим духовным отцем писали и речьми приказывали, чтобы вас…не благословляли…и церкви бы Божии затворили и от вас бы отошли из земли вси вон. А не затворят, а… прочь не поидут, а имут у вас жити, и… имеем равно неблагословенных и проклятых в сеи век и в будущий»[373]373
Цит. по: Абеленцева О. А. Митрополит Иона и установление автокефалии Русской церкви. С. 370–371.
[Закрыть]. Здесь на самом деле решающую роль играет отказ пастве в благословении, священническом и архиерейском, а само «затворение» храмов проводит приходское духовенство. Так что игумен Сергий, если и побывал в Нижнем Новгороде, то только с посланием, письменным или устным, митрополита Алексия.
Посреднические миссии духовных лиц сами по себе не были чем-то необычным. Митрополит Фотий в 1425 г. ездил к звенигородскому и галицкому князю Юрию Дмитриевичу уговаривать его явиться в Москву на поставление в великие князья племянника, Василия Васильевича[374]374
ПСРЛ. Т. 25. С. 246. О. А. Абеленцева полагает, что Юрий Дмитриевич отказывался ехать в Москву «для заключения мира», а целью поездки к нему митрополита были «переговоры о мире» (Абеленцева О. А. Митрополит Иона и установление автокефалии Русской церкви. С. 205), однако формально князья не пребывали в состоянии «немира» – речь шла о предъявлении обоими прав на великокняжеский стол, но еще никак не военных действиях, требовавших формального примирения.
[Закрыть], а троицкий игумен Зиновий способствовал примирению в 1442 г. великого князя Василия Васильевича с Дмитрием Шемякой, остановив поход галицкого князя с союзниками на Москву «и не пусти их… и еха напередъ сам… и помири их»[375]375
ПСРЛ. Т. 23. М., 2004. С.151.
[Закрыть]. Если же речь заходила о собственно посольствах как таковых, в которых, как это имело место в Рязани конца 1385 г., обсуждались конкретные вопросы межгосударственных отношений, то в таких переговорах участвовало не духовное лицо, а светский архиерейский чиновник, митрополичий дьяк[376]376
Абеленцева О. А. Митрополит Иона и установление автокефалии Русской церкви. С. 358.
[Закрыть].
Так что миссия 1385 г. преп. Сергия в Рязань принадлежит к числу во всех отношениях неординарных для духовного лица действий.
Трудно сказать, когда великий князь уговорил игумена быть московским послом к великому князю Олегу Ивановичу. В Никоновской летописи приводится малодостоверный рассказ о личной поездке великого князя в Троицу с целью убедить преп. Сергия отправиться в Рязань[377]377
ПСРЛ. Т. 11. С. 87 («и молебная свершивъ… и святую братью накорми и милостыню даде и глаголаша с молениемъ… дабы шелъ от него… посолствомъ»).
[Закрыть]. Реально переговоры об участии преп. Сергия Радонежского в мирных переговорах с Олегом Ивановичем, надо согласиться с Б. М. Клоссом, не могли состояться ранее крещения в Чудове монастыре преп. Сергием сына московского князя, Петра[378]378
Клосс Б. М. Избранные труды. Т. 1. Житие Сергия Радонежского. С. 35.
[Закрыть]. Летописи указывают, однако, дату не крещения Петра Дмитриевича, а его рождения, день памяти апп. Петра и Павла, 29 июля[379]379
ПСРЛ. Т. 15. Стб. 150.
[Закрыть], дата же крещения и, следовательно, принятия преп. Сергием решения идти на переговоры в Рязань неизвестна.
Церковная практика признает разведение во времени имянаречения (назнаменования), следовавшего за рождением младенца, и его крещения[380]380
Подробнее: Булгаков С. В. Настольная книга для священноцерковнослужителей (сборник сведений, касающихся преимущественно практической деятельности отечественного духовенства). М., 1993. Ч. 2. С. 955–961.
[Закрыть], причем дата последнего целиком зависела от желания родителей и здоровья новорожденного. Давая в 1419 г. разъяснения псковскому духовенству, верно ли «жене, родившей детя, докели…не крещает дитяти, дотоле не дают молитвы очистительныя», митрополит Фотий писал, что «неподобно сие есть отинудь»: после рождения ребенка священник обязан прийти в дом роженицы и дать очистительную молитву «родительници и женам, прилучившимся на рожении том», после чего «наречет имя… младенцу в 8 день» и только «егда изволят родителя… и крестит его»[381]381
Памятники древнерусского канонического права. Стб. 416. Ср.: «А дети здоровых до 40 дни не крестятъ, аще болно́ толко родиться» (Цит. по: Смирнов С. Материалы для истории древнерусской покаянной дисциплины. С. 102), «аще детя 7 дни некрещено умретъ не болевъ, несть за се опитемъи. Аще же болно, в небрежении… оумретъ некрещено, год опитемъи… Аще минуло 6 недель, а умретъ некрещено, 3 лета опитемъи» (Там же. С. 91).
[Закрыть]. И много позднее, в XVII в., разведение во времени имянаречения, дававшегося младенцу духовником его родителей сразу по рождении, и крещения, дата которого целиком зависела от воли семьи и здоровья новорожденного, сохранялось в царском доме[382]382
«Как приспеет время родитися царевичю, и посылают по духовника, чтоб дал…женам молитву и нарек тому новорожденному младенцу имя… И после того бывают у царя крестины, в которой день не прилучитца, смотря по младенцову здоровью» (Котошихин Г. К. О России в царствование Алексея Михайловича. СПб., 1906. С. 15–16).
[Закрыть]. Так что временной разрыв между датами рождения и крещения мог быть и достаточно большим[383]383
Полемика вокруг даты рождения преп. Сергия выявила множество примеров, когда разрыв между датами рождения и крещения младенца мог быть достаточно продолжительным, иногда достигая семи недель. Подробнее: Кучкин В. А. Антиклоссицизм // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2002. № 2 (18). С. 121.
[Закрыть].
В данном случае дата крещения княжича важна потому, что, похоже, обращение к авторитету преп. Сергия было для московского князя вынужденным, своего рода крайней мерой. До троицкого игумена, как подчеркнуто в летописном рассказе, в Рязани уже не раз успели безрезультатно побывать другие посланцы Дмитрия Ивановича, «мнози ездили и не возмогоша утолити его (князя Олега Ивановича. – А. Л.)». Следовательно, до «моления», совпавшего по времени с крещением, сорвалось несколько попыток со стороны Москвы наладить мирный диалог. И если крещение Петра Дмитриевича по каким-то причинам имело место, например, в начале осени, то понятно, что на безуспешные попытки наладить дипломатический диалог с Рязанью у московского князя ушло достаточно много времени.
Так или иначе, но троицкий игумен отправился с посольством в Рязань в ноябре «на Филипово заговение», почти полгода спустя после разгрома московских полков рязанцами под Перевитском, поставившем точку в вооруженной стадии конфликта вокруг Коломны. И если верно высказанное выше предположение о том, что духовником великого князя преп. Сергий стал только в 1386 г., то все, что связано с рязанской миссией 1385 г., для взаимоотношений Дмитрия Ивановича и преп. Сергия Радонежского обретает особый смысл.
Рязанские переговоры, безусловно, стали беспрецедентным событием не только для московского князя, но и для троицкого игумена. Не будучи духовником московского князя, со времени кончины митрополита Алексея в 1377 г. постоянно оппонируя его церковной политике, преп. Сергий Радонежский счел все же для себя необходимым принять участие в примирении московского и рязанского князей, причем именно в качестве посла. Поездка в Рязань в начале зимы 1385 г. носила не пастырский, а редкий для духовного лица на Руси сугубо дипломатический характер и даже формально никак не была связана с устройством церковных дел. Нет никаких известий об обязательных в таких случаях визитах в церкви и монастыри, встрече с рязанским епископом[384]384
В известном справочнике П. М. Строева в интересующее нас время по Рязани указаны два епископа: Афанасий, хиротонисаный ранее 1378 г. и Феогност, поставленный митрополитом Пименом 15 августа 1387 г. (Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российския церкви. СПб., 1877. Стб. 413.). При этом в историографии существует глухое упоминание имени некоего епископа Феоктиста, поставленного на Рязань около 1385 г., «и во время его приходи посланником преподобный Сергий» (Воздвиженский Т. Историческое обозрение Рязанской иерархии и всх церковных дел сея епархии… М., 1820. С. 31, 287), источниками не подтверждаемое.
[Закрыть] и пр. Кроме того, в отличие от Ростова, храмы столицы Рязанского княжества не имели мощей святых общероссийского почитания[385]385
Среди пяти или шести святых Переяславля-Рязанского, почитавшихся местно, ни один, включая свт. епископа Василия, не попал в русские минеи и служебники ранее рубежа XVI–XVII вв.: Книга, глаголемая описание о Российских святых… С. 239–241. О свт. Василии: Сергий, архим. Полный месяцеслов Востока. Т. 2. Святой Восток. М., 1876. С. 94.
[Закрыть], так что трудно было найти даже формальный предлог для отлучки игумена из обители накануне Рождества – времени во всех отношениях для этого не подходящего. На переговоры семидесятилетний троицкий игумен отправился постом, в зимние холода, по святоотеческому завету пешком[386]386
ПСРЛ. Т. 15. Стб. 151. Все походы из монастыря старец всегда совершал пешим (Борисов Н. Сергий Радонежский. С. 111).
[Закрыть]. Обстоятельства беспрецедентной мирной миссии старца красноречиво говорят о том, что хозяином положения в этот момент была не Москва, а Рязань.
Ситуация, когда дипломатические переговоры должно было вести духовное лицо, порождала, очевидно, множество неожиданных, иногда чисто житейских коллизий. Так, монаху невозможно было остановиться на ночлег в великокняжеским дворце Переяславля-Рязанского. По легенде, игумен зимой 1385 г. жил за городом, в рязанском Троицком монастыре[387]387
Воздвиженский Т. Историческое обозрение Рязанской иерархии и всех церковных дел сея епархии… С. 313–314; Онже. Историческое обозрение Рязанской губернии, разделенное на пять периодов… М., 1822. С. 165.
[Закрыть]. Но очевидно для духовного лица, ведущего дипломатические переговоры, существовали и препятствия более серьзные.
Принципиальная сторона дипломатической практики заключалась в том, что договоренности скреплялись взаимными клятвами. Летописный рассказ как будто акцентирует внимание на том, что преп. Сергий действовал в первую очередь как лицо духовное, убеждал «кроткыми словесы и тихими речми и благоуветливыми глаголы» Олега Ивановича и смирял его легендарную гордыню (ораторско-проповедническое дарование троицкого игумена высоко оценивалось современниками и потомками[388]388
«Кто бо, слыша добрыи его сладостныи ответь, не насладися от сладость словесъ его?…Или кто, гневливъ напрасно, беседуа с нимъ, в кротость не приложися?» (Класс Б. М. Избранные труды. Т. 1. Житие Сергия Радонежского. С. 272).
[Закрыть]). Невозможно, однако, поверить в то, что в Рязани, как и на всяких посольских «съездах», не обсуждались конкретные условия заключения «мира вечного», взаимные или односторонние территориальные уступки (вопрос о Коломне и «месте Тула»), а также политические обязательства сторон, без которых миссия вообще теряла смысл. Дипломатические переговоры невозможно представить без взаимных обещаний и клятв. Данные духовным лицом, они, с одной стороны, всегда имели особый вес[389]389
Памятники древнерусского канонического права. Стб. 921–922.
[Закрыть], в том числе и в скреплении частноправовых актов[390]390
Смирнов С. Древнерусский духовник. С. 98, 102.
[Закрыть]. Но церковь безусловно порицала самый надежный вид клятвы – крестное целование духовенства[391]391
Успенский Б. А. Право и религия в Московской Руси // Факты и знаки. Исследования по семиотике истории. Вып. 1. М., 2008. С. 164–168.
[Закрыть]. В XVI в. под это осуждение подпадали даже дипломаты, ведшие переговоры за границей[392]392
Корогодина М. В. Исповедь в России XIV–XIX вв. С. 175–176.
[Закрыть]. Неудивительно, что дипломатическая миссия преп. Сергия в Рязань 1385 г. осталась, похоже, едва ли не единственным примером участия духовенства в дипломатических сношениях на Руси.
Так или иначе, в итоге переговоров преп. Сергия Радонежского с великим внязем рязанским Олегом Ивановичем между Москвой и Рязанью был заключен «мир вечныи», как полагал А. Е. Пресняков, оформленный письменным докончанием, до наших дней не сохранившимся[393]393
Пресняков А. Е. Образование Великорусского государства. С. 241. Прим. 2.
[Закрыть]. Понятно, что если такой договор и существовал, то оформлял его не преп. Сергий, но основные положения «мира вечного» не могли не быть обсуждены и согласованы во время рязанского визита старца.
Есть, однако, старая форма скрепления мирных отношений, в договорных грамотах русских князей никогда не фигурировавшая – династические браки. В историографии неоднократно высказывалось мнение о том, что последовавший в 1396 или 1397 гг. брак дочери московского князя, Софии Дмитриевны, и сына Олега Ивановича Рязанского, князя Федора Ольговича[394]394
ПСРЛ. Т. 15. Стб. 152 (1386); Т.25. С. 213 (1387).
[Закрыть] явился прямым следствием мирной миссии троицкого игумена в Рязань[395]395
Иловайский Д. И. История Рязанского княжества. С. 121.
[Закрыть]. Предположение совершенно справедливое, более того, задержка свадьбы как минимум на год после «взятия мира вечного» легко поддается объяснению.
Переговоры 1385 г. велись в условиях одного печального для обеих семей обстоятельства – родные братья жениха и невесты во время пребывания преп. Сергия Радонежского в Рязани находились в Орде в качестве заложников – аманатов. Речь идет о московском князе Василии Дмитриевиче и о Родославе Ольговиче Рязанском. Попутно отметим, что ситуация, при которой князья оказались в Орде, как кажется, дает лишний повод понять, что как мирные переговоры, так и рязанский брак дочери Дмитрия Ивановича были для Москвы делом вынужденным, если не актом отчаяния.
Оба князя оказались пленниками Тохтамыша, так или иначе, во время набега 1382 г. или в связи с его политическими последствиями. Одновременно в Орде, и по тем же обстоятельствам, оказались князья тверской Александр Михайлович и нижегородский Василий Дмитриевич Кирдяпа, насильственное удержание которых Ю. В. Селезнев связал с неустойчивостью власти Тохтамыша над русскими княжествами[396]396
Селезнев Ю. В. «А переменит Бог Орду…». С. 39.
[Закрыть].
О трех из четверых князей, московском, тверском и нижегородском, известно, что они являлись старшими сыновьями и, соответственно, наследниками великокняжеских столов. Относительно рязанского князя, всего трижды упоминаемого в летописях, бытует мнение, что он, единственный из князей-заложников, был не первенцем, а вторым сыном Олега Ивановича, старшим же – князь Федор Ольгович, за которого выдали московскую княжну, унаследовавший отцовский стол в 1402 г. после кончины отца[397]397
Экземплярский А. В. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период с 1238 по 1505 гг. Т. 1. С. 592.
[Закрыть].
Таким образом, следуя логике «аманатства» 1382 г., Родослав Ольгович, как представляется, тоже должен был быть старшим князем в семье Олега Ивановича, не унаследовавшим рязанского княжения только потому, что в момент кончины отца пребывал в плену в Литве. Если это так, то московская княжна София Дмитриевна в 1386 или 1387 гг. стала женой даже не наследника рязанского стола, а его младшего брата[398]398
Подробнее см. гл. 4 настоящего издания.
[Закрыть].
Возвращаясь к задержке со свадьбой, скрепившей московско-рязанский мир конца 1385 г., отметим, что брат невесты, Василий Дмитриевич, и брат жениха, Родослав Ольгович, бежали из Орды с интервалом в год – полтора, первый в 26 ноября 1385 г.[399]399
ПСРЛ. Т. 25. С. 212.
[Закрыть], второй в 1386 г. (месяца летописи не сообщают)[400]400
ПСРЛ. Т. 15. Стб. 153.
[Закрыть]. Подчеркнем, что русские летописи указывают месяц и день, когда старший сын Дмитрия Ивановича Московского бежал из ставки Тохтамыша, дата же возвращения Василия Дмимтриевича в Москву есть только в Супрасльской летописи: «прииде изо Орды… от царя Токтомоша (sic) генваря 19» следующего, 1386 г.[401]401
ПСРЛ. М.1980. Т.35. С.51.
[Закрыть] Так что преп. Сергий, находившийся в Рязани и вернувшийся в Троицу под Рождество (об этом ниже), не знал о счастливом избавлении брата невесты от плена. Возможно, согласно изначальной договоренности троицкого игумена с Олегом Ивановичем, свадьба ставилась в зависимость от возвращения обоих князей к семьям, что случилось не позднее 1387 г.
Заметим, что не позднее весны 1386 г. великокняжеский духовник Федор Симоновский надолго отлучился в Царьград, и, очевидно именно в этот момент обязанности «отца духовного» Дмитрия Ивановича принял на себя преп. Сергий Радонежский.
Выше писалось о том, что житийная и летописная биографии преп. Сергия во многом существуют параллельно. Однако рязанская миссия троицкого игумена 1385 г. нашла, похоже, отражение и в той, и в другой. Из летописи известно о самом посольстве, в Житии же, как кажется, содержится духовная оценка деяния троицкого игумена.
В тексте Жития есть описание видения преп. Сергию Радонежскому Богоматери в сопровождении свв. апп. Иоанна и Петра, явившихся игумену в келье Троицкого монастыря «в 40-цу Рождества Христова, день же пяток бе при вечере» со словами «о братьях…своих и о монастыру не скърби…, отныне бо во всем изъбилствует святыи монастырь, и не токмо донде же в животе еси…, но и по твоему еще къ Господу отхождении неотступна буду тех»[402]402
Клосс Б. М. Избранные труды. Т. 1. Житие Сергия Радонежского. С. 372–373.
[Закрыть]. Как и прочие житийные эпизоды, видение датировано отсылкой к пятнице сорокадневного Рождественского поста, «четыредесятницы» без, естественно, указания на год чуда видения.
К тому же Рождественскому посту, в свою очередь, из десяти летописных упоминаний троицкого игумена относится только один эпизод, помещенный в статье под 1385 г., и это посольская миссия в Рязань, о которой говорилось выше, в летописном рассказе отнесенная «на Филипово заговение»[403]403
ПСРЛ. Т. 15. Стб. 150–151.
[Закрыть].
Принятое ныне наименование поста, Рождественский, принадлежит к поздней церковной традиции, русские летописи называют его исключительно «Филиповым заговением» или «Филиповым говением»[404]404
ПСРЛ. Т. 15. Стб. 64, 93–94, 104, 108, 152, 157–158, 444; Т. 18. С. 110, 136, 264, 269; Т. 25. С. 181, 238. Количество примеров можно без труда умножить.
[Закрыть] и очень редко «Филипповым постом»[405]405
ПСРЛ. Т. 4. Ч. 1. Вып. 2. С. 242.
[Закрыть], в отличие от другого сорокадневного поста, Великого, который в русских источниках именуется, наоборот, исключительно Четыредесятницей[406]406
Словарь церковнославянского и русского языка, сост. Вторым отд. ИАН. СПб… 1847. Т. 4. С. 438.
[Закрыть]. Употребление в тексте Жития вместо обычного на Руси этого времени обозначения поста, «Филипово заговение», определения «Четыредесятница» – возможно, сербизм, которым Житие обязано его составителю, Пахомию Сербу. В сербском языке и в эпоху средневековья, и в наши дни оба поста именуются именно таким образом, Четыредесятницами, иногда с приставкой «большая» и «малая», и сорокадневный Великий пост, и длящийся такое же время Рождественский[407]407
Приношу сердечную признательность за консультацию А. А. Турилову.
[Закрыть].
Первым на возможную связь этих эпизодов, летописного и житийного, указал Б. М. Клосс, обративший внимание, во-первых, на то, что «четыредесятница Рождества Христова – это и есть Филиппов пост, как об этом записано в Иерусалимском уставе (под 14 ноября)» и, во-вторых, на сопровождавших Богоматерь апостолов. Свв. апп. Петр и Иоанн Богослов, как подметил исследователь, ангелы сыновей Дмитрия Ивановича Московского и его двоюродного брата и соправителя, Владимира Андреевича Серпуховского, княжичей Петра Дмитриевича и Ивана Владимировича, которых преп. Сергий Радонежский крестил в Москве в, соответственно, 1385 и 1381 гг.
В пользу датировки видения Богоматери 1385 г. историк привел еще один аргумент. Первым слушателем рассказа игумена о явлении Богоматери был инок Михей, узнавший о видении от самого преп. Сергия Радонежского «в последная лета живота своего» (во время чудесного видения он пал на пол кельи и сам его не видел). Хорошо известно, что инок действительно скончался в 1386 г.[408]408
Клосс Б. М. Избранные труды. Т. 1. Житие Сергия Радонежского. С. 35–36. Прим. 27.
[Закрыть]
Таким образом, по Б. М. Клоссу, видение имело место 14 ноября 1385 г. Кстати, так же истолковал похожую летописную датировку, на этот раз приезда митрополита Пимена из Царьграда на Русь («тои же осени… перед Филипповым заговением»[409]409
ПСРЛ. Т.15. Стб. 441.
[Закрыть]) в недавней работе и К. А. Аверьянов: «Как известно, Филипповым заговеньем 14 ноября начинается Рождественский (Филиппов) пост»[410]410
Аверьянов К. А. Где был митрополит Киприан в 1380 году? // ВИ. 2008. № 2. С. 153.
[Закрыть].
Связь летописного и житийного эпизодов представляется если и не очевидной, то, во всяком случае, вероятной, но тут сразу возникает одна коллизия, требующая объяснения.
Всякое Божественное Откровение, в том числе и видение, «появление Высшего существа в нашем мире», с богословской точки зрения, всегда происходит «с целью сообщить нам более или менее полную истину о себе и о том, что от нас требуется», оно «воспринимается отдельным лицом», но предназначено «не для него исключительно, а для более или менее широкого распространения»[411]411
Христианство. Энциклопедический словарь. Т. 2. М., 1995. С. 260.
[Закрыть]. В русской житийной литературе явления Богоматери святым угодникам – редкая благодать. Они описаны всего в нескольких житиях и всегда сопровождаются четким указанием на «земной», если угодно практический смысл чуда.
Так, прпп. Антонию и Феодосию Печерским (XII в.), Кириллу Новоезерскому (XVI в.), Леониду Устьнедумскому (XVI в.), Иову Анзерскому (XVIII в.) Богоматерь явилась с целью указать место возведения храма, монастыря или скита[412]412
Булгаков С. В. Настольная книга священнослужителя. Т. 2. С. 581; Т. 3. М., 1979. С. 36, 550, 593.
[Закрыть], свт. Иоанну епископу Новгородскому (XII в.) – с обещанием подачи помощи для завершения строительства церкви[413]413
Булгаков С. В. Настольная книга священнослужителя. Т. 2. С. 33. В приведенных случаях речь идет именно о явлениях, хотя известны примеры, когда к тем или иным действиям святые призывались «по внушению» или «по гласу» Богоматери, как переселение свт. митрополита Максима во Владимир в 1299 г. или выход «на брань с неверными» св. мч. Меркурия Смоленского (Там же. Т. 2. С. 328, 370).
[Закрыть]. Во всех случаях Богоматерь является святым угодникам без сопровождения. Единственное, похоже, исключение – видение Богоматери и свв. Климента, папы Римского и Петра Александрийского, известно только в церковной традиции XIX в. Преп. Серафиму Саровскому чудо было явлено как знак разрешения покинуть затвор, святители же, сопровождавшие Богоматерь, были святыми для явления, 25 ноября[414]414
Житие преп. отца нашего Серафима Саровского чудотворца… М. 1903. С. 92. На этот факт внимание автора любезно обратил А. В. Лаушкин.
[Закрыть].