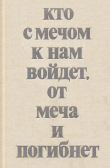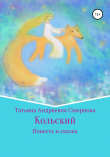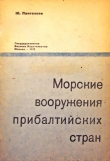Текст книги "Мы помним и не забудем!"
Автор книги: Александр Потылицын
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
ГУБЕРНСКАЯ ТЮРЬМА
По числу прошедших заключенных и установленному «цивилизованными» палачами режиму из всех мест заключения оккупированной англо-американскими интервентами Северной области особенно выделялась Архангельская губернская тюрьма.
Начальство губернской тюрьмы, а также все ответственные должности тюремно-полицейского ведомства были укомплектованы тюремщиками царского времени. Старший надзиратель Мамаев, получивший от заключенных прозвище «Мамай», прежде подвизался в должности палача в одной из тюрем на юге.
Сохранившиеся записи в книге приема арестованных по Архангельской губернской тюрьме показывают, что за период с августа 1918 года по ноябрь 1919 года через тюрьму прошло 9760 заключенных.
Первыми обитателями губернской тюрьмы оказались служащие советских учреждений, не успевшие эвакуироваться из Архангельска, попавшие в плен матросы ледоколов «Святогор» и «Микула Селянинович», члены заводских комитетов и другие. Тюрьма не вмещала арестованных. Заброшенные, сырые и холодные подвалы архангельской таможни служили отделением губернской тюрьмы. Арестованными были переполнены арестные помещения полиции города и его районов, концентрационные лагери на Быку и Бакарице, больничные отделения тюрьмы на Кегострове и в больничном городке.
Так осуществлялись посулы «демократических свобод», возвещенных интервентами и эсеровским «Верховным управлением Северной области».
Социальный состав заключенных – в основном рабочие, крестьяне-бедняки и середняки, матросы – наглядно показывал классовую сущность политики интервентов и белогвардейщины, как политики реставрации буржуазно-помещичьего строя.
Поводом к заключению в губернскую тюрьму являлась активная деятельность в большевистской партии или органах Советской власти, в комитетах деревенской бедноты, в профсоюзах, сочувствие Советской власти, а также и такие «преступления», как служба сыновей в Красной Армии, «разговоры большевистского порядка».
Арестовывали за агитацию, «вызывающую классовую борьбу», за «неуважение» к интервентам и т. д. Мальцев-Николаенко – часовых дел мастер – иногда занимался живописью. Он скопировал картину «Лунная ночь в окрестностях Петербурга». Копия понравилась английскому полковнику, но Мальцев-Николаенко отказался уступить ее, за что был арестован, а через сутки расстрелян как сочувствующий большевикам и проявивший неуважение к «союзникам».
Губернская тюрьма с ее отделениями, каторжная тюрьма, открытая 23 августа 1918 года на острове Мудьюг, не вмещали всех арестованных. В камеру, рассчитанную на двадцать человек, помещали по шестьдесят человек и более. Мест на нарах нехватало. Заключенные располагались на сыром, грязном голом полу, под нарами. Опоражниваемая раз с сутки «параша» быстро переполнялась, ее содержимое текло под спящих.
Произвол тюремной администрации сказывался и в зверском обращении и в наказании карцером. В темный, холодный карцер с заплесневевшими от сырости стенами заключенных бросали в одном белье и держали до 14 суток. Редкие выдерживали такое испытание.
От голода, неимоверной скученности, антисанитарных условий содержания появились массовые заболевания цынгой, дизентерией, затем вспыхнула унесшая много жертв эпидемия сыпного тифа, а нужных лекарств в тюремную аптеку не выдавалось. Перевод в тюремный лазарет – барак больничного городка, облегчения не давал. Тов. Тубанова, будучи заключенной и добровольно работавшая сиделкой в тифозном бараке, вспоминала:
«Жизнь в бараке была кошмарной. Больных, еле двигавшихся, привозили каждый день грудами – грязных, оборванных, с неимоверным количеством паразитов и сваливали в коридоре. Покойницкая была завалена трупами…»
Убедившись в непреклонной решимости трудящихся области к борьбе с иноземными захватчиками, интервенты и белогвардейцы стали действовать методами самого разнузданного массового террора. Созданные ими военные, особые военные и военно-полевые суды повели свое черное дело. Военный суд заседал непосредственно в тюрьме. Заключенные каждую ночь ожидали – в какой камере загремят ключи, кого поведут на расправу. После короткой комедии суда грузовой автомобиль увозил обреченных на загородные Мхи, к месту расстрела.
Первый открытый расстрел был произведен 3 ноября 1918 года, в три часа дня, во дворе тюрьмы. В этот день интервенты расстреляли Степана Николаевича Ларионова и пять товарищей из его красноармейского отряда. Во время расстрела Ларионова всех заключенных тюрьмы выстроили по камерам и под угрозой расстрела приказали не расходиться до свистка.
Как разбойники с большой дороги, которые связывают себя общим участием в убийствах, интервенты поручили расстрел сводному отряду англичан, американцев, французов и итальянцев. Итальянские солдаты, узнав для чего их вызвали, отказались расстреливать осужденных.
Перед расстрелом Степану Ларионову и его товарищам предложили завязать глаза. Товарищ Ларионов гордо, с презрением ответил предлагавшему: «Если тебе стыдно, закрой свои глаза, а мы сумеем умереть с открытыми глазами!» После двух залпов красноармейцы упали, тяжело раненый Ларионов продолжал стоять. Выстрелом в упор было покончено и с ним. Так погиб пламенный большевик, агитатор, организатор Красной гвардии Архангельска, командир красноармейского отряда Степан Ларионов.
Впоследствии массовые расстрелы стали обычным явлением. Но прежде чем покончить с обреченными, палачи подвергали их мучительным пыткам. Чтобы продлить предсмертные мучения своих жертв, палачи сбрасывали в могилу больных или недобитых в момент расстрела и зарывали их живыми.
Свидетель из числа заключенных, привлекавшихся к обязанностям могильщика, рассказывал суду:
«Затем последовал расстрел, и надзиратели потащили нас закапывать могилу. Закапывая, мы слышали голос:
– Товарищи! Я знаю, кто нас закапывает… Ведь я еще живой!»
В апреле 1919 года расстреляли пять пленных красноармейцев. Один из них был брошен в могилу живым и зарыт вместе с убитыми.
Командира ледокола «Святогор» Н. А. Дрейера, больного настолько, что он не мог ни ходить, ни стоять, к месту казни доставили на носилках и расстреливали привязанным к столбу.
Осужденные на казнь встречали смерть с высоким, благородным мужеством и непоколебимой верой в правоту дела большевистской партии и Советской власти.
Председатель судового комитета ледокола «Святогор» военный моряк Александр Терехин, когда его повели на расстрел, бросил тюремщикам: «За мою голову сотни ваших слетят!» Терехина вернули в камеру смертников и расстреляли только через неделю.
На 12 августа 1919 года в губернской тюрьме, ее отделениях (в подвалах таможни и на Кегострове) содержалось восемьсот семьдесят шесть заключенных. Кроме того в Архангельске и его окрестностях наравне с заключенными содержалось свыше двух тысяч пленных красноармейцев и более тысячи белогвардейских солдат, отказавшихся служить интервентам. Такой состав заключенных вызывал у интервентов и белых серьезную тревогу. Летом 1919 года по всем участкам их фронта прокатилась волна восстаний. На Онеге восстал и влился в Красную Армию целый полк белых. С восстаниями на фронте могло слиться восстание в тылу.
13 августа 1919 года при главнокомандующем белогвардейскими формированиями области с участием представителя разведывательного отдела интервентов состоялось «совещание об очищении Архангельска и его окрестностей от опасных и неблагонадежных элементов». Для разгрузки архангельских тюрем совещание решило пополнить Мудьюгскую каторжную тюрьму на восемьсот заключенных и для двух тысяч заключенных открыть тюрьмы на островах Анзерском и Кондо в Онежском заливе Белого моря.
При обсуждении вопроса, как поступить с военно-пленными и отказавшимися служить интервентам солдатами белой армии, представитель интервентов довел до сведения собравшихся, что этот вопрос уже решен, что сортировка солдат и военнопленных будет произведена союзным разведывательным отделом (контрразведкой интервентов). Подчеркивая холуйскую зависимость от интервентов, совещание писало в своих решениях: «Просить союзный разведывательный отдел… Просить Главнокомандующего английским экспедиционным корпусом…»
Вспыхнувшее через месяц восстание и побег каторжан с Мудьюга изменили намеченные совещанием мероприятия. Новая, еще более жуткая ссыльно-каторжная тюрьма была открыта за полярным кругом, на Мурманском побережье Ледовитого океана, в заброшенном становище Иоканьга.
МУДЬЮГСКАЯ ССЫЛЬНО-КАТОРЖНАЯ ТЮРЬМА
К наиболее кошмарным и позорным страницам в истории англо-американской и французской интервенции на Севере относится создание интервентами и белогвардейщиной Мудьюгской и Иоканьгской ссыльно-каторжных тюрем. Через эти тюрьмы прошли тысячи заключенных, многие из которых там же или впоследствии были расстреляны, замучены или погибли от истощения и эпидемий.
Из опасения скопления в городе, хотя бы и в тюрьмах, враждебного к властям оккупантов и белых большого количества заключенных, а также для усиления репрессий заморские хозяева и белогвардейское правительство «социалистов» решили разгрузить места заключения. Для этих целей они открыли каторжную тюрьму на заброшенном, пустынном острове Мудьюге, расположенном в Двинской губе Белого моря, в шестидесяти километрах от Архангельска.
Вновь созданную тюрьму назвали «первым концентрационным лагерем для военнопленных». В действительности «лагерь» и по составу заключенных и по установленному там режиму оказался каторжной тюрьмой, перед которой бледнела сибирская каторга времен царизма. Впоследствии «лагерь» так и стал называться – ссыльно-каторжная тюрьма.
Первая группа каторжан в сто тридцать четыре человека была доставлена на Мудьюг 23 августа 1918 года. В состав ее входили арестованные за принадлежность к коммунистической партии, за сочувствие Советской власти, за службу в Советах и советских учреждениях, профсоюзных органах и около семидесяти человек, недолгое время служивших в Красной Армии.
Прибывшим предстояло своими руками построить и оборудовать себе тюрьму, в первую очередь – карцеры-землянки. Отведенная для тюрьмы площадь была обнесена двумя рядами проволочных заграждений высотой более трех метров.
Не доверяя белогвардейщине, интервенты составили администрацию и гарнизон каторги из французов. Установленный колонизаторами режим Мудьюгской каторги стоил жизни сотням борцов за дело социалистической революции.
Исключительные по свирепости «правила для заключенных в лагере» предусматривали наказание карцером или смертной казнью. Запрещалось петь «бунтовщические» песни, к которым, по разъяснению администрации, относились «вообще все революционные песни».
Невыносимый режим военно-каторжной тюрьмы интервентов усугублялся полуголодным существованием. По раскладке на каждого заключенного полагалось в сутки: галет 200 граммов, консервов 175 граммов, риса 42 грамма, соли 10 граммов.
Полуголодных людей каждое утро выгоняли на работы. Падавших от изнеможения поднимали прикладами.
Палачам, поставившим задачей уничтожить попавших к ним в заключение, казалось и этого мало: заключенных лишили не только медицинской помощи, но и бани, белья, мыла.
В тюремный барак, рассчитанный на сто человек, помещали по триста пятьдесят человек и более. Такая скученность, отсутствие бани, мыла, смены белья создавали условия для появления большого количества паразитов и вызывали заболевания цынгой, тифом, дизентерией. Французский, а потом заменивший его английский врач рекомендовали больным: «Вы ничего не кушайте и ходите на работы, вам нужен свежий воздух».
Для больных был устроен лазарет, но больные избегали попадать туда, чтобы не замерзнуть, настолько холодно было зимой в лазарете, и предпочитали умереть в общем бараке, рядом с товарищами по заключению.
Выгоняя заключенных на работу или на поверку, «цивилизованные» палачи не считались, здоров человек или нет. Заключенный Климов не мог выйти из барака на поверку. Он умирал. Переводчик, французский сержант Лерне, вытащил Климова из барака и избил его палкой. Через пять минут после «поверки» Климов умер. Другой заключенный умер через два часа после возвращения с работы.
Помимо избиений на работе, при поверках, заключенных не оставляли в покое и ночью. Тот же переводчик, французский сержант Лерне, с вооруженными французами из гарнизона по ночам врывался в бараки для обысков. Обыски сопровождались массовым избиением и отправкой заключенных в карцер на срок до пятнадцати суток.
Наиболее жутким местом Мудьюга были карцеры. Под первый из них приспособили заброшенный ледник. По тому же типу строились и новые карцеры. Каторжане, побывавшие в карцере в зимнее время, выходили оттуда с отмороженными конечностями. Многие умирали в карцере или от последствий пребывания в нем.
Каждые сутки на Мудьюге смерть уносила по несколько жертв. Умершие ночью до утра оставались лежать в бараках, между живыми. Французский сержант, входя по утрам в барак и коверкая русскую речь, спрашивал: «Сколько большевиков сегодня капут?» А смерть приходила для многих. Только за девять месяцев, к июню 1919 года, на кладбище насчитывалось сто два креста, причем многие попали в общую могилу. В последние месяцы существования мудьюгской каторги смертность значительно возросла.
Летом 1919 года французская администрация и гарнизон Мудьюга были заменены белогвардейцами. У интервентов уже горела почва под ногами, они были вынуждены спешить убраться по домам. Белогвардейцы с неменьшим усердием продолжали начатое колонизаторами преступное дело.
Неимоверные лишения, неслыханный по произволу режим военно-каторжной тюрьмы не сломили у советских людей мужества, преданности делу большевистской партии и Советской власти, сыновней любви к Родине, ненависти к иноземным захватчикам и белогвардейщине. Наоборот, обреченные на смерть советские люди прониклись еще большей решимостью бороться и побеждать или погибнуть в схватке с врагом.
Наиболее инициативные и смелые из каторжан повели подготовку, казалось бы, немыслимого к осуществлению предприятия – восстания и побега. Большевики – бывший военный моряк, председатель Архангельского уездного исполкома П. П. Стрелков и взятый в плен под Архангельском в результате измены военспецов комиссар красноармейской части Г. И. Поскакухин возглавили подготовку восстания.

Г. И. Поскакухин.
По плану, разработанному организаторами восстания, необходимо было организовать и зажечь решимостью вырваться на свободу более стойких заключенных. Намечалось внезапным нападением обезоружить конвой, охрану и администрацию, и, вооружившись, переправиться с острова на материк, затем с боем пройти по тылам противника и соединиться с частями Красной Армии.
Доходившие до каторжан слухи о переводе их в каторжную тюрьму, которая открывалась в заброшенном рыбачьем становище Иоканьга на Мурманском побережье, побуждали спешить с восстанием. Восстание назначили на 13 сентября, но, настороженное внимание администрации и произведенные ею обыски, показали, что каким-то провокатором сделан донос. Восстание было отложено. Утром 15 сентября П. П. Стрелков переслал Поскакухину записку: «Почему отложено? Я требую – или сейчас или будет поздно!» Поскакухин ответил: «Сегодня в час дня обезоруживай свой конвой».
Пришло назначенное время, и вот, наконец, у барака раздался условленный выстрел – там был обезоружен часовой. В этот же момент находившийся на работе вне барака тов. Стрелков вырвал винтовку у охранявшего их группу конвойного и подал команду открывать каторжанский барак. Тут же обезоружили часового на вышке. Остальные часовые в растерянности побежали к дому охраны и повели обстрел по баракам. Заключенные, обстреливаемые охраной, выбегали из барака, лезли через проволочные заграждения, но большинство их, несмотря на уговоры и требования Стрелкова и Поскакухина, под влиянием действовавших теперь открыто провокаторов и малодушных не выходило из барака, а время истекало. Тогда Стрелков и Поскакухин с пятьюдесятью человеками бросились в атаку на охрану, но охрана успела оправиться от растерянности и усилила обстрел. Теряя товарищей убитыми и ранеными, атакующие отступили.
Шестьдесят человек вырвались из-за проволочных заграждений к берегу пролива. На карбасах крестьян, перевозивших с острова сено, бежавшие переправились на материк. Переправа проходила не одновременно и в разных местах, бежавшие оказались разделенными на две группы. В группе товарищей Стрелкова и Поскакухина находилось тридцать два человека, в другой остальные.
Группа Стрелкова и Поскакухина после неимоверных лишений, потеряв в пути двух обессилевших товарищей, пройдя сотни километров лесами и болотами, вышла в расположение красноармейских частей Пинежского фронта.

П. П. Стрелков.
Бывшие узники «острова смерти» Мудьюга, еле поправившиеся, вступили в ряды Красной Армии, а некоторые были направлены на партийную и советскую работу.
Вторая группа бежавших с Мудьюга, не имея энергичных вожаков-организаторов, рассеялась и большинство из нее вновь попало в руки белых.
О восстании и побеге каторжан белогвардейскому командованию стало известно в тот же день. На Мудьюг на двух пароходах выехала специальная комиссия с воинской частью, а по области были разосланы телеграммы, требовавшие задержать бежавших.
Допросы, следствие на Мудьюге шли весь день 16 сентября и к вечеру тринадцати каторжанам объявили смертный приговор.
Опасаясь не только повторного выступления заключенных, но и выступления своих солдат, контрразведчики и тюремщики приготовились к расстрелу по-особенному: осужденных вывели на берег моря и поставили перед двумя цепями солдат. Первая цепь из менее надежных должна была произвести расстрел, а вторая, из более надежных, стояла позади, несколько в стороне от первой, на случай ее неповиновения. За обеими цепями у нескольких пулеметов изготовились офицеры…
Расстреливаемые вели себя стойко и мужественно, что был вынужден признать в своих воспоминаниях полевой военный прокурор белых Добровольский. По его свидетельству, расстреливаемые перед смертью провозглашали здравицу: «Да здравствует Советская власть!»
Восстанием, побегом заключенных 15 сентября 1919 года и расстрелом тринадцати закончила свое существование мудьюгская каторга.
ССЫЛЬНО-КАТОРЖНАЯ ТЮРЬМА ИОКАНЬГА
Смертная казнь, массовые расстрелы, мудьюгская каторга, тюрьма, ссылка – все эти зверские расправы иноземных захватчиков не сломили сопротивления и стремления к победе трудящихся Советского Севера. Требовалось еще что-то другое, более исключительное для массового уничтожения коммунистов и сочувствующих большевистской партии и Советской власти. Восстание и побег мудьюгских каторжан ускорили выполнение зверских намерений интервентов и белогвардейцев открыть новую каторгу, но вместо предполагавшихся тюрем на островах Онежского залива Белого моря интервенты открыли тюрьму на Иоканьге за полярным кругом.
Открытие Иоканьгской ссыльно-каторжной тюрьмы по замыслам палачей должно было разрешить две задачи: очистить Архангельск от опасных и неблагонадежных элементов и поставить заключенных в такие условия, чтобы исключалась всякая возможность побега и гарантировалось полное истребление заключенных.
Побывавший на Иоканьге член белогвардейского правительства Б. Соколов писал:
«При самом выходе из горла Белого моря на Мурманском берегу – бухта. Кругом голые скалы, ни одного деревца. Постоянные неистовые ветры. Все это заставляло издавна людей избегать этих, как они называли, проклятых богом мест. Действительно, трудно представить себе картину более безотрадную. На сотни верст никакого селения».
Новую каторжную тюрьму охраняла свирепая стража с известным по Мудьюгу Судаковым во главе.
Первая группа каторжан в триста шестьдесят человек была доставлена на Иоканьгу 23 сентября 1919 года. Вскоре число заключенных там достигло тысячи двухсот человек Сюда же были сосланы, как и на Мудьюг, дисциплинарники – солдаты белой армии, арестованные и брошенные в тюрьму за отказ воевать против Советской власти. В число заключенных Иоканьгской тюрьмы были включены с определенными целями уголовники и провокаторы, список которых впоследствии нашли у Судакова.
Подавляющее большинство каторжан до Иоканьги прошло через Мудьюг, губернскую тюрьму и иные места заключения. Их силы были уже подорваны, а Иоканьга должна был: стать им последним пристанищем. Заключенные так и считали, что они доставлены сюда с заранее обдуманной целью – на смерть от голода, эпидемий, цынги.
Как и на Мудьюге, каторжане Иоканьги должны был; своими силами строить помещения тюрьмы. В осеннюю стужу, под пронизывающим ветром с полярного моря, голодные, неодетые и необутые, они сначала построили фанерный барак, несколько землянок и затем бревенчатый барак. Неимоверная скученность, грязь, обилие насекомых, испарения от сорокаведерных параш, холод и сырость делали пребывание в таких постройках невыносимым.
Под карцер, тоже по опыту Мудьюга, был приспособлен заброшенный ледник. Узникам, брошенным в такой карцер, не давали брать с собой одеял, их лишали горячей пищи, а спать или лежать можно было только на голой, мерзлой земле. Редкие выдерживали пребывание в таком карцере, и зачастую по утрам надзиратели обнаруживали там окоченевшие трупы.
Первые месяцы на Иоканьге производились поверки. Заключенных, едва прикрытых лохмотьями одежды, выстраивали у тюрьмы и заставляли разуваться на снегу. Одновременно с поверкой шел обыск. Поверки сопровождались избиением и известными по Мудьюгу «поучениями» Судакова: «Я здесь царь и бог! Что хочу, то и делаю!.. Мне власть дана такая! – и, показывая вверх дубиной, заключал: – А отвечаю я только перед всевышним».
Впоследствии такие поверки, дававшие заключенным возможность хоть немножко подышать свежим воздухом, были отменены, и заключенные, кроме выводившихся на работу дисциплинарников, круглые сутки держались запертыми.
Начальник каторги Судаков с надзирателями проводил по ночам повальные обыски с избиением насмерть. Судаков действовал дубиной, надзиратели – прикладами и револьверами. В один из очередных обысков и побоищ Судаков растоптал насмерть секретаря Савинского волисполкома В. С. Фомина, прикладом винтовки раздробил кость другому заключенному, Хамеляйнену, который после этого умер.
Упоминавшийся выше Б. Соколов писал, что Судаков «…находил какое-то особое удовольствие в собственноручных избиениях арестантов, для каковой цели всегда носил толстую дубину… Если бы мне кто-нибудь рассказал о нравах Иоканьги, то я бы ему не поверил, но виденному собственными глазами нельзя не верить».
Судаков и его свора знали, что доведенные ими до отчаяния люди способны на все ради одного мига свободы. Поэтому бараки с заключенными закрывали круглые сутки на замок, а заключенные должны были лежать без движения, без разговоров всю восемнадцатичасовую полярную ночь. Достаточно было бредового вскрика больного или последнего стона умирающего, чтобы стража открыла стрельбу по тюрьме.
Массовые заболевания цынгой, дизентерией, тифом, голод уносили жертву за жертвой. Умершие ночью оставались лежать до утра между живыми. Тряпье, оставшееся от умерших, разбиралось их товарищами, чтобы сколько-нибудь укрыться от холода.
За полтора-два месяца, с 23 сентября 1919 года, на Иоканьге умерло семьдесят человек. Наиболее активные из каторжан не могли мириться с положением обреченных насмерть и готовились к побегу. Две попытки побега оказались сорванными стараниями провокаторов, но инициаторов подготовки побегов никто не выдал, за что жестоко поплатились все каторжане.
В одну из ноябрьских ночей заключенные были разбужены стрельбой и стенами раненых товарищей. Оказалось, что по команде Судакова: «По уровню нар – пальба!» стража залпами обстреливала тюрьму и затем, возглавляемая Судаковым, набросилась на арестованных. Судаков, действуя дубиной, стрелял из револьвера в направлении стонов раненых, а его подручные орудовали прикладами.
После побоища из тюрьмы вынесли девять убитых и тридцать раненых, из них четырнадцать вскоре умерли. Таким образом число расстрелянных и убитых Судаковым в эту кошмарную ночь достигло двадцати трех человек.
О замученных, убитых и расстрелянных на Иоканьге Судаков сообщал начальству как об умерших от цынги или других заболеваний. Всего за пять месяцев существования Иоканьгской каторги там погибло более 250 человек.
20 февраля 1920 года каторжане, узнав по радио о разгроме белых, избрали свой исполком, арестовали стражу. Через десять дней на Иоканьгу пришли два парохода и вывезли бывших каторжан в освобожденный советский Мурманск.
Многие бывшие узники умерли после освобождения. Смерть продолжала подкашивать изнуренных и заболевших. Какой степени достигла смертность показывает одна из радиограмм Иоканьгского исполкома в Архангельск:
«Сообщаем, как часто мы производим похороны. 7 февраля похоронили 36; 9 февраля – 14; 13 – 8; 16 – 12; 20 – 16; 25 февраля похоронили 21 и к 8 часам вечера – умерло еще 4 человека… По сведениям фельдшера, кандидатов в братскую могилу сто двадцать три человека, которые умирают каждый день, кроме этого еще имеется больных около 280 человек, чуть шевелящих руками».
За одни только сутки перехода до Мурманска умерло двадцать четыре человека.
Просуществуй Иоканьгская каторга еще полтора-два месяца и на месте тюрьмы осталась бы братская могила на тысячу человек.
Таковы жуткие итоги Иоканьгской каторги. Таким оказались на деле щедро обещанные интервентами и их марионеточными бело-эсеровскими «правителями» «демократические свободы».