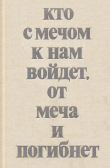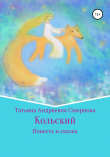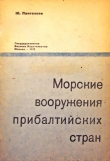Текст книги "Мы помним и не забудем!"
Автор книги: Александр Потылицын
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
«ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ СВОБОДЫ» КОЛОНИЗАТОРОВ
Белогвардейское «Верховное управление Северной области», поставленное англо-американскими интервентами к власти, в тот же день, 2 августа 1918 года, выступило с декларацией, в которой крикливо заявляло о взятых им на себя обязательствах воссоздания государственной власти и восстановления демократических свобод. Разрешать такие задачи «правительство» эсеров обещало, опираясь на все слои населения, а «также при дружественной помощи со стороны союзных с Россией правительств и народов: Англии, Америки, Франции и других».
В числе обещанных свобод значились свобода слова, печати и собраний, а интервенты обещали не вмешиваться во внутренние дела области. На деле с подобными обещаниями обстояло так.
Вслед за декларацией белогвардейского правительства о свободе слова, печати и собраний командовавший войсками интервентов английский генерал Пуль издал приказ, гласивший:
«Всякие собрания, митинги и прочие сборища как на улицах, так и в общественных местах и частных квартирах – запрещаю. Неисполнение или нарушение сего приказа влечет за собой предание виновных военно-полевому суду».
Печатать же что-либо разрешалось только с ведома контрразведки интервентов. Под их цензурой находился даже официальный орган белых – «Вестник Верховного управления».
После антисоветского переворота в Архангельске и захвата города англо-американскими оккупантами эсеры и меньшевики, опасаясь народных масс, вывесили наряду с царскими флагами и красные флаги. Адъютант генерала Пуля предписанием от 4 августа приказал «Верховному управлению»: «…принять все меры, чтобы кроме военного андреевского и национального (белый, синий, красный) другие флаги не подымались». Красные флаги, напоминавшие трудящимся о временах Советской власти, были немедленно сняты.
Одновременно с обнародованием обещаний всяческих свобод был издан приказ об аресте членов губернского и уездных исполкомов, их комиссаров, членов волостных, сельских исполкомов, «арест которых будет признан необходимым местной властью».
В этом приказе был предусмотрен также арест наиболее активных деятелей Советской власти, но большинство их отступило с частями Красной Армии и боролось в ее рядах против интервентов и белых и было вне досягаемости.
3 августа «Верховное управление» утвердило приказ, согласно которому для предварительного рассмотрения дел об арестованных создавались губернская и уездные следственные комиссии. Члены этих комиссий наряду с правом «рассмотрения» дел об арестованных за принадлежность к коммунистической партии, за работу в советских органах и сочувствие Советской власти, уполномочивались единолично подписывать ордера об аресте и заключении в тюрьму.
Таким образом, контрразведкам и военным властям интервентов, объявившим губернию на военном положении, а также белогвардейщине и ее «местным властям» – земским управам, с засевшими в них представителями кулачества и буржуазии, предоставлялись неограниченные возможности сажать за решетку не только активных советских работников, коммунистов, сочувствующих им, но и всех заподозренных в сочувствии Советской власти.
Арестованной оказалась огромная масса людей. Социальный состав арестованных – рабочие города, беднота и середняки деревень – показывал классовую сущность политики интервентов и белогвардейщины, направленной к реставрации свергнутой власти помещиков и капиталистов.
Считая себя господами «завоеванной» Северной области, интервенты назначили военным губернатором полковника французской армии Донопа, о чем 7 августа поставили в известность «Верховное управление области». На просьбу «Верховного управления», хотя бы отсрочить такое назначение, старшина дипломатического корпуса интервентов американский посол Фрэнсис ответил издевательским отказом:
«Нам неизвестно точно, каковы полномочия русского губернатора, как их понимает правительство Северной области. Мы только знаем, что полномочия полковника Донопа имеют единственной целью обеспечить в городе хороший порядок и общественную безопасность, которые пока еще плохо установлены. Поэтому его полномочия не противоречат политическим и административным аттрибутам гражданских властей.
Впоследствии будет учрежден межсоюзный орган, составленный из секретарей различных миссий, для поддержания связи всех ведомств и для охранения прерогатив каждого».
Полковник Доноп повел себя как колониальный губернатор. Распоряжением от 15 августа 1918 года он предписал начальнику губернской тюрьмы, чтобы ни один заключенный не был освобожден без его, губернатора, приказа и обязал представлять списки арестованных, поступающих в тюрьму.
На наглое хозяйничание интервентов и восстановление в правах собственности предпринимателей архангельские рабочие ответили забастовками. За объявленную печатниками забастовку с экономическими требованиями было брошено в тюрьму шестнадцать рабочих-печатников. Бастовавших рабочих архангельского трамвая заменяли солдаты интервентов. Свирепые расправы с рабочими производились по приказам интервентов.
Приказом от 8 сентября 1918 года генерал Пуль предупреждал:
«В случае подстрекательства к забастовкам или беспорядкам я объявляю, что виновные будут немедленно арестовываться и предаваться военно-полевому суду, согласно правилам военного положения в городе».
Наиболее жуткую известность получила контрразведка интервентов, или «военный контроль», центральной фигурой которой являлся английский полковник Торнхилл. Щупальцы контрразведки проникали, казалось, решительно всюду. Царский генерал Марушевский, вызванный интервентами из-за границы для создания белогвардейских формирований и прибывший в Архангельск в ноябре 1918 года, писал о контрразведке интервентов:
«В особом здании помещалась организация, носившая название «Военный контроль». Военный контроль в области имел значение чисто политическое. Его представители, рассыпанные по всему фронту, вели работу по охране интересов союзных войск, наблюдению за населением и сыску. По существу это была чисто контрразведывательная организацию с громадными правами по лишению свободы кого угодно и когда угодно».
Десятки тысяч передовых трудящихся Архангельской области, коммунистов и беспартийных, прошли через тюрьмы и концентрационные лагери, созданные интервентами. Тысячи верных советской Родине патриотов были расстреляны, замучены или погибли от голода и эпидемий в застенках «цивилизованных» разбойников. Мудьюгский концентрационный лагерь и ссыльно-каторжная тюрьма Иоканьга были порождением контрразведок интервентов. Справедливость требует отметить, что в лице англо-американских захватчиков у немецких фашистов были достойные предшественники.
Интервенты не только опутали всю область густой сетью своих и белогвардейских контрразведок, но, кроме назначения колониального губернатора, обязали «Верховное управление» ввести как «быстро действующие», военные и военно-полевые суды. В состав таких судов входили представители войск английских, американских и французских захватчиков. Для контроля и непосредственного участия в расправах над трудящимися представители контрразведок интервентов входили членами и в следственные комиссии.
Белогвардейское «правительство», послушно выполняя волю иноземных захватчиков и опираясь на их штыки, проводило политику защиты интересов предпринимателей и буржуазии в городе, кулачества в деревне, политику удушения социалистической революции, ликвидации ее завоеваний.
Декреты Советской власти о национализации промышленности и фабричном контроле были отменены. Все промышленные, торговые, судоходные предприятия были возвращены прежним владельцам, а рабочие отданы на произвол предпринимателей-капиталистов, которые повели наступление на рабочих и их профессиональные союзы. Профсоюзные организации выбрасывались из занимаемых ими помещений. Рабочих, исполнявших выборные должности в профсоюзах, сажали в тюрьмы или выбрасывали с производства, чем обрекали на безработицу. Никакой медицинской помощи рабочим не оказывалось.
Вместо обещанного «правительством» обеспечения «прав трудящихся на землю» – это после декретов Советской власти о земле! – монастырские и кулацкие земельные угодья возвращались прежним владельцам, а «окончательное» решение вопроса о земле, как и во времена керенщины, откладывалось на будущее, до Учредительного собрания. За год до этого, в сентябре 1917 года, товарищ Сталин, разоблачая противонародную политику эсеров в земельном вопросе, писал:
«Оказалось, что кричать о земле и о крестьянах легче, чем на деле передать землю крестьянам. Оказалось, что эсеры лишь на словах «болели душою» за крестьян, а когда пришла пора перейти от слов к делу, – они предпочли спасовать, спрятавшись за Учредительным собранием…»[6]6
И. В. Сталин. Соч., т. 3, стр. 324.
[Закрыть]
Исключительно позорную роль в период иностранной вооруженной интервенции и гражданской войны на Севере сыграли называвшие себя тоже «социалистами» архангельские меньшевики. Прикрываясь званием рабочей партии, они всячески пытались помочь интервентам внести разложение в рабочие массы.
Архангельские меньшевики издавали свою газету, разрешенную властями интервентов, в которой призывали рабочих поддерживать интервентов, действовать в союзе с буржуазией и предпринимателями, вступать добровольно в белую армию. Вместе с эсерами, интервентами и белогвардейщиной они ответственны за потоки крови, за тысячи жертв, понесенных трудящимися Архангельской области во время хозяйничания на Севере англо-американских захватчиков.
Выполнив позорную роль предателей своей страны, расчистив путь силам самой оголтелой реакции от кадетов до монархистов, эсеровское «правительство», просуществовав полтора месяца, было выброшено вон и заменено другим, в более угодном для интервентов составе.
Формирование нового правительства Северной области проходило при активном участии американского посла Фрэнсиса на состоявшемся у него совещании французского, итальянского послов и английского представителя с делегацией архангельских торгово-промышленных кругов. После совещания Фрэнсис приказал Чайковскому ввести в состав правительства намеченных совещанием кандидатов, что и было безоговорочно исполнено. Сформировав новое «правительство», Фрэнсис удовлетворенно сообщал своему департаменту в Вашингтоне:
«Я думаю, что Чайковский больше не будет назначать министров, которых мы не желаем».
В Северной области в это время воцарилась открытая, поддерживаемая буржуазией и кулачеством диктатура англо-американской и белогвардейской военщины, диктатура белого террора.
Безудержный террор против трудящихся, тюрьмы и каторга, военные и военно-полевые суды, застенки контрразведок – такой оказалась «демократия» колонизаторов и так были выполнены обещания о невмешательстве во внутренние дела оккупированной области.
БЕЛАЯ АРМИЯ – ПУШЕЧНОЕ МЯСО ДЛЯ ИНТЕРВЕНТОВ
Легко удавшийся захват мурманского и беломорского побережий вскружил головы интервентам и белогвардейщине. Они видели уже осуществленными свои замыслы: по железной дороге прорваться на Вологду, по Северной Двине – на Котлас. От Котласа, казалось авантюристам, такой близкой была Вятка, намеченная пунктом соединения с силами восточной контрреволюции, из мутных волн которой всплывал ставленник английских, американских, французских, японских интервентов, будущий самозванный «верховный правитель России» адмирал Колчак.
Наглая уверенность в успехе предпринятой авантюры возбудила у захватчиков аппетиты мародеров. Их окровавленные грязные руки тянулись не только к природным богатствам Советского Севера, но и к вятскому и сибирскому хлебу. Это отразилось и в решениях эсеровского «Верховного управления Северной области». Через десять дней после захвата интервентами Архангельска, 12 августа 1918 года, состоялось заседание «Верховного управления», которое приняло «к сведению» сообщение одного из своих членов «о спешной организации экспедиции в Котлас за вятским и сибирским хлебом вслед за ушедшими туда военными отрядами».
На том же заседании было решено передать в управление северных рек разработку вопроса «О принятии своевременных мер к оборудованию зимнего транспорта по Двине для подвоза сибирского хлеба».
Зарвавшиеся «цивилизованные» разбойники жестоко просчитались. Вместе с рухнувшими «стратегическими» планами сорвались и мародерские вожделения захватчиков.
Выполняя директиву В. И. Ленина организовать защиту Котласа во что бы то ни стало, большевистская партия Ленина – Сталина организовала отпор интервентам. Дальнейшее продвижение их было задержано, а вскоре на Северном фронте сформировались части 6-й Красной Армии.
Не только для дальнейшего продвижения в глубь советской страны, но даже для того, чтобы удержаться на захваченной территории, где, как и по всей стране, с каждым часом росло и крепло сопротивление трудящихся, интервенты не имели достаточного количества вооруженных сил. Привыкшие воевать чужими руками, англо-американские колонизаторы оказались перед необходимостью создания местных военных формирований – белой армии. Но пойти сразу на риск общей мобилизации местного населения, основную массу которого составляли рабочие, крестьянская беднота, середняки, открыто выражавшие жгучую ненависть к иноземным захватчикам, интервенты не смели. По заявлению генерала Пуля массы настолько «заражены большевизмом», что объявление общей мобилизации местного населения в белую армию означало бы но существу набор кадров для Красной Армии.
Приступая к созданию белой армии, интервенты категорически заявили «Верховному управлению», что местные военные формирования, по циничному выражению генерала Пуля, как «запас русской живой силы», а попросту – пушечное мясо, будут находиться в полном распоряжении англо-американского и французского командования.
Первоначально был объявлен набор добровольцев в славяно-британские, славяно-французские и прочие легионы под командованием офицеров оккупационных войск. Но попытка создать белую армию на добровольческих началах позорно провалилась. Широкие массы рабочих и крестьян захваченных интервентами местностей на щедрые обещания интервентов выдать сытный паек, отличное обмундирование, на истеричные призывы эсеров и меньшевиков решительно отвечали:
– Нет! На добровольную службу к иноземным захватчикам не пойдем!
Провал добровольного набора вынудил интервентов и белогвардейское правительство объявить сначала частичную мобилизацию нескольких возрастов и то лишь в двух уездах.
Рабочие и крестьяне, насильно мобилизованные в белую армию, отказывались подчиняться офицерам. Командовавший белогвардейскими силами на Севере царский генерал Марушевский отзывался о первых своих формированиях, как о бушующих ордах. Особенно злобно вспоминал он о матросах.
В воспоминаниях Марушевский писал, как ему… «пришлось возиться три-четыре дня, чтобы снять с судна двух матросов, арестованных в дисциплинарном порядке… Арест сопровождался митингами с топтанием фуражек ногами, причем команда была доведена до такого состояния, что бунт мог вспыхнуть каждую секунду».
И бунт, как грозное предупреждение интервентам и белым, вскоре вспыхнул.
В декабре 1918 года был сформирован первый полк белой армии. Не считая солдат надежными, командование назначило в каждую роту по десять-двенадцать офицеров, а в пулеметные взводы, по признанию Марушевского, «зачислены были лишь отборные, верные люди, на которых в случае нужды можно было опереться».
Но и эти меры не оправдали надежд интервентов.
На состоявшемся 9 декабря параде полка солдаты встретили генерала Марушевского молчанием. Первая рота на его приветствие кое-как ответила, а вторая половина батальона не ответила совсем. Парад принимал английский генерал Айронсайд на правах главнокомандующего экспедиционными войсками севера России, а также и «запасом живой русской силы». Двум ротам полка было объявлено об отправке их на фронт.
В назначенный к отправке на фронт день 11 декабря в казармах вспыхнуло восстание. Из одной в другую роты бегали связные, проводились митинги. Солдаты схватились за винтовки. Чувствуя недоброе для себя, офицеры скрылись. Приказы и увещевания командира полка не действовали. Солдаты отказались выйти из казарм.
Это был открытый вооруженный бунт, восстание.
Генерал Марушевский о событиях в казармах узнал от штаба интервентов и лично от генерала Айронсайда. По приказу Марушевского казармы оцепили пулеметная и бомбометная команды. На помощь им интервенты послали английскую роту. Осажденные в казармах солдаты на пулеметный и бомбометный огонь отвечали стрельбой из винтовок, но, израсходовав патроны, были вынуждены сдаться.
К казармам прибыл Марушевский и за ним Айронсайд. Марушевский отдал приказ командиру полка, чтобы он потребовал от солдат – выдать зачинщиков или взять из строя каждого десятого и расстрелять на месте. Из строя выхватили тринадцать солдат и по приказу Марушевского под конвоем белогвардейской полуроты в сопровождении предоставленных Айронсайдом на всякий случай двух взводов англичан отвели к месту расстрела на архангельских Мхах, вблизи солдатских казарм.
Только после такой кровавой расправы назавтра две роты были отправлены на вокзал для следования на фронт. На вокзале безоружных солдат заперли в барак и к нему поставили английскую охрану. До посадки мятежников в вагоны перед ними выступали с речами их палачи – генералы Айронсайд и Марушевский.
На кровавое злодеяние интервентов и белогвардейцев рабочие Архангельска ответили гневными митингами, требуя от «Верховного управления» объяснений. «Народный социалист» Игнатьев от имени «Верховного управления» заявил, что такие меры будут применяться и в дальнейшем.
Первое восстание было потоплено в крови тринадцати расстрелянных, но кровь погибших взывала к суровому мщению. Под влиянием большевистской пропаганды и агитации в войсках белых и интервентов в дальнейшем последовали бунт за бунтом.
Трудящиеся Архангельска, свято чтя память о первых жертвах интервенции, погибших 11 декабря 1918 года, впоследствии назвали бывшие Александро-Невские казармы города «Казармами восстания».
Восстание в полку, волнения рабочих по поводу расправы над восставшими насторожили интервентов и белогвардейцев. Ими были разработаны мероприятия на случай выступлений солдат и рабочих в будущем. Проживавшим в городе офицерам предписывались определенные обязанности и места сборов во время возможной тревоги.
С первого дня формирования и до своего развала и разгрома белая армия находилась в прямом подчинении и материальной зависимости от интервентов, служила пушечным мясом в их интересах. В феврале 1919 года, когда было уже сформировано несколько белогвардейских полков, Марушевский посетил участок железнодорожного фронта. Там, ознакомившись с положением, он попросил командовавшего этим участком французского подполковника передать Айронсайду свои замечания и пожелания. В ответе Айронсайда французскому подполковнику значилось, как передает сам Марушевский «что он (Айронсайд) очень ценит мою компетенцию, но что командует всеми войсками он и что, в сущности, мои (Марушевского) заключения для него не обязательны».
БОЛЬШЕВИКИ АРХАНГЕЛЬСКА В ПОДПОЛЬЕ
Воровско-разбойничье нападение англо-американских империалистов трудящиеся Советской страны встретили с непримиримой решимостью отстоять завоевания социалистической революции, честь, свободу и независимость своей Родины. Большевистская партия Ленина – Сталина организовала и подняла народ на отечественную войну против полчищ иноземных захватчиков и буржуазно-помещичьей контрреволюции.
Вместе с трудящимися всей страны на борьбу с интервентами и белогвардейщиной поднялись и трудящиеся Архангельской области. Их борьбу возглавила Архангельская большевистская организация.
В день антисоветского переворота в Архангельске и захвата города англо-американскими интервентами, 2 августа 1918 года, комитет большевистской партии в последнем номере своей газеты «Архангельская правда» обратился к членам организации и трудящимся города с воззванием, в котором писал:
«…Комитет партии вынужден итти в подполье, дабы не быть распятым мировыми разбойниками.
Комитет партии призывает всех членов быть стойкими на своих постах и продолжать революционное дело.
Товарищи! Революция в опасности! Наш долг всеми силами и средствами спасать ее…»
В условиях исключительного по свирепости террора пришлось начинать и проводить работу коммунистам большевистского подполья Архангельска. В то время, когда эсерам и меньшевикам их заморские хозяева разрешали сотрудничать в марионеточном «правительстве» и его органах, издавать газеты, – принадлежность к коммунистической партии и сочувствие ей карались расстрелом или каторгой.
На слежку за большевиками поднялись контрразведки интервентов и белых. Активное содействие контрразведкам оказывали городская буржуазия, чиновники, мещане, злобствующие обыватели.
Часть большевиков, оставшаяся в городе, вскоре была арестована и брошена в тюрьмы, но основное ядро подполья сохранилось и стало объединяться порайонно, а в городе – вокруг товарищей Теснанова и Прокушева.
В комитет большевистского подполья Архангельска входили товарищи Теснанов, Закемовский, Рязанов и другие.
Архангельская большевистская организация была сильна своей дисциплинированностью, сочувствием и поддержкой непартийных большевиков из рабочих масс. Она установила связи с рабочими, проникла в казармы солдат и матросов противника, горячо воспринимавших слова большевистской правды. Рабочие и бедняцко-середняцкое крестьянство захваченных интервентами местностей отказывались от мобилизации в белую армию.
Начиная с декабря 1918 года, в белогвардейских частях вспыхивало восстание за восстанием. Тесные и близкие взаимоотношения с соломбальскими матросами (один из них, товарищ Иванов, был избран в состав комитета партии) дали парторганизации возможность держать радиосвязь через линию фронта. Комитет установил также и живую связь с находившимся в эвакуации губернским комитетом. Подпольщики проходили за линию фронта и обратно с оперативно-организационными заданиями. Часто такие задания выполнялись солдатами белой армии, с которыми был связан комитет партии, например, старшим унтер-офицером тов. Склепиным, служившим наборщиком типографии штаба командующего белогвардейскими частями.
Подпольный Комитет партии, не ограничиваясь устной агитацией, использовал испытанное и острейшее оружие – большевистскую печать. В январе 1919 года была отпечатана на шапирографе и широко распространена среди рабочих, солдат и матросов первая прокламация. В ней разъяснялась сущность переживаемого момента. Контрразведки усилили аресты, но парторганизация уцелела и в феврале, открыв свою типографию, выпустила две прокламации, а в марте третью – «Ко всем мобилизуемым».
В прокламации «Ко всем мобилизуемым» комитет партии, обращаясь к мобилизуемым в белую армию, призывал взять винтовки, но с тем, чтобы в нужный момент обратить их против интервентов и белогвардейщины. Прокламация имела очень широкое распространение. Ее обнаруживали не только в городе и рабочих районах, в солдатских казармах, а также и на позициях белых и интервентов. В марте прокламация была отпечатана в газете политотдела 6-й Красной Армии «Наша война».

Расстрел интервентами коммуниста К. Герасимова на судне в Онежской губе Белого моря. 1918 г.
Наличие подпольной типографии, широкое распространение прокламаций, действенность большевистской агитации, вызвавшей возбуждение в рабочих массах и среди солдат белой армии, подняли на ноги все силы контрразведок интервентов и белых. В марте им удалось раскрыть большевистскую организацию в армии, по делу которой были расстреляны солдаты из разных частей: товарищи Пухов, Шереметьев, Глазков, Сывороткин, П. Каминский, Поздеев, Аншуков, Печинин и Богданов. Тогда же был арестован, осужден и расстрелян наборщик И. М. Склепин, именем которого впоследствии названа Архангельская областная типография.
Один за другим попадают подпольщики в контрразведки, оттуда за город, на Мхи, на расстрел. Но ничто не останавливало большевиков подполья в их мужественной решимости продолжать борьбу за дело социалистической революции.
В апреле 1919 года контрразведкой были схвачены еще несколько рядовых членов большевистской организации и некоторые члены комитета большевистского подполья. В пролетарский праздник Первое мая одиннадцать большевиков архангельского подполья, в том числе члены комитета, осужденные особым военным судом, были расстреляны на Мхах, за городом. Среди них были товарищи: Карл Теснанов, Д. А. Прокушев, С. А. Закемовский, К. Н. Близнина, Д. Н. Анисимов, Ф. Э. Антынь, Я. Ю. Розенберг.
Свидетели казни рассказали впоследствии, как умирали большевики. Член подпольного комитета, военный моряк товарищ Иванов, находясь в камере смертников, запел «Интернационал». Палачи набросились на смелого большевика и растерзали на месте, в камере.
Расстреливая приговоренную к смертной казни женщину-большевичку (это по всем данным была Клавдия Близнина), палачи пытались приколоть ей на грудь бумажку для прицела. А она, разорвав рубашку, крикнула им: «Вот моя грудь, стреляйте, негодяи!»
Большевики мужественно принимали смерть. Они, стоя на краю братской могилы, гордо провозглашали: «Да здравствует Советская власть!»
Знамя борьбы, под которым сражалась большевистская подпольная организация Архангельска, подхватили тысячи партийных и непартийных большевиков, воспитанных партией Ленина – Сталина.