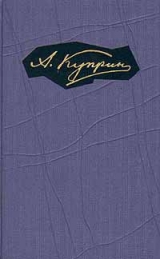
Текст книги "Том 7. Произведения 1917-1929"
Автор книги: Александр Куприн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 27 страниц)
Козлиная жизнь
В некотором царстве, в некотором государстве… Впрочем, нет. Этот рассказ не так начинается. Не в каком ином, как в нашем царстве, в собственном государстве, давным-давно жили-были дед да баба. И, как водится, не было у них детей. Были только: кошка Машка, собачка Патрашка и говорящий скворец Василий Иванович. Свыклись они все и жили дружно неподалеку от города. У каждого было свое занятие. Дед дрова колол, двор подметал, ходил пить чай в трактир и кряхтел на лежанке. Старуха сдавала на лето дачу дачникам из города и ругалась с ними от утра до вечера, а зимою вязала чулки и варежки и бранила старика. Патрашка ловил мух, лаял на луну и на свою тень, и был самым отчаянным трусом в деревне; ночью все просился в горницу, портил воздух и во сне тоненько полаивал, – бредил. Кошка Машка думала, что весь дом, и все в нем люди и звери, и все молоко на свете, и все мясо – все для нее одной заведено. Такая была самолюбивая. Оттого она очень обижалась, если, бывало, дед ее стукнет около молочника ложкой по голове или баба оплеснет водой.
Скворец Василий Иванович жил над окном, в открытой клетке, но ходил на полной свободе по всему дому, и все уважали его за ум и за образование. Очень искусно Василий Иванович истреблял тараканов и весьма похоже передразнивал: как дед ножик точит, как баба цыплят с крыльца сзывает, как Машка мурлычет. Как только дед с бабой за стол сядут, скворец уже на столе. Бегает, вертится, попрошайничает: «Ч-что же это такое, с-скво-руш-шку-то поз-за-были?»; А если и это не помогает, он прыг деду на голову да в лысину его – долб! Дед взмахнет рукой, а Василий Иванович уже над окном и верещит оттуда: «Что же такое за штуки? Что же это такое?»
Так-то вот они и жили в великом согласии. Раз зимою легли они спать. А на дворе была вьюга. Вдруг баба повернулась на бок и говорит:
– Дед, а дед, как будто у нас около калитки кто-то кричит… жалобно так…
– А ты спи знай, – отвечает старик. – Я только что второй сон начал видеть. Никто там не кричит. Ветер воет.
Помолчали, помолчали. Опять баба беспокоится.
– Да я же тебе говорю, встань ты, старый трутень. Ясно я слышу, что это ребеночек кричит… Мне ли не знать?
Тут все звери проснулись. Машка сказала:
– Это не мое дело. Если бы молоко или мышь, тогда так… А понапрасну я себя беспокоить не согласна.
Вспрыгнула на печку, задрала заднюю ногу кверху, как контрабас, и завела песню. Патрашка потянулся передними лапами, потом задними и сказал:
– Беф! Что за безобразие, уснуть не дают!.. Беф-беф! Целый день трудишься, спокою не знаешь, а тут еще ночью тревожат. Беф!
Покрутился, покрутился вокруг собственного хвоста и лег калачиком. На дворе что-то опять запищало. Даже и дед услышал.
– А ведь это ты верно, баба. Не то ягненок, не то ребенок. Пойтить, что ли, посмотреть?
Спустил ноги с лежанки, всунул их в валенки, снял с гвоздя тулуп, пошел на двор. Приходит.
– Старуха, зажги-ка огонь. Погляди, кого нам бог послал. Баба зажигает, а сама торопится!
– Кого? Кого? Мальчика? Девочку?
– Совсем наоборот. Не ребеночек, а козя. Да ты посмотри, какая прехорошенькая. Вынул из-за пазухи, подает бабе. Та разохалась:
– Ах, ах, ах, что за козя! Что за козюля удивительная. Настоящая ангорская.
А козя вся дрожит: на ножках и на брюшке у нее снег обледенел комьями, хвостиком вертит и прежалостно плачет:
– Б-э-э… Молочка бы мне-э-э!.. Дед своей старухи боялся и знал, что она скуповата. Однако осмелился, прокашлялся:
– Ей бы, старуха, молочка бы? А? А старуха и рада.
– Верно, верно, старик. Я сейчас.
Налила молочка в блюдце. Но козя была совсем мала и глупа, ничего не понимает, только ногами в блюдечко лезет и все блеет. Тут старик догадался.
– Подожди-ка, я ей соску сооружу.
Налил молока в аптекарский пузырек, обвязал сверху тряпку, колпачком, и сунул козе в рот… Уж так-то она принялась сосать, что просто ужас. Аж вся трясется и копытцем по полу стучит. Кошка Машка говорит:
– Здравствуйте! Мое молоко и вдруг каким-то бродягам. А Патрашка сказал:
– Совсем с ума спятили наши дед и баба. И полез под кровать.
Василий Иванович проснулся, когда зажгли свечку, и заскрипел что-то спросонья. Но увидал, что рядом на стене ползет таракан. Тюк! – и нет таракана. А козя выдудила пузырек, еще требует. Дали ей другой, и третий, и четвертый. А сами на нее не налюбуются. Но потом дед пощупал у нее животик и говорит:
– Точно турецкий барабан. Будя. Облопаешься. Идем-ка лучше спать. Залез на печку и взял козю к себе под армяк.
Очень скоро козя в доме освоилась. Научилась скакать с пола на лавку, с лавки на лежанку, с лежанки на печку. И такая утешная стала, ласковая, что просто одна прелесть. Не только из рук ест, но даже по карманам шнырит. И все бегает, суетится, хвостом трясет, орешки рассыпает. Баба в ней просто души не чает:
– Послал нам бог сокровище за сиротство за наше. Вот подрастет немножко козлетоночка наша и будет молока давать, каждый день по две бутылки. А мы его будем дачникам продавать. Молоко козье драгоценное, потому что очень целительное, – по полтиннику бутылка. А там острижем ее, и буду я зимою вязать чулки и перчатки из козьего ангорского пуха на продажу. И тебе, старик, свяжу к твоему дню ангела напузники на руки.
А козинька между тем растет не по дням, а по часам, умнеет просто по минутам. Такая, наконец, премудрая козища стала, что даже уж невтерпеж. Сначала, что она выдумала? Дедов табак жевать. Свертит он, бывало, себе крученку, заслюнит и положит на краешек стола. А коза уж тут как тут. Хан, и давай цигарку зубами во рту перетирать и проглотит. Один раз ухитрилась: дед забыл ящик задвинуть, так она целый кисет с табаком вытащила, изжевала и съела.
Но это еще было полбеды. Пришло лето, и козинька показала все свои способности. Что ни день, то на нее жалоба. Там капустную рассаду потоптала, там грядку левкоев слопала, там молодые яблоньки обглодала…
– Вы бы хоть привязали ваше убоище! – говорят старикам соседи.
– Привяжешь ее, как же! Пробовали мы ее привязывать, так она все веревки перегрызает.
– Ну, а все-таки поглядывайте, не удобно так-то…
И, кроме того, изучила она одну преподлую манеру – стала бодаться. Идет по двору человек и без всякого внимания. А она потихоньку зайдет сзади, да как разбежится, да как саданет лбом под коленки, тот мигом на задушку и сядет.
Многие очень обижались.
И чем дальше пошло – тем пуще. Чем больше козлища растет, тем больше наглости набирается. Через улицу в огороде весь молодой картофель повытаскала, у батюшки всю клубнику викторию начисто уничтожила, у волостного писаря сахарный горох истребила. Каждый день – новое бедствие. Не вытерпели наконец мужики, собрались вместе и пошли к деду-бабе.
– Как себе хотите, дед-баба, а больше нашего терпения нет. Житья нам не стало от вашего чудовища беспощадного. Вы его или продайте, или на мясо зарежьте. А мы больше не согласны.
Пробовала было баба заступиться:
– Что уж вы так строго? Чай, не разорила вас моя бедная ангорская козочка. Мужики как грохнут от смеха, как закачаются!
– Да что ты, матушка! Разуй глаза-то. Разве же это ангорская коза? Настоящий, что ни на есть, деревенский козел, и борода у него, как у председателя.
– Да неужели же? Батюшки, стыд-то какой. Пропали мои ангорские варежки! Ах, пропало мое козье молочко.
И в ту же ночь пристала к старику без короткого. Пилила его, пилила…
– Осрамил ты меня на всю округу. Куда мне теперь глаза девать? Засмеют, задразнят меня, станут козлиной бабушкой звать. А все через тебя, окаянный старик. Нет, как хочешь, а чтобы этой страшной твари в моем доме не было. Завтра же веди ее на базар продавать. Иначе житья тебе от меня не будет.
Делать нечего. Покорился дед. Встал утром пораньше, обмотал рога козлу веревкой и повел за конец. А козел и тут отличается. То упрется копытами в землю, головой мотает, – с места его не стронешь. То как подерет вперед, старик за ним еле поспевает, рысью бежит. Парни идут навстречу, заливаются:
– Дедушка, а дедушка, кто кого на базар продавать тащит: ты козла аль козел тебя?
Однако кое-как дошли они до базара, верст за двенадцать от своей деревни. Удалось деду продать козла очень скоро и выгодно. Расставаясь с козлом, чуть не плакал дед. Говорил новому владельцу:
– Уж ты, милый человек, побереги козелка-то. Он не простой, а ангорский. Умен до чего: только не говорит!..
Вернулся домой. Отобрала у него баба деньги. Легли спать.
А на утро… батюшки! Что за крик такой страшенный на улице? Дед и баба к окну. А на них снаружи прямо так и пялится противная козлиная морда – ровно сам нечистый. Стал на дыбки, передними ногами в стену стучит, ушами хлопает, бородищей трясет, носом дергает и орет во все горло:
– Бэ-е-е-е… Поесть бы мне-э-э-э!..
А на шее у него мотузок веревки болтается. Отгрыз-таки, подлец! Да это еще что! Глотнувши свободного-то воздуха, стал козел так по всей деревне озоровать, точно новый Емелька Пугачев объявился, которого дьякон в неделю православия с амвона проклинает. Раз пять его старик водил на продажу. Один раз в телеге увез за тридцать верст, голову ему в мешок завязавши. Вернулся ведь! Через два дня вернулся. Весь в репье, в ссадинах, хромой, грязный, вовсе неприличный – и дерет горло на всю деревню:
– Рады ли вы мне-э-э-э-э?..
Дошло наконец до того, что опять пришли мужики к деду, на этот раз уже всей деревней от мала до велика. И сказали:
– Ну, дед, давай решать по душе. Либо ты один живи в деревне со своим козлом, а мы отсюда уйдем куда глаза глядят, либо уж, так и быть, мы останемся, а ты уходи от нас со своим извергом.
Тут бабу взорвало, точно бочку с порохом. Как напустится она на старика:
– И пошел ты вон из моего дома, и чтобы я тебя больше не видела, и на порог тебя больше не пущу, пока ты своего товарища не зарежешь. На вот, бери ножик и веди козла в лес. И больше я знать ничего не хочу.
Что оставалось делать старику?
Проснулся утром до зари, опять обвязал козлу рога и потянул за собой. А козел, как нарочно, вдруг добрый-предобрый сделался, ласковый-преласковый: точно его подменили. То мордой о дедово колено потрется, то в глаза ему заглянет, то за рукав его теребит…
Пришел дед в лес, сел у дорожки на пенек и заплакал:
– Ну, как я своего козлика доморослого зарежу? Лучше бы уж мне на самого себя руки наложить! Никак я не могу этого сделать.
Только вдруг слышит песню. Из-за еланьки выезжают на дорогу справа по шести всадники-драгуны. Лошади под ними как на подбор, всё рыжие, идут охотно, весело, фыркают на росу, поигрывают. Солнышко тут взошло, шерсть на них золотом отливает, блестит на оружии. Одна красота, а кругом все зелено. Высоким тенором, задрав горло, заливается запевала:
Ротмистр скомандовал, дернул усами:
– Ребята, смотреть веселей. А хор как хватит:
Справа по шести, сидеть молодцами,
Не огорчать лошадей.
Так по всему лесу гул и пошел. Все звери и птицы шарахнулись. Вахмистр попридержал коня, подъехал к деду:
– Ты чего тут, старик, делаешь? О чем плачешь? Что у тебя за козел такой страховидный?
– Ах, батюшка-начальник, вот со мной какое горе… Так-то и так-то, – и рассказал дед всю свою беду.
– Ну, дедушка, это ты на старости лет глупости задумал. Подожди-ка, я тебя сейчас выручу. Стой, ррав-няйсь!.. Ребята, желаете козла принять в эскадрон? Солдаты обрадовались:
– Сделайте милость, Никандра Евстигнеевич. Наши кони давно по козлу скучают. Первое дело мухи его вони не терпят, а главное, домовой его боится. Самое разлюбезное дело выйдет, если возьмете. Первый козел будет по всей дивизии.
– Ладно. Сколько, старик, хочешь за козла вместе с веревкой?
– Да что вы, служивые! Буду я с вас деньги брать? Вам в походе каждая копеечка нужна: и на шило, и на мыло, и попить чтобы было. Берите так.
– Утешный старикан. Ну, спасибо тебе.
– А вы далеко ли, воины, путь держите?
– Мы-то? А вот едем немцев бить.
– Ах вы, мои милые. Ну, дай вам бог в сохранности вернуться.
– И ты живи, дедушка, поскрипывай. Эй, Петров, заводи.
Бесятся кони, брещат мундштуками,
Пенятся, рвутся, храпя-я-т.
Ударили в тарелки, засвистали соловьем, залился подголосок, заходил, заплясал бунчук…
Барыни, барышни взором отчаянным
Вслед уходящим глядят.
Пришел дед домой туча тучей. Со старухой и говорить не хочет. Это он нарочно так притворился, что будто бы ему козла зарезанного жалко. Старуха поверила и ничего не расспрашивает.
Но, как прошло недели с две, а козел все не возвращается, тут уж дед признался во всем откровенно. Ужасно баба обрадовалась:
– Спасибо, голубчик. Снял ты с моей души камень.
А козел, как поступил на военную службу, так как будто в ней и родился. Нашел наконец свое настоящее место. И сразу стал страх какой отчаянный! Бывало, идут драгуны перед обедом к водке, а уж кто-нибудь непременно вспомнит:
– Надо бы было и козлу поднести. Вася, Вася!.. Василь Васильич! А он уж тут как тут. Вихрем примчался. Бородой трясет.
– Водки мне-э-э-э!
И хлеб с солью ему полагался. И табачку давали пожевать. А за сахаром он сам по солдатским карманам лазил.
Но зато, как только полк выходит на ученье или на смотр, он уж непременно при первом эскадроне в первом взводе, в первом ряду, рядом с правофланговой лошадью. Отогнать его было никак невозможно. Даже генералы махнули на него рукой. Безобразно, конечно, когда козел своим диким галопом скачет рядом с конями, но ничего, мирились, знали, что козел – полковой любимец. Потом козлу пришлось и на настоящую войну попасть. Долго он туда ехал: сначала по железной дороге, потом шел пешком, опять с лошадьми в вагоне, через речки на паромах переправлялся и вброд. Зашел совсем в неведомые страны. И тут о нем нам уже мало известно. Говорят, что ходил три раза в атаку на артиллерию. Был ранен, но легко, солдаты его своими средствами вылечили. Говорят тоже, что за его бесстрашие повязали ему солдаты на шею сине-бело-красную ленту. Вспоминал ли он о деде-бабе? Должно быть, вспоминал. Но дело воинское тяжелое, некогда не только письмо написать, а и поесть некогда…
Дед-баба до сих пор поскрипывают, но уж очень старенькие стали, вовсе дряхлые. Кошка Машка оглохла. Патрашка совсем поглупел, разленился и стал у него прескверный характер. Один скворец держится молодцом. Бывало, утром вдруг заорет:
– Бэ-э-э! Молочка бы мне-эээ!..
Баба так к окну и метнется, а потом на скворца полотенцем замахает.
– Кшш ты, окаянный! До чего напугал. Я и вправду подумала, что это наша милая козинька просится…
Звезда Соломона
I
Странные и маловероятные события, о которых сейчас будет рассказано, произошли в начале нынешнего столетия в жизни одного молодого человека, ничем не замечательного, кроме разве своей скромности, доброты и полнейшей неизвестности миру. Звали его Иван Степанович Цвет. Служил он маленьким чиновником в Сиротском суде, даже, говоря точнее, и не чиновником, а только канцелярским служителем, потому что еще не выслужил первого громкого чина коллежского регистратора и получал 37 руб. 24½ коп. в месяц. Конечно, трудно было бы сводить концы с концами при таком ничтожном жалованье, но милостивая судьба благоволила к Цвету, должно быть, за его душевную простоту. У него был малюсенький, но чистенький, свежий и приятный голосок, так себе, карманный голосишко, тенорок-брелок, – сокровище не бог весть какой важности, но все-таки благодаря ему Цвет пел в церковном хоре своего богатого прихода, заменяя иногда солистов, а это вместе с разными певческими халтурами, вроде свадеб, молебнов, похорон, панихид и прочего, увеличивало более чем вдвое его скудный казенный заработок. Кроме того, он с удивительным мастерством и вкусом вырезал и клеил из бумаги, фольги, позументов и обрезков атласа и шелка очень изящные бонбоньерки для кондитерских, блестящие котильонные ордена и елочные украшения. Это побочное ремесло тоже давало небольшую прибыль, которую Иван Степанович аккуратно высылал в город Кинешму своей матушке, вдове брандмейстера, тихо доживавшей старушечий век на нищенской пенсии в крошечном собственном домишке, вместе с двумя дочерьми, перезрелыми и весьма некрасивыми девицами. Жил Цвет мирно и уютно, вот уже шестой год подряд все в одной и той же комнате в мансарде над пятым этажом. Потолком ему служил наклонный и трехгранный скат крыши, отчего вся комнатка имела форму гроба; зимой бывало в ней холодно, а летом чрезвычайно жарко. Зато за окном был довольно широкий внешний выступ, на котором Цвет по весне выгонял в лучинных коробках настурцию, резеду, лакфиоль, петунью и душистый горошек. Зимою же на внутреннем подоконнике шарашились колючие бородавчатые кактусы и степенно благоухала герань. Между тюлевыми занавесками, подхваченными синими бантами, висела клетка с породистым голосистым кенарем, который погожими днями, купаясь в солнечном свете и в фарфоровом корытце, распевал пронзительно и самозабвенно. У кровати стояли дешевенькие ширмочки с китайским рисунком, а в красном углу, обрамленное шитым старинным костромским полотенцем, утверждено было божие милосердие, образ богородицы-троеручицы, и перед ним под праздники сонно и сладостно теплилась розовая граненая лампадка.
И все любили Ивана Степановича. Квартирная хозяйка – за порядочное, в пример иным прочим, буйным и скоропреходящим жильцам, поведение, товарищи – за открытый приветливый характер, за всегдашнюю готовность услужить работой и денежной ссудой или заменить на дежурстве товарища, увлекаемого любовным свиданием; начальство – за трезвость, прекрасный почерк и точность по службе. Своим канареечным прозябанием сам Цвет был весьма доволен и никогда не испытывал судьбу чрезмерными вожделениями. Хотелось ему, правда, и круто хотелось – получить заветный первый чин и надеть в одно счастливое утро великолепную фуражку с темно-зеленым бархатным околышем, с зерцалом и с широкой тульей, франтовато притиснутой с обоих боков. И экзамен был им на этот предмет сдан, только далеко не блестяще, особенно по географии и истории, и потому мечты носились пока в густом розовом тумане. Давно заказанная фуражка покоилась в картонке, в нижнем ящике комода. Иногда, придя из присутствия, Цвет извлекал ее на свет божий, приглаживал бархат рукавом и сдувал с сукна невидимые пылинки. Он не курил, не пил, не был ни картежником, ни волокитой. Позволял себе только разумные и дешевые удовольствия: по субботам, после всенощной, – жаркую баню с долгим любовным пареньем на полке, а в воскресение утром – кофе с топлеными сливками и с шафранным кренделем. Изредка совершал он прогулки на вербы, на троицкое катанье, на балаганы, на ледоход и на Иордань и раз в год ходил в театр на какую-нибудь сильную, патриотическую пьесу, где было побольше действий, а также слез, криков и порохового дыма.
Была у него одна невинная страстишка, а пожалуй, даже призвание – разгадывать в журналах и газетах всевозможные ребусы, шарады, арифмографы, криптограммы и прочую путаную белиберду. В этой пустяковой области Цвет отличался несомненным, выдающимся, исключительным талантом, и много было случаев, что он для своих товарищей и знакомых, выписывающих недорогие еженедельные изданьица, разгадывал шутя сложные премированные задачи. Высоким мастером был он также в чтении всевозможных секретных шифров, и об этом странном даровании Ивана Степановича наша правдивая, хотя и неправдоподобная повесть рассказывает не случайно, а с нарочитым подчеркиванием, которое станет ясным в дальнейшем изложении.
Изредка, в праздничные дни, под вечерок, заходил Цвет – и то по особо настойчивым приглашениям – в один трактирный низок под названием «Белые лебеди». Там иногда собирались почтамтские, консисторские, благочинские и сиротские чиновники, а также семинаристы и кое-кто из соборных певчих – голосистая, хорошо сладившаяся, опытная в хоровом пении компания. Толстый и суровый хозяин, господин Нагурный, страстный обожатель умилительных церковных песнопений, охотно отводил на эти случаи просторный «банкетный» кабинет. Пелись старинные русские песни, кое-что из малорусского репертуара, особенно из «Запорожца за Дунаем», но чаще – церковное, строгого стиля, вроде «Чертог твой вижду», «Егда славнии ученицы», или из бахметьевского обихода греческие распевы. Регентовал обычно великий знаток Среброструнов от Знамения, а октаву держал сам знаменитый и препрославленный Сугробов, бродячий октавист, горький пьяница и сверхъестественной глубины бас. Хозяину Нагурному петь раз навсегда было строгий запрещено, вследствие полного отсутствия голоса и слуха. Он только дирижировал головой, делал то скорбное, то строгое, то восторженное лицо, закатывал глаза, хлюпал носом и – старый, потертый крокодил – плакал настоящими, в орех величиною, слезами. И часто, разнежившись, ставил выпивку и закуску.
На этих любительских концертах Иван Степанович, случалось, не мог отказаться от стакана-другого пива, от рюмочки сантуринского или кагора. Но приятнее ему было все-таки скромно угостить хорошего знакомого, чаще всего – волосатого и звероподобного октависта Сугробова, к которому он питал те же почтительные, боязливые, наивные и влюбленные чувства, какие испытывает порою пылкий десятилетний мальчуган перед пожарным трубником в сияющей медной каске.
II
Двадцать шестое апреля пришлось как раз в воскресенье, в храмовой праздник прихода, где пел Иван Степанович. Кроме обычной обедни, была еще отслужена заупокойная литургия, заказанная вдовой именитого купца Солодова, по случаю мужниных сороковин. Певчие, старавшиеся вовсю, были награждены расплакавшеюся купчихой с неслыханной щедростью (поговаривали, что покойный сильно поколачивал в хмелю свою супругу и что еще при жизни мужа она утешалась с красавцем старшим приказчиком). После литургии пропели панихиду на дому, а к поминальному обильному столу, вместе с духовенством и нарочито приглашенным соборным протодиаконом, был позван и церковный хор.
День закончился в «Белых лебедях»; настоящим разливанным морем, и как-то само собой случилось, что Цвет, всегда умеренный и не любивший вина, выпил гораздо более того, что ему было допущено привычкой и натурой. Но от этого он вовсе не потерял своих милых и теплых внутренних свойств, а, наоборот, забыв о всегдашней застенчивости и слегка распахнувшись душой, стал еще добрее и привлекательнее. С нежной предупредительностью подливал он пиво в стаканы то октависту Сугро-бову, то огромному протодиакону Картагенову, которого без особых усилий компания затащила в ресторанный подвальчик. Восторженно слушал он, как эти две городские знаменитости, оба красные, потные, мохнатые, с напружившимися жилами на шеях, переговаривались через стол рокочущими густыми голосами, заставлявшими тяжело и гулко колебаться весь воздух в низкой и просторной комнате. Обнимал он также и многократно целовал жеманного, курчавого и толстого Среброструнова, уверял, что место ему по его великим талантам быть не регентом в маленьком губернском городе, а, по крайней мере, управлять придворной капеллой или московским; синодальным хором, и клятвенно обещался подарить к именинам Среброструнова золотой камертон с надписью и к нему – замечательный футляр из красного сафьяна, собственноручной работы.
В этот вечер пели мало и не по-всегдашнему стройно: сказались усталость и купеческое широкое хлебосольство. Но говорили много, громко, возбужденно и все разом. Высокие носовые и горловые ноты теноровых голосов плыли и дрожали на фоне струнного басового гудения, точно сверкающая рябь солнечного заката на глубокой полосе спокойной, широкой реки. И Цвету мгновеньями казалось, что он сам среди пестрого говора, в синих облаках табачного дыма, пронизанного мутными пятнами огней, тихо плывет куда-то в темную даль, испытывая сладкое, сонное раздражающее головокружение, какую-то приятную, лазурную, с алыми пятнами одурь. Порою отдельные куски разговора вставали перед ним с необыкновенной, преувеличенной яркой ясностью.
– Я и не скрываю. Чего мне скрывать? – говорил смуглый, угреватый и мрачный баритон Карпенко. – Есть у меня один выигрышный билет. Первого мая ему розыгрыш. Хоть он и заложенный, а все-таки я его сколотил на мои кровные труды, и никому до этого нет никакого дела. Вот назло выиграю первого мая двести тысяч и брошу к чертовой матери и хор и службу. И заживу паном. Положу деньги под закладную дома из десяти процентов. Проценты буду проживать, а капитал не трону. Двадцать тысяч в год. Буду обедать у Смульского, а за обедом портвейн пить по два с полтиной бутылка. Попробуйте-ка у меня тогда занять денег. А н-ни копейки, ни грошика. Н-никому! Зась!
– Го-го-го, – загрохотал оглушительно Картагенов. Я раз выиграл на билет пятьсот рублей.
– Как это так, отец дьякон? На билет от конки?
– Ничуть не бывало. Взаправду. Мой батька, как вам, может быть, известно, был, вроде меня, соборным протодиаконом, но только не здесь, а в Москве. И голосом он обладал ужасающим, вроде царя-колокола или самолетского парохода. Что я перед ним? Мозгляк! – рявкнул Картагенов, и от его возгласа заколебались огненные языки в лампах. – Однажды ему за свадебного апостола купцы подарили шесть выигрышных билетов. Тогда они еще по сту с небольшим ходили. Вот он, значит, все эти билеты перетасовал и роздал, как карты, не глядя, и потом на каждом надписал имена: свое, маменькино и нас четверых: мое, двух братьев и сестренкино. И засунул за образа.
Однако не застраховал. Побоялся искушения. Сказано в Писании: «Не надейтеся ни на князи, ни на сыны человеческие». И положил он между нами всеми такой нерушимый уговор: если кто выиграет пятьсот рублей, тому выигрыш идет целиком, малолеткам – ко дню их совершеннолетия. А на руки – немедленная единовременная премия, в пропорции возраста. Мне, например, было высчитано рубль сорок копеек. Если же на чей билет падет больше, то все деньги делятся между участниками и хранятся по уговору, хотя счастливцу все-таки выдается увеселительный наградной куш. За тысячу – три рубля, за пять тысяч – десять и так далее, с благоразумным уменьшением процентов. За двести же тысяч – пятьдесят целковых, по тогдашнему времени – целый корабль с мачтами и еще груженный золотом.
Пришло первое мая. Отец нарочно купил газету, надел очки и смотрит. Глядь – готово. Мой номер. Цифра в цифру. Так и напечатано: вышел в тираж погашения нумер такой-то, серия такая-то. Что такое за штука тираж – никому не было тогда известно: ни отцу, ни знакомым. Но, посоветовавшись с кое-какими ближними мудрецами, так и порешили, что, должно быть, слово это означает тоже выигрыш, а может быть, – почем знать? – ив удвоенном размере? Батька по этому поводу совершил обильное возлияние, а мне на радостях было выдано в задаток рубль и сорок копеек. Устроил я в тот же день Валтасарово пиршество. Купил на улице полный бочонок грушевого квасу и весь лоток моченых груш. Угостился с приятелями квантум сатис [2]2
вдоволь (от лат. quantum satis).
[Закрыть], даже до полного расстройства стомаха [3]3
Желудка (от греч. stomachos).
[Закрыть]. Наутро батька попер с газетным листом на Ильинку к менялам, справиться, где и как получить выигранные деньги. Ему там и объяснили все его невежество. «Плакали, мол, отец дьякон, твои сто рубликов, а билет ты можешь оправить в рамку и повесить у себя в кабинете, как вечную память твоей глупости». Обиделся он самым свирепым образом. Вернулся домой, точно грозовая туча. И прямо ко мне: «Скидывай портки!»; – «За что, папенька?»; – «А за то, за самое. Не обжорствуй мочеными грушами, в них бо есть блуд!»; И такую прописал мне ижицу ниже спины, что и до сих пор вспомнить щекотно. А остальные пять билетов в тот же день продал. «Не хочу, – сказал, – потворствовать мошенническим аферам». Вот и все.
– Маловато, – заметил кто-то иронически.
– А что же? – возразил другой. – Хоть день, хоть час, а все-таки счастье. Разные там мечты, надежды, планы…
Все на минуту как-то задумчиво умолкли. Первым заговорил Среброструнов:
– Если бы мне двести тысяч, я объездил бы Россию, все города и захолустья, и набрал бы самый замечательный в мире хор. И пел бы я с ним в Москве. А потом стал бы концертировать по Европе. Везде: в Париже, в Лондоне, в Риме, в Берлине. И приобрел бы я всесветную славу. А Сугробова кормил бы сырым мясом и показывал в клетке за особую плату. Потому что за границей таких зверей еще не видывано.
– Ве-ерно, – протянул протодьякон низким, мягким и густым басом.
– Да-а, – подтвердил Сугробов на кварту ниже. – А я бы, – заговорил он с оживлением, – я бы сто пятьдесят этак тысяч отдал жене и сказал бы: «Вот тебе отступнóе. Живи себе как хочешь, пой, играй, пляши, а я – до свидания. Попилили меня десять лет, попили моей крови, пора и честь знать». И ушел бы я на волю. Засим тридцать тысяч отделю в общий великий вселенский пропой, а на остальное куплю хату, на манер собачьей конуры, но с садом и огородом. И буду возрощать плоды и ягоды. И кор-не-пло-ды… – закончил он в нижнее контр-ля. Многие засмеялись. Им было давно известно, в каком рабском подчинении держала этого могучего, черноземного, стихийного человека его жена – маленькая, тощая языкатая женщина, ходячая злая скороговорка, первая ругательница на всем Житием базаре. И сразу весь банкетный кабинет закипел общим горячим разговором. Как это часто бывает, соблазнительная тема о всевластности денег волшебно притянула и зажгла неутолимым волнением этих бедняков, неудачников и скрытых честолюбцев, людей с расшатанной волей, с неудовлетворенным аппетитом к жизни, с затаенной обидой на жестокую судьбу. И тут сказалась, точно вывернувшись наизнанку, истинная, потаенная буднями натура каждого. Мечтали вслух о вине, картах, вкусной еде, о роскошной бархатной мебели, о далеких путешествиях в экзотические страны, о шикарных костюмах и перстнях, о собственных лошадях и громадных собаках, о великосветской жизни в обществе графов и баронов, о театре и цирке, об интрижке со знаменитой певицей или укротительницей зверей, о сладком ничегонеделании с возможностью спать сколько угодно часов в сутки, о лакеях во фраках и, главное, о женщинах, о целом гареме из женщин, о женщинах всех цветов, ростов, сложений, темпераментов и национальностей.
Пожилой консисторский чиновник Световидов, умный, желчный и грубый человек, сказал ядовито:
– Ни у кого из вас нет человеческого воображения, милые гориллы. Жизнь можно сделать прекрасной при самых маленьких условиях. Надо иметь только вон там, вверху над собой, маленькую точку. Самую маленькую, но возвышенную. И к ней идти с теплой верою. А у вас идеалы свиней, павианов, людоедов и беглых каторжников. Двести тысяч – дальше не идут ваши мечтания. Но, во-первых, у вас у всех в общей сложности имеется наличного капитала один дырявый пятиалтынный. Во-вторых, ни у кого из вас не хватит выдержки сэкономить хотя бы сто рублей на покупку выигрышного билета. Карпенко, наверно, приобрел свой билет, зарезав родную тетку во время сна. И когда он выиграет двести тысяч, то как раз в тот же день его гнусное преступление раскроется и его, раба божьего, повлекут в тюрьму. А в-третьих, даже и с билетом в кармане вероятность первого выигрыша равна одному шансу на десять миллионов, то есть почти нулю или бесконечно малой дроби. Стало быть, все, что вы говорите сию минуту, – одно суесловие, раздражение пленной и жалкой мысли. Двести тысяч! Что за скудость фантазии!








