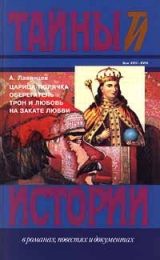
Текст книги "Царица-полячка"
Автор книги: Александр Красницкий
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 17 страниц)
XXXIX
СЛУГА ДУШИ И ТЕЛА
Но и этого милого, кроткого, застенчивого юношу однажды опалило дыхание страсти, правда, не своей, а чужой, а все-таки и он тогда понял, что есть на белом свете сила могучая, которая управляет жизнью человеческой более, чем холодный разум, чем сознание долга.
Это было в то лето, которое стало последним для Тишайшего царя Алексея Михайловича.
Около постели больного вдруг появился новый человек, немало пугавший всех семейных угасавшего царя своею замкнутой серьезностью, своим несколько мрачным видом, а главное своей черной фигурой.
Он появлялся в царских покоях всегда внезапно, и царевич Федор знал, что его приводят к больному украдкой, через потайные двери перехода. Иначе было невозможно.
Этим мрачным человеком был иезуит Кунцевич, и в Москве поднялась бы гиль, если бы там узнали, что у православного царя-государя бывает "пан-крыжак".
Отец Кунцевич попал к больному царю через придворного пииту, наставника царских детей, разудалого монаха Симеона, по прозванию Полоцкого. Тот наговорил про него много всего хорошего. Выходило так, что отец Кунцевич хоть покойника оживить бы смог, такой де он дельный лекарь.
О таком премудром лекаре доложили царю, и тот пожелал видеть его.
Когда царевич Федор впервые увидал отца Кунцевича, он вдруг не на шутку испугался – так его поразила серьезная мрачность этого человека. Отец Кунцевич в первый раз осматривал царя в присутствии наследника престола. Тут же был и Артамон Матвеев, единственный, на чью скромность в этом случае можно было положиться. Матвеев внимательно следил за новым врачом, и отец Кунцевич произвел на него хорошее впечатление.
– Знает дело лекарь-то! – шепнул он царевичу. – И слушает, и мнет, как положено, и постукивает… Я их, лекарей-то, перевидал на своем веку. Все их ухватки знаю.
Царевич Федор тоже не спускал взора с нового лекаря. Его приемы были совсем не те, которыми обыкновенно сопровождали свои осмотры и придворные лекари-немцы. Отец Кунцевич не шарлатанил, а действовал с простотою, но уверенно, и это производило впечатление на больного, для которого лекарские осмотры обыкновенно бывали сплошною мукою.
Покончив с осмотром, отец Кунцевич весьма почтительно, но без тени холопского подобострастия стал откланиваться.
– Я ничего сейчас не могу сказать о болезни его царского величества, – сказал он, – мне нужно все сообразить, и только тогда я могу сказать свои предположения.
– Так, так! – добродушно одобрил его Тишайший, – торопиться нечего. Чай, не сейчас помру.
– Совершенно верно, – спокойно ответил иезуит, – каждый человек в воле Господа, смерть всегда у нас за плечами, но я не думаю, чтобы роковой конец наступил раньше середины зимы. Я могу высказать это как предположение, а для более определенного сейчас у меня нет никаких данных…
– Спасибо за правду! – растроганно проговорил Тишайший, – вот если бы всегда мне так говорили, так, может быть, меньше я и обеспокоен был бы. А то врут все! Говорят, что еще многие лета я жить буду, а сами знают, что меня смерть за ворот держит.
– Не совсем так, государь, – улыбнулся иезуит. – Но я уже сказал вам, что все в воле Божией! Когда я приду в следующий раз, я с полной откровенностью выскажу вашему величеству свое мнение.
Он почтительно поклонился и пошел к Матвееву, бывшему его проводником по дворцовым тайникам. Проходя мимо грустно глядевшего на него царевича, иезуит приостановился и тихо, но внушительно сказал:
– Вашему высочеству тоже весьма необходимо лечиться, – после чего, сделав новый поклон, вышел вслед за Матвеевым из покоя.
– Ну что, как государь? – спросил его тот, когда они были довольно далеко от царской опочивальни. – Плох?
– Да, – ответил иезуит, – он проживет недолго…
– Сколько? – воскликнул испуганный Артамон Сергеевич. – С год или более?..
– Нет, вряд ли его и на полгода хватит… Весь его нестойкий по природе организм уже расшатан и подточен недугом.
– Что же теперь делать? – совсем уже растерялся Матвеев.
– Лечить, и очень серьезно, его наследника, – ответил иезуит, – царевич тоже недолговечен, но лечением можно продлить его жизнь. Если бы мне предложено было, – словно вскользь заметил он, – я взялся бы за лечение его высочества.
– Да как же это сделать? – с сердцем ответил ему Артамон Сергеевич. – Ведь буря поднимется, ежели только узнают, что ты, крыжак, его лечишь.
– Что же? Ради покоя я мог бы лечить его тайно. Разве не может царевич бывать у своего учителя Симеона? Там мы и могли бы встречаться. Никто об этом ничего не узнал бы, а, может быть, мне удалось бы несколько укрепить силы этого бедного царственного юноши!
Пока отец Кунцевич говорил, Матвеев смотрел на него, не спуская взора. Как-никак, а это доброжелательство поляка до некоторой степени будило в Артамоне Сергеевиче подозрительность. Ведь отец Кунцевич был сыном страны, издавна враждовавшей с Москвой; короли этой страны считали Москву своим достоянием, и вдруг такая заботливость со стороны поляка о московском престолонаследнике!
Иезуит, должно быть, понял, какие мысли бродят в голове этого близкого царю человека, и с улыбкой произнес:
– Не думает ли боярин о том, с чего это я принял на себя заботы о его государях? Так мой ответ на это был бы весьма прост. Я – скромный служитель алтаря и ни в какую политику земных властителей не вмешиваюсь. Я – Божий, а не земной… Для меня все люди на земле – дети одного Отца – Творца неба и земли, а потому я, видя, что молодое существо хиреет, и спешу на помощь к нему с теми познаниями, которыми умудрил меня всемогущий Господь!
Матвеев внимательно слушал эту речь иезуита, но вряд ли верил хотя бы одному его слову.
"Да, да, – думал он, – знаем мы, что ты за птица!.. И твоих песен хорошо наслышаны. Слыхали таких-то! Черные вы вороны. Турнуть бы тебя следовало, да вот лекарь ты и в самом деле знающий. Свет-государя тебе не поднять – не Бог ты, а Феденьку полечи, зачем ему пропадать. Пусть поживет во славу Божию! Пока я тут поблизости, и не такие, как ты, козлы не страшны, а умру я – так уж Божья воля будет".
Заметив, что отец Кунцевич вопросительно смотрит, Артамон Сергеевич круто оборвал свои мысли и сказал:
– Что же, если умудрил тебя Господь, то и нам от твоей помощи нечего отказываться. Сделаешь доброе дело – без награды ни на небеси, ни на земли не останешься… А насчет мниха-пииты ты хорошо придумал. Ходить ты будешь будто к нему, туда же я и царевича приведу.
Знаменитый дворцовый пиита, поэт-лауреат того времени, черноризец Симеон Полоцкий жил в одном из дворцовых флигелей. На смиренного инока он был похож разве только по платью. Это был веселый, жизнерадостный старик, всегда готовый и гульнуть с добрыми приятелями, и попить "до положения риз" зелена вина, и попеть под гусли или бандуру не одни только церковные песнопения, а подчас, когда не было в кружке лишних глаз, готовый, подобрав полы рясы, пуститься в отчаянный пляс, заставляя дрожать слюду в окнах от раскатов здорового бурсацкого хохота.
Симеон был украинец, киевский бурсак; в молодости он толкался среди польской знати и по духу скорее был католическим, чем православным монахом. Свое крестовое имя он давно позабыл, а может быть, и никогда не помнил; рясою он отнюдь не тяготился и духовного начальства никакого не признавал. Даже грозный патриарх Никон отнюдь не пугал его. Хорошим в нем было то, что он не впутывался в дворцовые интриги и одинаково был дружен с представителями всех постоянно враждовавших между собою дворцовых партий. У этого-то "светского монаха" и стали происходить встречи царевича Федора с иезуитом Кунцевичем.
Последний был всегда вкрадчиво почтителен с наследником престола. Рассуждал он с ним всегда серьезно и притом всегда о таких предметах, которые были более всего по сердцу юному царевичу. Многое, что говорил отец Кунцевич, было откровением свыше для царевича Федора. Он жадно слушал иезуита и скоро, сам того не замечая, подпал под его влияние.
Однажды, как-то придя к своему старому учителю Симеону, царевич Федор не застал ни его, ни лекаря. Вместо них в просторной, совсем уж не монастырской келье старого сочинителя "Вертограда" был высокий, красивый, с мрачным, несколько злым лицом молодой человек. Это был князь Василий Лукич Агадар-Ковранский.
Царевич и ранее того видел его несколько раз с отцом Кунцевичем. Он даже знал, что последний с большими усилиями выходил князя от тяжелого недуга. Теперь царевич даже был рад, что этот молодой человек очутился от него так близко и притом с глазу на глаз с ним.
– Князь Василий, а князь Василий, Васенька, – позвал он Агадар-Ковранского, когда тот, низко поклонившись, заспешил к выходным дверям, – да куда ты все торопишься? Посидел бы ты со мной малость, поговорили бы мы… Чай, не страшный я…
Царевич даже улыбнулся, произнеся эти слова. Он рад был разговору со свежим человеком, притом ближе подходившим к нему по возрасту, чем другие, окружавшие его во дворце люди.
Князь Василий, услышав это приглашение, низко поклонился и сказал:
– Чтой-то, царевич, несуразное ты сказал. Ты ли страшен! Да ты все равно, что ангел небесный!
– Оставь, – махнул рукою Федор, – надоели мне хвалы.
– Да я и не хвалю тебя, а говорю, что думаю. Прости, ежели что не по сердцу сказал! Приказывай, какую тебе службу сослужить…
– И ничего я приказывать не буду, а прошу. Вот садись-ка ты против меня на лавку, побеседуем. О себе мне расскажи! Ты ведь на воле живешь, всякое видаешь, а я здесь – все равно, что Божья птичка в клетке. Садись!
Князь Василий присел.
XL
ВОРВАВШАЯСЯ ЖИЗНЬ
Несколько времени они молчали, смущенно переглядываясь друг с другом. Агадар-Ковранский, несмотря на всю дикость своей натуры, просто ополоумел от мысли, что сидит, как равный с равным, с наследником московского престола. В первый раз он так близко видел царевича Федора и никогда не воображал, чтобы будущий царь мог быть таким вот, как этот болезненный, с тонкими, женственными чертами лица юноша, столь кротко, без тени какого бы то ни было презрения смотревший на него. Эта нежная красота и кротость никак не вязались с представлениями князя Василия о царе-государе, который, по его мнению, должен был быть и ростом велик, и голосом груб, и на речи дерзок, дабы было в том хотя какое-нибудь отличие между ним и его червяками-подвластными.
Федор же, напротив того, смотрел на князя Василия с великим любопытством. Ведь он крайне мало видал людей, и ему казалось, что все те люди, которые находились вне стен дворца и кремля, – совсем другие люди, особливые от тех, которых он видит постоянно вокруг себя. Поэтому-то новый человек возбуждал в нем жгучее любопытство.
Так смущенно, не зная, о чем заговорить, молчали они несколько времени.
– Ну, что ж ты ничего не говоришь, милый? – ласково спросил Федор. – Ты не бойся, скажи что-нибудь!.. Как вы там живете, про веселости ваши расскажи… Я ведь здесь в четырех стенах-то постоянно сидючи, как есть ничего не знаю! – и он даже засмеялся, вспомнив, как часто он воображал себя птичкою малой, запертой в раззолоченную клетку.
Этот смех рассеял смущение князя Агадар-Ковранского. Он опомнился и быстро сообразил, что наступает тот момент, о котором до этого часто-часто шли у них разговоры с иезуитом Кунцевичем. Для него не было сомнения, что эта неожиданная встреча с наследником престола устроена его черным другом. Отец Кунцевич часто брал его, князя Василия, с собой, когда отправлялся к Симеону Полоцкому на потайные свидания со своим пациентом-царевичем. Но, должно быть, все не выпадало ему свести молодых людей так, чтобы они могли очутиться с глазу на глаз и поговорить о разных разностях, позабыв о различии своего положения. Едва только вспомнил обо всем этом князь Василий, как к нему опять возвратилась его обычная дерзость.
– Эх, государь ты наш, свет-царевич! – воскликнул он со своей обычной пылкостью. – Тоже нашел кого о веселостях расспрашивать!.. Веселости! Тоска-злодейка так вот и гложет сердце молодецкое, горе неизбывное давит, а ты – веселости.
– Ну расскажи о своем горе! Нам, царям, и ваше горе точно так же, как и веселости, неведомо. Послушаю я, какое на земле горе бывает; такое ли оно, как царское.
– Да нешто вы-то, цари, тоже его знаете? – спросил князь Василий. – Вот уж чему я не поверил бы! У царей да горе!..
– А то нет, что ли? – потупился царевич. – Вон батюшка мой помирает; нешто это – не горе. Нарышкины с Милославскими грызутся – опять-таки горе. Мачеха и не глядит на нас, пасынков и падчериц. За братцем Иванушкой не доглядели – и он чуть у печки не сжегся. Боярину Матвееву комедийное действо поставить как следует не удается. Слышь ты, лицедеи его хмельной браги много выпили, и двух архангелов батогами отодрать пришлось. Все это печалит, спокою лишает… Разве это – не горе?
Князь Василий ничего не ответил. Он вряд ли даже слушал царевича, обдумывая в это время свой ответ.
– Ну вот видишь, – уже настойчиво продолжал говорить Федор, – я тебе все по душе сказал, так и ты не таись. Скажи, какое у тебя горе. Ты не бойся, я никому не скажу, а ежели что смогу, так и посодействую, шепну кому-нибудь там. Может быть, и удастся твое горе в радость обратить.
– Эх, коли так, не буду молчать! – воскликнул Агадар-Ковранский. – Видно, Бог меня вспомнил и с тобою, царевич, свел. Ну, коли так, слушай! Скажи мне откровенно: ты любил кого-нибудь? Или еще не пришла твоя пора, молчит твое сердце?
Федор удивленно посмотрел на собеседника.
– А как же не любить-то? – сказал он. – Вот ты какой чудной! О чем спрашиваешь!.. Да разве есть на белом свете Божием человек, который любви не знал бы? Мы, цари, хотя и помазанники Божии, а все-таки человеки, и, как говорит учитель наш, инок Симеон, и нам ничто человеческое не чуждо.
– Ну так ты, стало быть, знаешь, о чем будет речь моя, – проговорил князь Василий. – Коли ты любил уже, так и горе мое поймешь.
– Да-да, – радостно закивал головою царевич. – Пойму, беспременно пойму. Говори только, да поподробнее говори!
– Ну, слушай, царевич! Нет больнее недуга, как любовь. Недавно меня медведь чуть было не заломал, потом такая лихоманка с горячкой привязалась, что я Бог весть сколько недель меж жизнью и смертью валялся. Спасибо вон тому лекарю, к которому и ты ходишь; только он меня и выправил, а кабы не он – лежать бы мне под курганом с крестом. Только не на радость мне была поправка. Как выправился я, так и почуял, что новый недуг мною владеет, и куда он горше, чем тот, который меня в могилу тянул. Эх, царевич, царевич!.. Коли ты тем недугом уже болел, так знаешь сам, что недужному-то и Божий свет не мил, а солнышко на небе не светит, а темь гонит, и лакомый хлеба кусок в глотку не идет, и не любо ничто, что недавно еще так мило было, – ни утехи лихие молодецкие, охота псовая или соколиная, ни пиры-попойки веселые, ни песни в душу льющиеся, ничего, ничего!.. Ходишь, как в воду опущенный, тоскуешь, как зверь лесной, насмерть раненный!.. Все не мило, все противно, ни на что бы не глядел. Томишься, терзаешься, места себе не находишь, на каждого человека, как на врага себе, глядишь… Куда ни кинешься – вместо отрады да покоя муку себе находишь. А душа-то так и мятется, так и рвется; все так тебя и тянет куда-то, а куда – и сам не знаешь… Вот она, любовь-то, свет-царевич наш, надежда милостивая!
Все это было произнесено Агадар-Ковранским быстро, с большим повышением голоса; видно было, что порыв охватил его и что он не столько говорит со своим царственным собеседником, сколько самому себе высказывает мучившие его сокровенные думы. Он даже не видел, как раза два в приотворенную дверь выглядывала голова иезуита Кунцевича. Хитрый интриган, устроивший это свидание, не пропустил ни одного слова в разговоре молодых людей.
Федор внимательно слушал все то, что говорил Агадар-Ковранский. Порыв, овладевший буйным князем, захватывал собою и нежную душу юного царевича.
XLI
ИСТОМНАЯ НОЧЬ
Царевич открыл окно, и ему прямо в лицо пахнуло ароматами благоуханной ночи. Было уже темновато, чувствовалось близкое наступление осени, но было тепло и тихо. Тишина подействовала умиротворяюще на разволновавшегося царевича. Он стоял, облокотившись на подоконник, и жадно вдыхал лившиеся к нему ароматы. Мысли о всеисцеляющей смерти сами собою отошли от него; около него вились роем думы о жизни. И вдруг царевичу стало грустно именно от этих дум.
И все-то эти "земные мысли" вращались около одного и того же центра – любви. О чем бы ни начинал думать Федор Алексеевич, его думы неудержимо неслись к этому центру. И вовсе не теплая благоухающая ночь была в том причиною. Видно, и прочные стены великолепных дворцов земных владык не уберегают от натисков жизни, от вторжения в их душные покои великих сил природы; видно, и жалкому, тщедушному, болезненному царскому сыну приспело время любить… любить и страдать.
"Если люди страдают из-за этой любви, – размышлял царевич, – и все-таки страдая, любят, значит, любовные страдания – счастье. Иначе и думать нельзя. Хотелось бы и мне узнать, что такое любовь, отчего непременно нужно страдать и терзаться тому, кто любит".
Едва подумав так, юный царевич почувствовал, что краснеет. Ему даже стало совестно самого себя: еще никогда у него не было таких дум, и вдруг явились они незваные, непрошенные, уже и теперь не в меру мучительные.
Большим усилием воли царевич прервал свои думы. В своей девственно-наивной простоте он считал их греховными, "от прелести дьявола", и уже хотел наложить на себя строгую епитимию за то, что дозволил им на миг овладеть собою, когда заметил какую-то смутную тень, промелькнувшую мимо него под деревьями любимого сада.
"Кто это? – промелькнула у него тревожная мысль. – Уж не тать ли какой ночной?"
Однако тревога, охватившая царевича, быстро прошла и он даже весело засмеялся.
– Знаю, знаю я, что это такое! – тихо промолвил он самому себе. – Ох, воистину были у меня мысли от дьявола. Только что не хотел ничего думать, только что с самим собою справился, а он, окаянный, вот так и надзуживает, так в искушения и вводит. Ахти мне, грешному! Пойти скорее в опочиваленку да на молитву стать.
Но напрасно! Царевич в этот момент был и с самим собою неискренен. Он знал, что не пойдет в свою опочиваленку, не опустится на колена пред святыми иконами, а если и заставит себя сделать это, то не чиста, греховна будет его молитва, далеко-далеко унесутся его помыслы от всего святого, что, стоя пред святой иконой, он будет думать только о грешном земном.
Все вспоминался ему разговор с князем Василием, и слова этого бешеного человека о любви так и жгли его душу. Странными показались тогда эти слова царевичу.
– Не понимаю я, о чем говоришь ты, – раздумчиво сказал он. – Больно уж чудны твои слова для меня. Видно у нас, царей, совсем не такая любовь, как у вас, подвластных. Я вон очень люблю сестрицу Софьюшку, хотя она, когда мы были маленькими, пребольно колачивала меня, да и теперь не спускает. Вот тут намедни рассердилась и венецейским блюдечком, что батюшке из-за рубежа посольство привезло, в меня пустила. Расколотилось блюдечко-то на кусочки. Я только взыскивать на ней обиду не стал. Что поделать? Старшая сестра! А только, как я ее ни люблю, никакой я муки от того не испытываю.
– Не про ту любовь, царевич, говоришь! – горько усмехнулся князь Василий. – Не серчай на меня, ежели я скажу тебе, что такая любовь для малых детей, а не для взрослых. Есть другая любовь – любовь доброго молодца к красной девице. Вот в этой-то любви и мука. Свободного – она тебя рабом делает!.. Говорят, есть в турецких землях рабы, которые, хоть и люди, а для своих господ хуже подъяремного скота. У нас, на святой Руси, слава Богу, нет таких, да и у турок, проклятых, такими рабами только чужеверные бывают. Так вот, кто любит, тот у своей возлюбленной таким рабом и существует. Что хочет, она с ним сделает. Какие хочешь, веревки совьет, а на все любящий человек пойдет. Вот Господь Бог, уж и не знаю за какие грехи, попустил мне таким недугом заболеть. Полюбил я тут девицу одну, отдал ей свое сердце, свою душу, все свои помыслы…
– Так что же, женился бы на ней, – перебил его царевич. – Хочешь, я твоим сватом буду?
Царевичу припомнилось, что он не успел ни договорить сам, ни услыхать ответа.
Князь Василий не успел ответить. Внезапно из-за двери выдвинулся отец Кунцевич.
– А, ваше высочество, – воскликнул он, притворяясь, будто и не знал о посещении царевича. – Не заставил ли я вас ждать?
Отец Кунцевич проговорил все это с заискивающей улыбкой.
Появление его было настолько неожиданно, что оба молодых собеседника невольно вздрогнули.
"Подслушивал он, или нет? – спросил сам себя Агадар-Ковранский. – Вот человек: нельзя никогда понять, что он думает, и его дьявольских подходов никак не угадаешь!"
Князь Василий, хотя еще весьма и смутно, но все-таки начинал понимать загадочную натуру иезуита. С того самого дня, когда он, придавленный своей неудачею в Чернавске, примчался к отцу Кунцевичу в попутный поселок делиться своим горем, он и отец Кунцевич были неразлучны.
Не возвращаясь домой, в свою лесную трущобу, князь Василий отправился в Москву вслед за своим таинственным другом. В Москве у него был свой дом, обыкновенно пустовавший; в нем они и поселились. Отец Кунцевич оказался великим домоседом; он редко выходил из своего добровольного затвора.
Да ему и не нужно было где-нибудь появляться на Москве: за него действовал искусно направляемый князь Агадар-Ковранский. Именно он разнес среди своей влиятельной родни, а через нее и по всей Москве его славу, как искусного лекаря, он же устроил отцу Кунцевичу и знакомство с Симеоном Полоцким, благодаря которому иезуит пробрался и в царские покои.
Но отец Кунцевич сделал ошибку. Если бы он не остался с князем Агадар-Ковранским, не поселился с ним под одной кровлею, где тот мог видеть его постоянно, он так и был бы для князя постоянной загадкой, действовал бы на его воображение. А тут слишком тесная близость показала князю Василию отца Кунцевича в несколько ином виде.
Как ни был духовно могуч иезуит, но он все-таки был человеком, и случались моменты, когда с него сама собой спадала надетая им на себя личина. Вследствие этого и Агадар-Ковранский, от природы наблюдательный, уразумел, что его "черный благожелатель" – далеко не то, чем он стремится казаться. Попросту говоря, под овечьей шкурою всякой елейности и доброжелательства князь Василий сумел разглядеть и волчьи когти и клыки иезуита. Но было уже поздно разрывать сам собою создавшийся союз, тем более что страсть в сердце князя Василия с течением времени не утихала, а все более и более распалялась. Отец Кунцевич же все время держал себя так, что только с ним одним Агадар-Ковранский мог делиться своими сокровенными думами и затаенными надеждами.
Сколько князь ни рыскал по Москве, он и следов не находил боярина Грушецкого, а тем более Ганночки, словно в воду канули со всеми своими чадами и отец и дочь.
Князь Василий страдал от неудовлетворенной страсти, и только могучая воля отца Кунцевича сдерживала то и дело обращавшиеся в бурю порывы молодого дикаря. Агадар-Ковранский терял голову; он жил только одними надеждами, и как ни устал он ждать, но именно эти надежды еще устраняли от него отчаяние.
Теперь встреча с царевичем, которого князь считал всесильным, снова окрылила его, и ему было даже неприятно думать, что иезуит подслушивал их беседу, а более всего неприятно было то, что появление отца Кунцевича прервало их разговор как раз тогда, когда он, князь, только что хотел открыть своему царственному собеседнику имя своей возлюбленной.
Отец Кунцевич даже и внимания не обратил на неприязненные взгляды, которые бросал на него князь Василий. Он, кланяясь, подошел к царевичу и стал против него, ожидая, что тот скажет.
– Еще раз нижайше прошу прощения вашего высочества, – повторил он свои извинения, – я бы на крыльях прилетел, если бы только мог знать, что вы пожалуете сегодня в эту скромную келью вашего наставника. Но и он сам не был осведомлен об этом…
– Да, да! – воскликнул Федор Алексеевич, оправляясь от некоторого смущения. – Тут я во всем виноват один. Мы уговорились встретиться на завтра, а завтра я иду за крестным ходом вместо батюшки и, быть может, не приду сюда. Поэтому-то я здесь теперь.
– И тем лучше, ваше высочество! – ответил отец Кунцевич. – Я тогда сегодня займусь вами подольше. Меня очень беспокоят хрипы в ваших легких, и я хочу во что бы то ни стало найти причину их происхождения. О, ваше высочество! Опыт научил меня, что при всяком недуге – и телесном, и душевном – всегда нужно искать его причину, и, найдя причину, нужно стараться удалить ее: средства подыскать легко, а с последствиями также легко справиться. Прошу вас снять ваш кафтан…
Он сделал знак Агадар-Ковранскому оставить их одних. Тот низко-низко поклонился царевичу.
– Ну, прощай, князь Василий, – ласково сказал Федор Алексеевич, – я рад, что встретился и побеседовал с тобою. Когда мы встретимся еще, ты доскажешь мне про свой недуг все до конца.
Князь Василий с низкими поклонами вышел из покоя.
– Что, ваше высочество, – спросил отец Кунцевич, пока юный царевич снимал верхнее платье, – этот бедняга, кажется, и вам надоедал с тайнами своей неудачной любви?
– Да, он говорил со мною откровенно. Мне очень жалко его и хотелось бы помочь ему, но я не знаю как…
– Вы очень добры, ваше высочество, – ответил, приступая к выслушиванию, иезуит, – но в своих сердечных недугах более всех виноват сам этот молодой человек. Но прошу вас, вздохните поглубже…
Долго и тщательно осматривал иезуит-доктор своего царственного пациента.
– Итак, ваше высочество, вы завтра шествуете за крестным ходом? Осмелюсь спросить – где? – спросил он.
Федор Алексеевич назвал храм, откуда должен был выйти крестный ход, и тот храм, куда он направлялся.
– Да, да, я знаю эти места, – проговорил иезуит, – они находятся под действием сырых ветров, иногда тут встречающихся и производящих как бы воздуховорот. Вам, ваше высочество, следует одеться как можно теплее; вы все время будете как бы на сквозняке. Весьма покорно просил бы вас именно завтра уделить мне немного времени и пожаловать сюда. Я снова осмотрю вас, чтобы определить, какое влияние будет иметь на ваш организм эта жестокая прогулка!
– Я приду, – просто ответил царевич, прощаясь с иезуитом, и даже не заметил, как тот вышел, так как все его мысли были заняты пылким признанием князя Василия о его любви.
"Вот князь Василий Лукич, – вспомнил он теперь свою беседу с Агадар-Ковранским, – думаю я, жестоко страдает. А зачем? Потому что он любит; стало быть, и любовь – мука. Зачем же тогда люди любят? Ведь это значит, что они сами заведомо для себя идут на муку. Непонятно что-то! Никто себе заведомо пальца не обрежет, а тут такое страдание по охоте принимают. Что же это такое? Нет, уж я лучше никого, кроме родных, любить не буду!"
Увлекаемый своими мыслями, царевич подошел к окну. Там под ним был сад, любимое место его детских игр. Царевич любил этот уголок, так как он напоминал ему золотые дни детства.
В лицо ему пахнула ночь, полная грешных желаний.
Царевич теперь завидовал князю, его молодому пылкому счастью, его смелой и здоровой любви.
Под впечатлением этих дум он шагал по аллейке, пока его не догнала сестра Софья. Она пошла рядом с ним. Несколько времени брат и сестра молчали.
– Ты что ж, Федор, думаешь? – заговорила первая Софья. – Поди, батюшке доложишь, что нас застал?
– Да уж и не знаю как, Сонюшка, – позамялся Федор Алексеевич, – и тебя-то мне жаль, и пред батюшкой смолчать нельзя…
– Да что ж я тебе сделала? – спросила царевна. – Тебе-то что?
– Как что? – вспыхнул Федор. – Будто уже и не позор для нашего царского рода?.. Царская дочь да с подвластным слюбилась. Вот пару нашла!..
Вся загорелась гневом богатырша-царевна.
– Ах, ты, слюнтяй! – громко, не стесняясь закричала она. – Недоносок маменькин! Тоже нашел, чем корить! С подвластным! Да, стало быть, хороша я девка, ежели меня любят! Вот тебя, чахлого разиню, поди, никто не полюбит. Кому такие-то, как ты, нужны? У тебя нешто кровь? Рыбья сыворотка у тебя, а не кровь. Вот женят тебя да жену молодую приведут, так ты, что и делать с ней, знать не будешь, а станешь только охать да вздыхать: тут болит, да там болит… А тоже мужчиной прозываешься! "Я, дескать, по образу и по подобию Божию сделан… не из ребра"… Тьфу! Из навоза гнилого ты сделан… А тоже корить: царская дочь с подвластным слюбилась. Да ежели бы ты понять мог, что бывает, когда вся кровь в теле ходуном ходит и огнем пылает! Как тогда человек к человеку стремится!.. А у меня крови много, и откуда она у меня такая кипучая, не знаю. Царская дочь! Да что же мне из-за того, что я – царская дочь, и счастья не изведать?.. Нет, братец милый, без счастья вековать, как государыня-тетушка, я не буду!.. Не такая я… Вот люблю Васеньку и никого не боюсь; жилы из меня тяните – не испугаюсь, а ежели его тронут, то такое натворю, что и сами вы все не рады будете: пошлете его в Березов, так я за ним, как собачонка, побегу. Вот тебе и будет царская дочь!.. Смекнул? Иди, слюнтяй паршивый, наушничай родителю. Иди! Чего стал да бельмы выпучил? У-у, недоносок! Глядеть-то на такого противно!
С этими словами юная царевна-богатырша так толкнула в грудь своего тщедушного брата, что тот едва-едва удержался на ногах. После этого она пустилась бегом к крыльцу палат.
– А ты, царевич, – раздался около Федора Алексеевича мужской голос (это неслышно подошел князь Василий Васильевич Голицын), нас не трогал бы с Софьюшкой-то… Мы тебе не мешаем, а любим друг друга, так значит, то Господу Богу угодно… Шел бы теперь почивать. Не царевича дело по ночам любящих ловить…
С трудом добрался до своей опочивальни Федор Алексеевич. Много передумал он в остаток этой ночи и лишь под утро, вспомнив, что ему за крестным ходом нужно идти, забылся тревожным сном.








