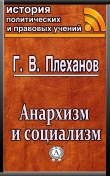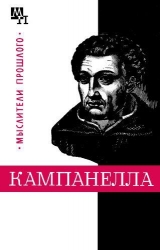
Текст книги "Томмазо Кампанелла"
Автор книги: Александр Горфункель
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 11 страниц)
Во второе, парижское издание «Реальной философии» Кампанелла включил написанный уже в Париже взамен уничтоженной римской цензурой «Монархии мессии» трактат «О царстве божьем». Речь идет о царстве божьем на земле, царстве равенства и справедливости. «Так как всеобщее счастье всего человеческого рода, желанное от века и проповеданное науками, не может не осуществиться, и все ненавистные бедствия не могут прекратиться иначе как в царстве божьем… и не может быть тщетным это всеобщее стремление, и не могут не исполниться писания пророков, – пишет Кампанелла в этом своем „политическом завещании“, – я желаю теперь сказать нечто о царстве божьем в утешение всем народам и ради согласия, надежды и утешения государей» (17, стр. 212). Только в этой всемирной монархии, в рамках которой осуществится утопия «Города Солнца», человечество достигнет мира, прекращения войн, расколов и ересей, освобождения от страха, голода и болезней.
Каким виделось Кампанелле это царство божье на земле, мы знаем из 14-й книги «Богословия». Прямо ссылаясь на «Город Солнца», Кампанелла перенес в этот последний вариант своей утопии все существенные черты коммунистической программы калабрийского заговора, начиная от общности имуществ и всеобщего труда и кончая организацией управления; единственное, от чего он здесь отказался, – это общность жен «в отношении ложа». Размышления об идеальном общественном устройстве соединяются здесь с программой всемирного объединения, с сенатом из правителей всех земель мира, «дабы не было войн и перековали мечи на орала» (87, стр. 59). И здесь обе стороны его социально-политической программы – коммунистическое переустройство общества и прекращение межнациональных и межгосударственных войн и раздоров – напрочно соединены.
Стареющий философ-политик не оставляет мысли об осуществлении этой программы. В 1637 г., посвящая кардиналу Ришелье новое парижское издание своей книги «О способности вещей к ощущению и о магии», Кампанелла писал: «И Город Солнца, который я изобразил, а тебе надлежит воздвигнуть, да воссияет вечным и немеркнущим светом» (91, стр. 64).
5 сентября 1638 г., в день, когда философу-изгнаннику исполнилось 70 лет, родился наследник французской короны. Кампанелле – астрологу и поэту – был заказан гороскоп на рождение царственного младенца. В стихотворной латинской «Эклоге на рождение дофина», опубликованной в январе 1638 г., за несколько месяцев до смерти автора, Кампанелла дал волю своим мечтам о наступлении золотого века. «Родился великий герой, и он воссоединит все народы в едином христианстве и воздвигнет храм мира», – провозглашал он в последнем порыве пророческого вдохновения. Образ будущего короля Франции приобрел – в который раз – знакомые черты правителя-философа:
До основанья изучит искусство войны он и мира,
В тайны небес и во все, что земля и вода производят,
Вникнет глубоким умом, и вещей познает систему.
Связи постигнет, раскрыв веления судеб и Рока…
Не придворный астролог и льстивый стихотворец – автор «Города Солнца» в сознании своей исторической миссии обращался к будущему коронованному властелину Франции.
И восхитительный Град, что назван по имени Солнца,
Ныне от сердца всего я посвящаю тебе —
так начинал он «Эклогу» и завершал ее видением своей осуществленной мечты:
Соединятся цари, воедино сольются народы:
Солнечным названный Град воздвигнет великий герой
(7, стр. 300–310).
Людовик XIV не осуществил возложенных на него калабрийским изгнанником надежд. Он не создал царства божьего на земле, не воздвиг Города Солнца. Его самого придворные панегиристы назвали «Король-Солнце». Восторжествовала макиавеллистская государственная необходимость абсолютной монархии.
Политическая программа Томмазо Кампанеллы обернулась утопией.
«Век будущий рассудит нас»
Итак, в эпоху подъема национальных государств политический мыслитель выступает с утопической программой наднациональной всемирной монархии, – с программой, реакционность и нереальность которой были очевидны уже в средние века.
В эпоху, когда государство успешно отстаивало свою независимость от церкви, идя по пути ограничения, а то и конфискации церковных имуществ, он разрабатывает идеал теократического правления, соединяющего государственную власть и священнослужение.
В эпоху укрепления абсолютизма в самых передовых странах Европы он отвергает идею государственной необходимости – идеологическое обоснование абсолютной монархии.
В эпоху, когда передовые умы отстаивают принципы веротерпимости, он проповедует объединение всех исповеданий в католическом христианстве.
В эпоху, когда кальвинистская реформация становится знаменем ранних буржуазных революций, он ведет ожесточенную борьбу против реформационных учений.
В эпоху первоначального накопления капитала и подъема нового класса – буржуазии он страстно обличает стремление к прибыли и жажду наживы, охватившие современников.
Мы оцениваем деятелей прошлого в зависимости от их отношения к прогрессивным устремлениям их эпохи; для XVI–XVII столетий зарождение и развитие капиталистических отношений представляло бесспорный прогресс по отношению к феодальному средневековью.
Но, выступая против капитализма со всеми его последствиями, Кампанелла ни в какой мере не выражал ностальгию феодальных баронов по безвозвратно прошедшим патриархальным временам их полного и невозмутимого владычества.
Социальная природа мировоззрения Томмазо Кампанеллы определяется его отношением к классовой противоречивости буржуазного прогресса. Зарождение и первые шаги нового общества сопровождались неисчислимыми бедствиями обездоленных народных масс, разорением и гибелью плативших за каждый шаг по пути капиталистического развития. Страдавшие и от развития капитализма, и от сохранявшихся форм жестокой феодальной эксплуатации, угнетенные низы города и деревни оказывались жертвами строя, воздвигавшегося на их костях.
Кампанелла не понимал неразрывности обеих сторон единого исторического процесса. Приветствуя достижения и плоды развития цивилизации, научно-технические результаты эпохи великих открытий, он отвергал ту погоню за золотом, которая попутным ветром надувала паруса Колумбовых каравелл. Он видел тягостные последствия революции цен для низших слоев современного общества; за воспетым гуманистами расцветом личности, освобожденной от пут средневековых сословных традиций, он разглядел звериный оскал своекорыстного себялюбия.
Утопия Кампанеллы – выражение плебейской оппозиции бесчеловечным формам классового гнета. В ней отразилась и сила их протеста против несправедливости и неравенства, и страстная мечта об ином, справедливом общественном строе, и одновременно их слабость и историческая обреченность.
Именно поэтому в коммунистической утопии Кампанеллы гневный протест против угнетения сочетается с надеждой на благодетельное вмешательство сверху, революционность калабрийского мятежника – с попыткой убедить сильных мира сего в необходимости желательных перемен, разоблачение макиавеллистского использования религии как орудия политического господства – со стремлением объединить человечество в «очищенном от злоупотреблений» христианстве, пропаганда науки – с проповедью «естественной религии», общность имуществ – с теократией.
Социальным происхождением Кампанелловой программы преобразований объясняются и многие существенные черты изображенного им идеального государства. Протестуя против буржуазного индивидуализма и себялюбия, Кампанелла в своем «Городе Солнца» последовательно подчиняет человеческую личность постоянному государственному контролю и руководству. Отвергая брак, основанный на происхождении и материальных интересах, он начисто забывает об индивидуальной любви и склонности, и описание брачных церемоний соляриев напоминает подчас инструкции по скотоводству: в нем нет ничего, что выходило бы за пределы заботы о получении здорового потомства. Обращая огромное внимание на общественный характер воспитания и образования, он вместе с тем всю повседневную жизнь граждан Солнечного Града регламентирует в соответствии с указаниями ученых-жрецов. Солярии не только «работают отрядами», но и спят и обедают только совместно, вся частная жизнь их согласуется с предписаниями правителей и велениями звезд. Кампанелла не забывает и об институте тайных соглядатаев, он печется о религиозном единстве и смертную казнь определяет за преступления против религии. Так в мечте о справедливом и разумном общественном устройстве проступают черты «казарменного социализма».
Социальной природой программы преобразований Томмазо Кампанеллы определилась и ее практическая неосуществимость: ни калабрийский заговор, ни апелляции к могущественным государям или церковной иерархии не увенчались успехом.
Но, оказавшись утопией для XVII столетия, коммунистический идеал Кампанеллы зажил самостоятельной жизнью в последующих веках. Утопическая мечта с ходом времени стала приобретать очертания политической программы. Научный социализм отбросил из нее то, что было в ней временного и вызванного специфическими обстоятельствами эпохи: теократическую форму государства, астрологические фантазии, идеал всемирной монархии, монастырско-казарменные черты в организации труда и быта граждан Города Солнца.
Но остались навеки прозрения калабрийского мятежника и пророка – о роли науки в общественной жизни, о просвещении народа, о прекращении войн и раздоров и всемирном единстве человечества, об упразднении частной собственности и эксплуатации людей, о справедливом и разумном устройстве человеческого общества. Все это передал и завещал грядущим векам автор «Города Солнца».
Приложение
Томмазо Кампанелла
Философия, доказанная ощущениями
Публикуемый – впервые в переводе на русский язык – отрывок из «Предисловия» к «Философии, доказанной ощущениями» Т. Кампанеллы содержит провозглашение нового метода Кампанеллы в философии, противостоящего схоластической традиции. Перевод выполнен А. X. Горфункелем по изданию: Т. Campanella.Philosophia sensibus demonstrate. Napoli, 1591. При подготовке перевода использован итальянский перевод этого текста, осуществленный Л. Фирпо. L. Firpo.Il metodo nuovo ( Praefatioalla Philosophia sensibus demonstrata) di Tommaso Campanella. Estratto dalla «Rivista di Filosofia», vol. XL, 1949. fasc. 2.
Предисловие
Не только присущая нам природа, но и религиозные и светские писатели, приводя многочисленные доводы и примеры, убеждают нас, что должно стремиться к истине и предпочитать ее самой жизни – даже тогда, когда она отвергнута всеми. Истина действительно такова, что, хотя бы и была она вопреки справедливости насильственно сокрыта, – по озарению божественной воли, от которой она исходит, внезапно вырывается из тьмы, и становится очевидной каждому, и всплывает на поверхность, оставляя все за собой. Так что те, кому удалось скрыть ее, если они совершали это из низких побуждений, оказываются разоблаченными как враги бога и людей и возбуждают великую ненависть, а если поступали так по неведению, вызывают всеобщее презрение.
Итак, коль скоро истина есть знание вещей, соразмерное чувствующей и мыслящей душе и происходящее от самих вещей, которые созданы, существуют и расположены высшим основателем Вселенной в том же порядке, в каком они должны быть познаны, – то из самих вещей, познанных нашими чувствами, должно извлечь все относящееся к их происхождению, количеству, формам, свойствам, аспектам и изменениям так, чтобы они были объявлены такими, каковы они в действительности, а не такими, какими пытается представить их наш разум, столь изменчивый из-за противоречивых суждений об изменчивых предметах и из-за затруднений, возникающих в самом мыслящем духе.
И я заключил, что природу вещей следует изучать на основании ощущения, которому она открывается непосредственно такой, какова она в действительности и какой пожелал создать ее бог. И я счел, что способность к познанию природы, конечно, свойственна человеческому разуму и только заглушена в нем, поскольку все вещи создал бог и взял на себя заботу обо всех вещах, и нет иного бога, кроме него.
Я пришел к этому выводу после того, как на протяжении целых пяти лет усердно занимался чтением книг древних философов, в особенности перипатетиков и платоников, а также и иных, какие только мог раздобыть, и не только не был ими удовлетворен, но и обнаружил, что они противоречат моему чувственному опыту. По этой причине я постоянно возбуждал в себе вражду со стороны учителей, под водительством которых совершал свои первые шаги, так как было очевидно, что я не собираюсь стать последователем аристотелевских догм (сами учителя мои с трудом понимали их, хотя и почитали непогрешимыми), и так как я отвращал с этого пути и своих соучеников.
Так, я признал, что чужие учения весьма далеки от истины. Я объяснял это тем, что наследники древних восприняли науки не через опыт собственных чувств, но уже выработанными древними и переданными от них потомкам соответственно их разумению. Так что науки оказались крайне запутанными, и лишь некоторые или немногие, и притом с великим трудом, едва оказались в состоянии овладеть ими целиком. А поэтому им казалось чем-то весьма значительным хотя бы воспринять науку от других людей и передать ее ученикам, а не извлечь се из самой природы, изучение которой представлялось столь малодоступным. Поэтому они, достигнув такого рода толкованиями почета среди людей, которые довольствовались чужим изложением, не обращаясь к текстам и не проверяя точность истолкований, уже не стремились к истине, а стали преданными последователями древних и усвоили чужие мнения. Они не обращались к исследованию природы вещей, а изучали только высказывания, и притом даже высказывания не самих философов, а только их толкователей.
И так укоренилось это зло среди людей, что они охотно стали прощать заблуждения, унаследованные от древних, как если бы связаны были обетом, и скорее отвергали собственный чувственный опыт. Главная причина этого была в неких книгах, именуемых диалектическими, так как их предметом являются слова. Книги эти внесли великое смятение своими темными понятиями и вымышленными терминами, имевшими различное значение в разных языках, от которых они дошли до нас, и даже в недрах одного языка. И так как иные рассчитывали прославиться, основательно изучив такие вещи и наловчившись рассуждать о них с другими, они усердствовали в этом, не замечая, что все это враждебно природному чувству, ибо сложность тут заключена лишь в словах, а не в вещах самих по себе.
И перейдя затем к философии природы, которую Аристотель соорудил по своему произволу и с помощью подобных словесных ухищрений, не сверяясь с действительностью, они как бы поклялись, что в свете логики философия Аристотеля является божественной, или, быть может, не смея довериться собственным силам в исследовании природы вещей, полагают истинными его суждения, неопровержимыми его принципы и поэтому считают, что нельзя даже и в спор вступать с теми, кто не согласен с Аристотелем, но должно избегать таких людей. Они и тем уже были довольны, что могли понять его высказывания, и немногим удалось хотя бы прочитать его целиком. Они были охвачены стремлением не постичь истину, но только изложить другим Аристотеля, стяжав славу тем, что они основательно знают его и умеют разрешать противоречия при помощи авторитета цитат, так что они никогда и не достигали истины.
Так они спорят друг с другом обо всем, только не об истине, которую они извращают с помощью высказываний Аристотеля, которых они совершенно не понимают, и вымышленных тонкостей, совершенно не заботясь об истинном смысле и противоречиях в суждениях, стремясь единственно к утонченному толкованию, избегающему согласования с опытом. Если же случайно они и займутся вопросом, подлежащим ведению чувств, то они видят не то, что есть в действительности, но лишь то, что вычитали у Аристотеля, только это делают аргументом и это приводят в ответ на возражения. А если сама природа предмета откроется их противящимся и враждебно настроенным чувствам как явно противоречащая аристотелевым определениям, то они говорят, что он не мог ошибаться, и с помощью пустой и лживой логической болтовни латают ложные суждения Аристотеля. И в качестве последнего довода они утверждают, что интеллект (они ведь составляют душу из многих противоречивых элементов, хотя на деле она едина) учит нас иным образом, нежели ощущения, и считают разумное знание более благородным, как если бы разум состоял из иной непогрешимой субстанции и был в состоянии воспринять что-либо без посредства чувств и как если бы сам Аристотель не говорил, что бессмысленно оставлять ощущения ради умозаключений, и не учил, что всякое знание рождается из ощущения и из вещей, им воспринятых или подобных. Поэтому они пренебрегают всякими чувственными данными, которые изобличают их в противоречиях Аристотелю и самим себе, в то время как те, кто пытается согласовать одно с другим, делают это не без ущерба для того и другого и ценой искажения природных законов.
Избегая, таким образом, познания вещей, они растрачивают время на споры между собой о предметах науки по Аристотелю, об их благородстве, о минимуме и максимуме, о консеквентности, формах, сущностях, понятиях, первом данном познания, об определениях и разделениях – не вещей, а слов, – о субстанции, акциденции, субъекте, предикате, силлогизме, категориях и еще о словах Аристотеля: верно ли, что здесь он доказывает, там говорит предположительно, здесь обобщает, там аргументирует a priori, где действующая, а где целевая причина, – и все эти и иные выдумки касаются не вещей, а только слов Аристотеля.
Поэтому я никогда (клянусь Геркулесом) не видел, чтобы кто-нибудь из них изучал [реальные] вещи, отправился в поле, на море, в горы исследовать природу; они не занимаются этим и у себя дома, а пекутся лишь о книгах Аристотеля, над которыми проводят целые дни. И дело в конце концов доходит до того, что они уже не понимают тех тонкостей, с помощью которых опровергают доводы противников; и даже тот, кто сам первый их придумал, едва в состоянии ответить на возражения; и одни повторяют слова других, из-за чего, отвечая на всякий вопрос, по существу расплываются в рассуждениях: «Само по себе и акцидентально, в потенции или актуально, в аспекте логическом или физическом, во-первых, интенциально, а во-вторых, формально и виртуально…»; а если кто заявит о несостоятельности такого ответа, провозглашают: «Такой-то автор сказал так», ничуть не заботясь о том, чтобы извлечь истину из самих вещей.
Рассмотрев все это, я понял, что наука должна заниматься не словами, а вещами и что она зиждется не на суждениях Аристотеля, не на его умозаключениях и силлогизмах, пришел к выводу, что знание следует извлекать из самих вещей, и направил свои поиски по этому пути. И тогда я решил изложить метод исследования вещей посредством ощущения и опыта, где речь шла бы не о словах и темных высказываниях, но о вещах, с помощью не вымышленных, но самими вещами внушенных понятий. В этом сочинении я показал, каким образом следует вести изучение вещей – через познание их действий, вида, подобия и совпадения, каким образом впадают в заблуждение в этих наблюдениях и особенно как следует приписывать вещам те свойства, которыми они обладают, хотя бы на первый взгляд они казались лишенными этих свойств, и как, напротив, нужно отказывать им в тех свойствах, какими они лишь по видимости обладают, но которых у них в действительности нет: ведь в этом заключен источник заблуждений. Я изложил на бумаге этот метод, избранный мною и позволивший мне открыть истину, насколько это вообще доступно человеку, когда мне не исполнилось еще 19 лет, намереваясь отныне обнародовать плоды моих исследований, с которыми до тех пор ознакомил лишь немногих, ибо я опасался, по юношеской робости, возбудить порицание, если обвиню в заблуждениях своих предшественников (а надо заметить, что я еще в 14 лет принял обет повиновения Доминиканского ордена), особенно из-за того, что те, кому я открыл эти мысли, доносили о них другим, начальствующим, из-за чего я подвергся немалым наказаниям за то, что отвергал суждения великих (как они говорили) философов.
Моих доводов не слушали, а когда я припер своих противников к стене, они обрушились на меня с руганью. Все это я испытал в возрасте около 18 лет и еще раньше. Но с течением времени истина распалялась во мне все более, и я не мог уже удерживать ее в себе. И видя, что меня осуждают за превратный образ мыслей, подобный образу мыслей некоего Бернардино Телезио из Козенцы, который возражает всем философам, и особенно Аристотелю, я очень обрадовался, что нашел товарища или руководителя, которому мог бы приписать свои мысли, оправдав их тем, что они были уже произнесены другим. Отправившись в Козенцу, знаменитый город бриттиев в Нижней Калабрии, когда-то именовавшийся Бреттия, я попросил книгу Телезио у одного из его последователен, человека достойного и превосходного. и он охотно дал мне ее. Я начал читать се с величайшим интересом и, прочтя лишь первую главу, мгновенно понял все, что содержалось в остальных до самого конца, прежде чем их прочел. Конечно, я еще раньше был устремлен к принципам его философии, так что сразу понял своим умом все вытекающие из них следствия. У него ведь действительно все вытекает из своих начал и не бывает так, как у Аристотеля, что следствия противоречат причинам или вовсе не зависят от них. Когда я находился в Козенце, великий Телезио скончался, и мне не дано было услышать его учение из его собственных уст и увидеть его живым; но, лишь когда прах его был принесен в церковь, я восхищенно созерцал его лицо и положил на гроб посвященные ему стихи.
А когда я отправился в Альтомонте по распоряжению начальства, я счел долгом основательно изучить сочинения этого философа, прежде чем издать в свет книгу о методе исследования и обнародовать плоды моих открытий. Так, располагая необходимым временем, я пришел к выводу, что не у Телезио, но у всех прочих был превратный образ мыслей, и рассудил, что его должно ставить выше всех как мыслителя, извлекающего истину, как это было очевидно, из познания вещей, рассмотренных посредством ощущений, а не из химер и считающегося с вещами, а не со словами людей.