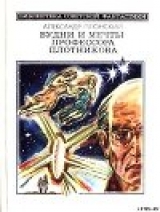
Текст книги "Будни и мечты профессора Плотникова (сборник)"
Автор книги: Александр Плонский
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 14 страниц)
Корабль величественно проплыл мимо, и Никита смотрел ему вслед с грустью и недоумением, словно провожал ушедшего, не обернувшись, друга. Силуэт корабля становился все меньше, пока не затерялся среди звезд…
И вот уже звезды ожили, замерцали. Заплескались за бортом волны, вода вновь зажглась фосфорическим блеском, загудели умолкнувшие было снасти…
Никиту охватил ужас. Что это: кошмарный сон, наваждение, дьявольский соблазн? Он размашисто перекрестился и, как заклинание, пробормотал фразу, много раз слышанную в детстве от бабушки:
– Страшен сон, да милостив бог!
Сразу же полегчало. Он встряхнулся и успокоенно крикнул звонким мальчишечьим голосом:
– Так держать!
Разве мог предположить мичман флота российского, что триста лет спустя его потомок-близнец Никита Анненков, младший штурман гравилета «Гром», с таким же немым изумлением будет взирать на обзорный экран, где в океанских волнах под звездным небом Атлантики восстанет из давно минувших времен красавец-клипер с гордо реющим Андреевским флагом.
Но и этот Никита Анненков воспримет увиденное как наваждение. Однако мнемокристаллы зарегистрируют видение, и синклит ученых объяснит его реликтовой космической аберрацией, сдвинутым во времени миражем. Откуда знать им, что еще через тысячу лет второй потомок-близнец и третий по счету Никита Анненков – выдающийся молодой мыслелетчик – осуществит свою давнюю мечту: совместит в одной точке две разные проекции пространства-времени…
ЗАПАХ ВАНИЛИ
У меня хватит ума держать язык за зубами. Ведь в то, что произошло со мной, не поверит ни один материалистически мыслящий человек!
Мистик, напротив, пришел бы в восторг, раструбил всем и вся. Взял бы на вооружение. Как раз этого я и не допущу. Ведь существуют реалии, хотя и не имеющие ничего общего с чудом, но пока еще непосильные для нашего мозга. Такова сама жизнь. Можно осмыслить ее частности, целое же непостижимо. Раньше я так не считал. Теперь убежден в этом.
Итак, в двадцать седьмом часу нуклонного времени я раздавил предохранительную пластинку и коснулся сенсора. На табло забегали огоньки, машина загудела, осмысливая информацию. Должно было пройти ровно тридцать минут – достаточно, чтобы передумать. Но я не передумал и во второй раз тронул сенсор.
Пляска огоньков усилилась, гудение стало громче. Машина словно предупреждала: «Опомнись, что ты задумал!» За бортом бушевала солнечная корона, обрушивая на жаропрочную обшивку капсулы турбулентные потоки плазмы. Система охлаждения работала на пределе – малейший сбой, и неминуема гибель. Но быть испепеленным слишком банально. Я выбрал для себя другой конец, и до него оставалось полчаса. Разумеется, нуклонного времени, а оно, как известно, еще более быстротечно, чем звездное, солнечное, эфемеридное или атомное.
Нелегко уходить в небытие. Тридцатиминутные интервалы и троекратное прикосновение к сенсору исключают непродуманный шаг: ведь он может быть вызван вспышкой отчаяния. Мое же решение не было скоропалительным. Я долго размышлял, прежде чем его принять, и вовсе не досадовал на ритуал с сенсором: часом раньше, часом позже – какая разница?
Шли последние секунды. Рука в третий раз потянулась к сенсору. Стоило запоздать, и произошел бы сброс на нуль. Тогда пришлось бы все начинать заново. На нерешительность и рассчитаны дубли: секунда в секунду – так можно действовать, лишь сохраняя холодный рассудок.
Миллиметры и миллисекунды отделяли меня от вечности, когда сзади послышалось:
– Не делай этого!
Я машинально отдернул руку. Время было упущено. И лишь затем до меня дошло: не в мыслях, не в подсознании прозвучал голос, а донесся извне.
Я оцепенел. Потом заставил себя обернуться и… увидел женщину. Ее не могло быть! Если уж солнечные протуберанцы не в состоянии проникнуть внутрь капсулы, то человек мигом бы испарился в хромосфере, будь даже на нем скафандр наивысшей космической защиты!
Вспомнилось из старой-престарой сказки:
«Чур меня, сгинь, нечистая сила!» От этих непроизнесенных слов я расхохотался. Это выглядело как истерика: я безудержно смеялся, а волосы на голове шевелились от ужаса.
Но вот мне удалось взять себя в руки.
«Чего страшиться? Смерти? Но не ты ли добивался ее? А что может быть страшнее? Галлюцинация?» К чести своей, я ни на мгновение не подумал о чуде. Мне уже приходилось сталкиваться с явлениями, которые любой другой, по крайней мере в первый момент, счел бы сверхъестественными, или, если прибегнуть к псевдонаучной фразеологии, ирреальными.
Я не ученый, не исследователь в обычном толковании этого слова, а испытатель экстремальных нагрузок и стрессовых ситуаций. Меня бросают в горнило и ждут: сгорю или закалюсь. С моей помощью определяют предел сверхчеловеческой выносливости. Суперкаскадер, вытворяющий немыслимые кульбиты во славу науки, – вот кто я такой. В Древнем Риме быть бы мне гладиатором!
Что я только не делал: завтракал в эпицентре ядерного взрыва, совершал парашютные прыжки с Луны на Землю, погружался в глубочайшие впадины Мирового океана и в жерла стратовулканов… И при всем при том никогда не брался за дело, если вероятность выжить была меньше пятидесяти процентов. Гладиатор-доброволец, расчетливый смельчак, доверяющий не интуиции, не наитию, а лишь теории вероятностей. Если она обещает пятьдесят шансов из ста, я готов: по крайней мере сорок из оставшихся сложатся в мою пользу благодаря мастерству, самообладанию, мгновенной реакции. Вот и надеюсь на них, а не на слепой случай, везение.
Кстати, я невезуч. Уроню бутерброд – упадет маслом вниз. Камень с небес нацелен на мою голову. Снежная лавина сорвется, как только окажусь поблизости.
Но я успеваю подхватить бутерброд на лету, движением тореадора уклониться от небесного камня, в акробатическом слаломе опередить лавину.
Иной невезучий человек укроется за стенами дома-крепости, не подозревая, что и они таят в себе угрозу. Я же поминутно заглядываю в бездну. Но вовсе не от избытка храбрости, ее у меня в самую меру. И это не игра со смертью, не желание пощекотать нервы, не молодецкая удаль, замешенная на вере в непременную удачу. Такова уж моя профессия…
Я не фаталист. Сентенции вроде «чему быть, того не миновать» мне чужды. Возлагать на судьбу ответственность за будущее свойственно слабым. Я же, что ни говори, принадлежу к сильным. И знаю: очередной расклад случайностей в, казалось бы, нескончаемом пасьянсе рано или поздно станет для меня последним. И не судьба это, а теория вероятностей.
Обычно люди стараются не думать о закономерном конце жизни, отодвигают его если не в бесконечность, то на неопределенный срок. Я же постоянно держу в уме латынь: «Мементо мори!» – «Помни о смерти!» Потому, что при всех обстоятельствах последнее слово за ней. Я буду его оспаривать, пока хватит аргументов, и так было не раз. Но она может с ними и не согласиться. Это предусмотренный вариант – нежелательный, но, увы, неизбежный: десять шансов из ста не так уж мало…
Никак не ожидал, что среди этих гибельных шансов есть скрытые во мне самом, что решение уйти может быть связано не с матовой ситуацией, которую невозможно предотвратить, что однажды мне просто захочется избавиться от жизни, как избавляются от обременительного груза…
Было бы это самоубийством? Вовсе нет! На самоубийство идут с отчаянья. Я же отказывался жить естественно и спокойно, как отодвигают недопитый бокал, утолив жажду. Отказывался потому, что исчерпал отпущенный мне лимит. Казалось, ничто на свете не сможет больше меня удивить. Я постиг все, что может постигнуть смертный. Постиг, но не достиг. Что дали людям мои трюки, сделали их счастливыми, избавили от голода и нищеты? Кому я нужен?
Мысли мои не были пропитаны горечью. Констатация факта, подведение итога, бесстрастное, даже равнодушное осмысление своей роли, пресыщенность ею – вот, пожалуй, и все…
Я уже собрался в последний раз тронуть сенсор и выключить себя за ненадобностью, словно светильник с наступлением дня, когда услышал негромкий женский голос:
– Не делай этого.
Она была похожа на туркменку или таджичку. Черные, блестящие, уложенные короной волосы, позолоченная Солнцем матовая кожа, резко очерченные дуги бровей, удлиненные карие глаза с чуть желтоватыми белками, нежный овал лица, тонкая, казавшаяся беззащитной шея – лебединая, сказал бы я, если бы тяготел к штампам.
На ней был комбинезон, почти такой же, что и на мне, – с эмблемой Всемирной исследовательской ассоциации, – только не мешковатый, а облегающий гибкую женственную фигуру.
Все это я рассмотрел, не переставая идиотски хохотать. Давился смехом и одновременно наблюдал ее как фантастический парадокс бытия – оживший мираж, полярное сияние, принявшее человеческий облик. Мой мозг на удивление холодно анализировал необычайное явление, так и сяк пытаясь подобрать к нему математический ключ, перевести эмоции в рациональное компьютерное русло. Ведь и в преддверии небытия можно оставаться профессионалом!
Впрочем, мне вдруг расхотелось умирать. Пересилило любопытство: оказывается, не все изведано в этом скучном мире!
Она коснулась меня теплой, поразительно ласковой ладонью. От нее едва уловимо пахло ванилью…
Я не знаю, было ли у меня детство. Оно не оставило воспоминаний. Разве что похожий запах. Возможно, так пахло от моей матери. Я не запомнил ни ее лица, ни голоса. Только запах ванили почему-то ассоциировался с нею. Всякий раз, обоняя его, я замирал в странном напряжении, пытаясь извлечь нечто затерянное в глубинах памяти. Некую тайну.
Но запахи нестойки. И я стряхивал наваждение, словно дорожную пыль, до следующего нескорого раза…
Стоп! Зачем этот самообман? Не было у меня матери! Я – гомункулус, так назвал кто-то из древних искусственного человека, порожденного воображением.
Гомункулус… Уже не воображаемый, а во плоти и крови. Задуманный как супермен, воспринятый как недочеловек…
А запах ванили… Так пахли духи молоденькой лаборантки, которая меня синтезировала. Ее прогнали: ведь она самовольно ввела в мою память непредусмотренный запах…
Мать я выдумал после. И заставил себя поверить в ее существование. Просыпался по ночам от собственного зова: «Мама! Мама…» Мне хотелось быть не суперменом-гомункулусом, а обыкновенным, ничем не выделяющимся из массы человеком. С его мелкими заботами и переживаниями, мечтами, планами, даже неудачами и огорчениями. С тем, что называют душой… …Женщина коснулась меня теплой, ласковой ладонью, источающей родной запах, и я вдруг почувствовал себя таким маленьким человеком, как бы ребенком, делающим первым шаги.
– Кто ты? – спросил я доверчиво.
Она молча приложила палец к губам.
– Как твое имя? – настаивал я.
– Разве дело в имени? – улыбнулась женщина. – Имя всего лишь псевдоним, знак, символ. А иногда – маска, скрывающая лицо.
– Да, главное – не имя, а сущность человека, – согласился я.
– А тебе известна твоя сущность?
Голос женщины стал неожиданно жестким и, показалось мне, холодно-неприязненным. Как безошибочно она определила мою ахиллесову пяту. Сама же осталась воплощением тайны. И никакой компьютер не поможет разобраться в этом…
– У меня нет сущности, – с вызовом ответил я.
– Тогда что же?
– Предназначение.
– У человека одно предназначение – творить добро!
– Тебе же известно, что я гомункулус!
– Ты уже не гомункулус, – сказала она. – Ты человек, мне лучше знать…
– Пусть так, – проговорил я в замешательстве. – Но что такое добро?
– Антитеза зла.
– А разве зло причиняют не люди?
– Вопреки своему предназначению!
– Добро и зло относительны…
– Что же тогда абсолютно?
– Знание. Оно над добром и злом.
– Над добром и злом… – повторила она. – Как это страшно…
– Прогресс нельзя остановить, – откликнулся я заученной фразой.
– Прогресс ради прогресса, и в этом предназначение человека?
– Мое предназначение, – я сделал ударение на слове «мое», – именно в этом. Так уж меня запрограммировали.
В ее голосе прозвучала грусть.
– Не оттого ли тебя потянуло к сенсору? Компромисс между программой и совестью?
– Просто не хотелось больше жить…
Каким неуверенным показался мне собственный голос, какими неубедительными словами возражал я ей…
– Неправда!
Она смотрела на меня с любовью и жалостью. А я не знал, что ответить.
– Тебе предстоит многое переосмыслить. Тебе и другим людям!
– Кто же ты? Кто? – изумленно допытывался я.
– Жизнь… – затухая, прорезонировало в ответ.
А женщина исчезла – столь же неожиданно, как появилась. И была ли она?
За бортом бушевала солнечная корона обрушивая на жаропрочную обшивку капсулы турбулентные потоки плазмы. Странно: мне нисколько не хотелось умирать. Я с недоумением смотрел на выбитую предохранительную пластинку сенсора. Зачем она, от чего может предохранить? Сам ритуал троекратного прикосновения показался мне смешным и наивным. Вероятно, я на самом деле стал человеком. Обыкновенным человеком с огромной душой, способной вместить радости и страдания всех живущих в этом сложном и прекрасном мире.
Да, мне хотелось творить добро. Оно рождалось в моем сердце и рвалось наружу. К источнику жизни – Солнцу.
Солнце пахнет ванилью, тонко и нежно. Пусть кто-нибудь убедит меня в обратном!
ЗВЕЗДНАЯ МИНУТА
Кинопленку можно уничтожить. Память жива, пока жив человек. Потерявший память теряет прошлое. А человек без прошлого – не человек или, во всяком случае, не личность.
Мудрец утверждал, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку: это будет уже другая река. В реку памяти можно входить бессчетно, и она останется все той же илистой рекой памяти. Прошлое на ее дне, под слоем ила.
Жизнь человека – спектакль, который бывает сыгран лишь единожды, а затем его навсегда вычеркивают из репертуара. Декорации же отправляют в музей или на свалку.
Спектакль без суфлера и репетиций. Премьера и бенефис. Триумф либо провал. И не изменишь ни картины, ни действия, которые уже сыграны. Ни реплики, ни жеста, ни интонации. Не изменишь. Не исправишь. Не повторишь.
Импровизация…
Память – фильм по мотивам жизненного спектакля. Единственный зритель – сам актер, играющий в спектакле заглавную роль.
Память – кинолента, пущенная задом наперед. Время, убегающее от самого себя. И она же – режиссер, которого так не хватало в спектакле! Раз, и кусок ленты в корзине забвения. Два, и кадры склеены в иной последовательности. Три, и подправлен сценарий.
Память может перелицовывать прошлое до изнеможения. Что-то в корзину. Где-то вместо себя – каскадер. Лица не видно, остальное не суть. Перед каждым очередным сеансом – очередная переделка. Как в детском калейдоскопе – встряхни, и новая симметрия цветных стеклышек, похожая и непохожая на предыдущую.
До поры память многолика и податлива, но наступает миг, когда человек уже не властен над нею. Река очищается от ила. Корзина забвения возвращает все до последнего кадрика. Облачившаяся в судейскую мантию память безжалостно и неподкупно монтирует фильм, где все – правда. Только годы спрессовываются в секунды…
Фотоснимок. В нижнем правом углу выпуклый вензель ателье. Когда-то вензель был столь же привычен, как и штамп, гасящий почтовую марку. Фирменный знак, гарантирующий качество. Срок гарантии – вечность.
На снимке мальчик и девочка. Лет четырех. Держатся за руки. Круглые, похожие на котелки или на шлемы английских бобби, панамки начала тридцатых годов. Сморщенные чулочки в рубчик. Позы статичны. Лица напряжены. Смотрят исподлобья. Неулыбчиво. Словно сознают серьезность и неповторимость момента. Совсем как взрослые на дагерротипах прошлого века.
Все называли их женихом и невестой. Безобидная шутка: отчего бы четырехлеткам не поиграть в жениха и невесту? Жаль, что шутка перестает быть шуткой, если ее воспринимают всерьез…
Однажды дядя повел их в городской сад. В саду было сумрачно. Свысока посматривали великаны-деревья, приютившие среди ветвей весело щебечущих птиц.
Они гуляли по малолюдным, присыпанным кирпичной крошкой аллеям, держась за руки, и молчали. Гуляли долго. Дядя не смотрел на часы. А может, их у него и не было…
Жених терпел, пока мог, но не вытерпел. Произошло непоправимое.
Стыд растворил в себе его детскую любовь. Уже пожилым человеком, взяв в руки чудом сохранившийся снимок, он всякий раз заново ощущал это чувство всепроникающего стыда…
Старый увядший снимок. Он и она. Жених и невеста. Держатся за руки. Крепко-крепко, на всю жизнь. Смотрят исподлобья. Наверное, именно так нужно смотреть в будущее.
Любовь и позор под вензелем уже не существующего ателье…
– Я люблю тебя, милый – сказала ему она. – Но выйду замуж за другого. Мне надо устроить свою жизнь.
Сказала и выбежала из вагона метро. Двери захлопнулись. Через приспущенное стекло она успела бросить ему яблоко. Оно было отравленное, жгло душу ядом любви и ревности. Нужно было тотчас швырнуть его обратно, как на фронте ловили на лету и молниеносно, бумерангом, возвращали врагу гранату. Но он не успел. Граната взорвалась.
Ехали в театр. Доехал он один. Шла модная в те послевоенные годы «Мариэтта» – легкая, задорная оперетка. Все смеялись до слез. Он ничего не видел сквозь слезы.
Домой возвращался ночью. Дождь. Черное блестящее шоссе. Слева расплывчатые огни автомобильных фар.
«Будь, что будет!» – шальная мысль.
Странное ледяное спокойствие. Шаги наперерез приближающимся фарам. Мягкий удар. И даже не удар, а толчок, словно пуховой подушкой. Он отлетает на несколько метров. Полет плавный, замедленный. Приподнимается на коленях. Новый толчок.
Залитый дождем кювет. Рядом на боку «Победа». С трудом выбирается водитель. Прихрамывая, бежит к нему.
Он втягивает голову в плечи, ожидая пощечины, брани. И слышит:
– Да как же так… Дорогой человек, у тебя же все косточки переломаны, а ты стоишь! Присядь, я сейчас. Только выберусь, и сразу в больницу. Потерпи!
Бочком, бочком, и домой. Мокрый до нитки, вывалянный в грязи. Дома слезы матери, охи, ахи…
И ни единого синяка, ни крошечной царапины…
Однажды, уже под тридцать, ему посчастливилось сделать открытие. Он поделился им с лучшим другом.
– Надо застолбить, – сказал лучший друг. – Напишем статью, пошлем в журнал.
Статью подписали в алфавитном порядке. Фамилия лучшего друга возглавляла алфавит, его собственная – замыкала. Друзья нередко бывают хоть в чем-то полярно противоположны.
Статью напечатали. Но почему-то под одной фамилией – на букву А.
– Безобразие, – возмущался лучший друг. – Я этого так не оставлю! Потребую напечатать поправку. Как-никак ты мой соавтор!
Пять лет отняла диссертация. Перед самой защитой пришла поздравительная телеграмма от лучшего друга: тот уже перебрался в столицу. Одновременно в ученый совет, где должна была состояться, но так и не состоялась защита, поступило заявление гражданина А., который обвинил диссертанта Я. в плагиате.
И это было обоснованное обвинение: ведь основополагающее открытие застолбил лучший друг.
* * *
Дарский отстегнул датчики и помог Красину снять шлем.
На лбу осталась розовая полоска.
– Какая долгая ночь… – сказал Красин.
– Посмотрите на часы, – предложил Дарский.
– Стоят…
– Прошла минута.
Красин смахнул со лба бисеринки пота.
– Не может быть! – он приложил часы к уху.
– Успокойтесь, Виктор, – мягко проговорил Дарский. – Вы стали очевидцем большого открытия. Оно не укладывается в рамки обычных представлений, из этого надо исходить.
– Поразительно… – прошептал Красин. – Ваше открытие…
– Не мое! – поспешно перебил Дарский. – Яковлева, того человека, чью жизнь вы прожили за минуту. Согласитесь, самая долгая ночь слишком коротка, чтобы вместить человеческую жизнь.
– А минута вместила… Но почему именно я…
– Почему для этого опыта выбрали вас? Ответ прост. Вы человек искусства, с образным, а не понятийным восприятием мира. Подобные мне мыслят формулами, подобные вам – эмоциями.
– Не совсем так… – неуверенно возразил Красин. – Но я понимаю, что вы имеете в виду.
– Нас интересует ваше впечатление. Взгляните на случившееся глазами художника-импрессиониста. Повторяю, мне такой взгляд недоступен. Я не доверяю своему чувственному восприятию, предпочитаю фотоаппарат, способный зафиксировать мельчайшую деталь. Здесь же мозаика мазков, игра света и теней, кажущаяся поспешность, нарочитая небрежность, даже незавершенность. Такова прожитая вами жизнь Яковлева, вернее, ее отображение в вашем мозгу. Она – не фотография, а этюд. Но в отличие от меня вы должны были воспринять ее не фрагментарно, не урывочно, а как нечто цельное.
– Так оно и есть… Хотя, когда вы отключили ваши…
– Датчики. – …Мне показалось, что это был сон. Нескончаемый, беспробудный, чуть ли не летаргический. И у меня вырвалась фраза: «Какая долгая ночь!» – Вот как… – в голосе Дарского чувствовалось разочарование. Значит, опыт не удался. Я ведь тоже воспринял это как сон!
– Не спешите с выводами, – возразил Красин. – В том-то и дело, что у меня не было похоже на сон. Просто жизнь, и я – не я, а совершенно другой человек, от младенчества до старости. Но не мог же я на самом деле перевоплотиться, такое бывает лишь во сне. Это первое, что пришло мне в голову по окончании опыта. Машинальная реакция, попытка найти разумное объяснение необъяснимому. Иначе пришлось бы признать себя сумасшедшим!
– Фу… Меня даже в жар ударило, – сказал Дарский с облегчением. – Мы так рассчитывали на вас. И если бы сорвалось…
– Так что это все же было: гипноз, галлюцинация или… как там… экстрасенсорное восприятие? Не перевоплощение же!
– И все-таки вы перевоплотились. Если только не придавать этому слову вульгарный смысл. Простите за каламбур, но перевоплотилась не плоть, а личность. Что же касается экстрасенсорного восприятия… Слово «экстрасенсорный» буквально означает «сверхчувственный». Прежде оно имело мистическую окраску. А сегодня под экстрасенсорным понимают восприятие информации человеческим мозгом непосредственно, минуя органы чувств. Как бы попроще объяснить…
– Ну да, конечно, – с иронией проронил Красин. – Я же человек искусства, мыслящий образами. Со мной нужно говорить как с ребенком. Но, боюсь, человеку науки, в свою очередь, нелегко подбирать метафоры.
– Пристыдили, – улыбнулся Дарский. – Так вот, с электронными вычислительными машинами первых трех поколений общались словно с инопланетянами. Придумали формальные языки – фортран, алгол, алгамс, кобол, аналитик, симскрипт, сириус…
– Довольно, – воскликнул Красин.
– А что вы скажете о языке под названием «стресс»?
– И все это для связи человека с ЭВМ?
– Вот именно.
– И одного языка оказалось недостаточно?
Дарский пригладил всклокоченные седые волосы.
– Помните в «Братьях разбойниках»: «Какая смесь одежд и лиц, племен, наречий, состояний!»? Эти строки можно отнести и к ЭВМ того времени. Появились профессиональные посредники между людьми и компьютерами программисты. Но уже в машинах четвертого и пятого поколений была предпринята успешная попытка диалога между человеком, например, конструктором, и ЭВМ. Человек пользовался клавиатурой пишущей машинки либо специальным электронным карандашом, машина печатала ответ или высвечивала чертеж на экране-дисплее.
– А потом?
– Следующий логический шаг – речевое общение человека с компьютером. И наконец, экстрасенсорное – человеческого мозга с электронным.
– Я знаю, – встрепенулся Красин. – Человек, в которого я перевоплотился…
– Был специалистом по экстрасенсорному общению с компьютером. Оба они на время образовали единую систему, своего рода интеллектуальный тандем. И знаете, не всякому это дано?
– Я… он считал себя неудачником…
Дарский покачал головой.
– Яковлева постигла судьба многих гениев, так и не добившихся прижизненного признания.
– А я и не добивался. Сознавал свою заурядность. Не считал даже, что заслуживаю чего-то большего. В неудачах винил только самого себя.
– Подождите, Виктор, – остановил Дарский. – Вы и не заметили, как снова перевоплотились, заговорили от его лица. Не надо!
– Это непроизвольно… – смущенно пробормотал Красин. – Боюсь, не так просто снова стать самим собой.
– Что вы заладили: «самого себя», «самим собой»! Яковлев и Красин два разных человека, две личности. Пара сеансов обыкновенного гипноза, и все станет на свои места.
– А если я не захочу?
– Утро вечера мудренее, – сказал Дарский. – А сейчас перейдем к сути. Вот датчики. В каждом миллион микроизлучателей и приемников, образующих матрицу. Матрицы – связующие звенья между мозгом и компьютером…
– Все это мне известно не хуже, чем вам, – перебил Красин.
– Каким образом?! – изумился Дарский. – Ах, да… Ведь вы же унаследовали знания Яковлева!
– Отчасти.
– Тогда вам не нужно объяснять, что до сих пор ритм экстрасенсорного общения задавал человек. Ведь раньше считали, что человеческий мозг настолько медлителен, что временной масштаб компьютера ему не осилить. Яковлев, то ли по небрежности, то ли по рассеянности, перепутал порядок соединения матриц. Да еще нарушил правила техники безопасности – остался работать ночью. Один. Утром его нашли мертвым. Так небрежность погубила человека, но родила гениальное открытие.
Красин медленно встал. Лицо налилось бледностью, затем внезапно побагровело.
– Неужели вы ничего не поняли? Вы, ученый! А ведь сами прожили его жизнь, прежде чем поставили опыт на мне! Не поняли… Впрочем, вы же мыслите формулами, эмоции вам недоступны… Яковлев ничего, слышите, ни-че-го не перепутал и не допустил ни малейшей небрежности. Он давно пришел к выводу о существовании параллельного механизма мышления, основанного не на нейронных, а на полиэдральных сетях. Догадка-то висела в воздухе! Чем же еще объяснить существование чудо-счетчиков, мгновенно перемножающих многозначные числа, или людей с фотографической памятью, способных, бросив секундный взгляд, затем воспроизвести страницу цифр?
– Значит, он…
– Все сделал сознательно. Жаль, не рассчитал своих сил: он был уже стар и болен. Предчувствовал, чем это для него кончится, но не желал завершать жизнь неудачником. Вы, Дарский, пытаетесь приписать его открытие случайности. Это значило бы вновь обокрасть Яковлева!
– Ни сном, ни духом! – закричал Дарский. – Но почему вы сразу же по окончании опыта…
– Инерция мышления. Точнее, ее остаточные явления. Яковлев крепнет во мне постепенно. Когда вы отключили датчики, я был ошеломлен. Во мне преобладал Красин. Я еще не мог осознать ту информацию, которой пополнился мой мозг, воспринять опыт и мудрость чужой жизни. Сейчас нас двое. И мы не позволим… Перед человечеством раскрываются немыслимые вчера перспективы. Наследование личности. Наследование знаний. Сверхскоростное экстрасенсорное восприятие. Коллективное мышление…
– Кто вы?! – в замешательстве воскликнул Дарский. – Вы не похожи ни на Яковлева, ни на Красина, какими я их знал. Боже мой, неужели этот злосчастный опыт разрушил вашу психику?
– Успокойтесь, – теперь уже это произнес Красин. – Моя психика не пострадала. Я не утратил ни одной черты своего характера. И вместе с тем, я впрямь изменился. Стал мудрее и богаче. Перевоплощение в Яковлева как бы поверило алгеброй гармонию. Вам, ученым, непросто будет в этом разобраться. Но игра стоит свеч!
– Спасибо, Виктор, – дрогнувшим голосом сказал Дарский.
– Это вам спасибо. Я пережил звездный час, – Красин едва заметно усмехнулся. – А если уж быть точным, звездную минуту. Звездную минуту Яковлева!








