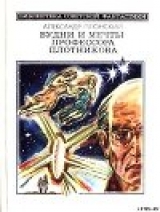
Текст книги "Будни и мечты профессора Плотникова (сборник)"
Автор книги: Александр Плонский
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц)
– Невообразимая чушь! – простонал Леверрье.
– Среди подписавших манифест были Александр Дюма и Ги де Мопассан. Так что не поднимайте руку на Корбюзье, Луи. Он ведь хотел спасти Париж. Жаль, что не смог… И теперь перед нами грандиозный музей. Вам нравится жить в музее?
Леверрье пожал плечами!
– Я живу в пригороде.
– Вот видите, – проговорил Милютин. – Города стареют, как и люди… Только не так быстро. Впрочем, я куда старше, чем вы думаете. Помните слова Эдгара Дега: «Талант творит все, что захочет, а гений только то, что может»? Это о моей матери, я боготворю ее… Уже получив Нобелевскую премию за вакцину от рака, она сказала мне: «Если бы я могла начать жизнь сначала, никогда не стала бы врачом. Слишком во многом чувствую себя бессильной».
Несколько минут оба молчали.
– Мало кому посчастливится предугадать свое истинное призвание, и уж совсем редко случается разглядеть в себе талант – он виден лишь со стороны. А уж гений… Здесь слово за потомками, – молвил Леверрье. – Я инженер. Утверждают, хороший инженер. Но еще никто не заподозрил во мне таланта!
– Бросьте, Луи, – поморщился Милютин.
– Я ортодокс, в этом все дело… А вот вы – совсем другой человек. Вы действуете вопреки утвердившимся представлениям, вразрез с опытом, наперекор логике…
– Значит, моя сила в невежестве?
– Отнюдь. Просто вы интеллектуал высочайшего класса.
Милютин щелкнул зажигалкой.
– Слово «интеллект» в переводе с латинского означает «ум». Но почему-то мы предпочитаем назвать человека интеллектуалом, а не умником. Да и «умник» приобрел в наших устах иронический оттенок.
– Вы правы, – согласился Леверрье. – Франсуа де Ларошфуко в своих «Размышлениях на разные темы» несколько иронически классифицировал типы ума. Наряду с «могучим умом» он выделял «изящный ум», «ум гибкий, покладистый, вкрадчивый», «здравый ум», «деловой ум», «ум корыстный», «ум веселый, насмешливый»…
– Хватит, хватит! – замахал руками Милютин.
– …»тонкий ум», «ум пылкий», «ум блестящий», «мягкий ум» «ум систематический» и даже «изрядный ум»!
– Словом, сколько голов, столько и умов. И какой же ум согласно этой классификации у меня?
– Ваш ум нельзя классифицировать, – серьезно сказал Леверрье. – Я бы назвал его дьявольским.
– Старо, Луи. Еще тридцать лет назад вы заявили, что я и бог и дьявол в одной ипостаси. Кстати, это убийственно точная характеристика большинства людей. Вот вы говорите: «Интеллектуал». Одного интеллекта мало.
– Чего же вам не хватает?
– Я индивидуалист, вы знаете. Чувствую себя электроном в вакууме. И пусть электрон-одиночку называют свободным, толку от такой свободы мало. Лишь упорядоченный, целенаправленный поток электронов способен освещать жилища, приводить в движение машины, обогревать… И только в сотрудничестве друг с другом люди находят силы для преодоления преград, воздвигаемых природой… и самими же людьми. Вы спрашиваете, чего мне не хватает? Видимо, я потерял частицу души. Крошечную частицу. Увы, понял это слишком поздно. Что дали человечеству мои открытия? Кого я сделал счастливым?
Леверрье протестующе повысил голос:
– Это уж слишком! Благодаря таким, как вы, человечество достигло благополучия!
– Испытание благополучием, возможно, самое трудное из всех, выпавших на долю последнего поколения, – нахмурился Милютин. – Благополучие расслабляет. А интеллект не имеет права расслабляться, смысл его – работать…
– И вы еще считаете себя индивидуалистом? Да при всей вашей гениальности вы – ячейка общечеловеческого мозга!
– Вы полагаете, что я работаю от имени человечества? Сам того не сознаю, но запрограммирован? Кто знает…
«ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ»
Три года назад в институт пришел новый ректор – молодой (сорок с небольшим), но известный профессор, доктор наук Игорь Валерьевич Уточкин. Он сменил на этом посту «холодного» (то есть не имевшего докторской степени) профессора Марьина.
Марьин, старый, опытный служака, много лет болевший астмой, был типичным консерватором, придерживающимся излюбленного англичанами принципа: «ноу ньюс – гуд ньюс» («нет новостей – хорошая новость»). Институт стал при нем тихой заводью.
С местным начальством Марьин ладил: не приставал с просьбами по хозяйственным нуждам, не требовал фондов на строительство, безропотно снимал с занятий студентов для всякого рода неотложных дел областного, городского и районного масштабов. Министерское начальство до поры терпело Марьина, но нередко вызывало «на ковер»: институт из года в год устойчиво занимал предпоследнее место среди родственных вузов.
Достигнув пенсионного возраста, Марьин резонно и своевременно рассудил, что лучше уйти самому, чем дожидаться, пока тебя «уйдут», и подобру-поздорову отбыл в теплые края.
Уточкин принялся за дело рьяно. Начал он с переоборудования ректорского кабинета, который счел непрестижно скромным. Кабинет отделали дубовыми панелями и синтетической кожей, в стены встроили шкафы, пол во всю ширь застлали ковром, мебель сменили. Смежное помещение (его прежде занимал научно-исследовательский сектор) превратили в комнату отдыха, соединенную с кабинетом скрытой – под панель – дверью.
В комнате отдыха (злые языки окрестили ее «будуаром») кожей были обтянуты не только стены, но и потолок. Диван, кресла и стол на низких ножках создавали интимную обстановку. Приглушенный свет подчеркивал ощущение уюта.
Здесь ректор принимал почетных гостей и особо приближенных сотрудников. Сидя в глубоком, покойном кресле, он позволял себе расслабиться, разговор обычно носил доверительный характер, на столе часто появлялись неиссякаемая коробка шоколадных конфет и чашечки кофе.
Плотников был впервые приглашен в «будуар» после довольно неприятного инцидента…
Профессор воспринял назначение нового ректора с радостью. Его уже давно тревожил застой, царивший в институте, и когда Уточкин выступил с программой предстоящих нововведений, он поддержал их. Ректор – это чувствовалось – представлял, каким должен быть передовой вуз, улавливал новые веяния, обладал широтой взгляда, отличающей прирожденного администратора.
Правда, Плотников быстро распознал, какая сила движет Уточкиным.
– К пятидесяти стану членкором, а там посмотрим… – откровенно сказал тот Алексею Федоровичу чуть ли не при первом разговоре.
Профессора это покоробило, но, поразмыслив, он пришел к выводу:
«В конце концов, если человек хочет сделать карьеру и у него есть для этого основания, то стоит ли обвинять его в карьеризме? Пусть будет карьеристом, но для пользы дела!»
Уточкин творчески изучил систему показателей, которыми оценивали работу вузов, выбрал самые выигрышные по числу присуждаемых баллов и сосредоточил на них максимум сил и внимания. Он ввел жесткую «разверстку»: если раньше кафедры сами решали, сколько запланировать заявок на авторские свидетельства, научных статей, докладов на различного ранга конференциях, то теперь цифры спускались сверху и «недостача» в конце года влекла за собой взыскания.
По остальным разделам системы показателей ректор в качестве ближайшего ориентира взял «среднеминистерские» баллы. В баллах выражали даже возраст преподавателей. И он оказался выше, чем в среднем по министерству (а в данном случае «выше» означало «хуже»).
Уточкин стал постепенно избавляться от «переростков». Конкурсная система замещения вакантных должностей не давала уволить преподавателя до истечения пятилетнего срока. Но зато можно было отказать в переизбрании на очередной срок. И вот, отработав пятнадцать лет, сорокалетний ассистент, не сумевший за это время обзавестись ученой степенью и перейти в доценты или старшие преподаватели, оказывался за бортом…
Один за другим из института уходили опытные педагоги, а на их место принимали вчерашних студентов. В этом усматривался свой резон: смены поколений не избежать, так не лучше ли заблаговременно сделать ставку на молодых?
«Но ведь коллектив преподавателей не футбольная команда, – с болью думал Плотников. – Уходят те, кто мог работать еще не один десяток лет, чей профессиональный опыт складывался годами. Ученая степень желательна, кто против этого спорит? Но она еще не определяет квалификацию преподавателя – можно быть перспективным ученым и никудышным педагогом».
За сорокалетними ассистентами последовали шестидесятилетние доценты, чей возраст тоже снижал показатели института. И тогда Плотников выступил на профсоюзной конференции:
– Мои годы, увы, приближаются к среднеминистерскому рубежу, имеющему столь большое значение для Игоря Валерьевича. Начну подыскивать другое место работы!
Это был неприкрытый демарш: в институте вместе с ректором, Плотниковым и тогда еще здравствовавшим профессором-механиком, насчитывалось всего пять обладателей высшей ученой степени. А процент докторов наук был куда более весомым показателем, чем их возраст.
Алексею Федоровичу устроили овацию. После этого выступления он и удостоился впервые приглашения в «будуар».
Ректор был подчеркнуто доброжелателен и уважителен.
– Дорогой Алексей Федорович! Мы с вами должны найти общий язык, и мы его найдем. Возможно, я допускаю тактические просчеты, но стратегия моя правильна. Мне нужна ваша поддержка. И на меня вы тоже можете рассчитывать. Чашечку кофе? Нина Викторовна, угостите нас!
Секретарь ректора, приветливая женщина средних лет, словно радушная хозяйка, налила в чашки густой ароматный напиток.
– А может, по рюмочке коньяку? – заговорщически шепнул ректор.
– Благодарю вас, – отказался Плотников. – Мне импонируют ваши стратегические замыслы, Игорь Валерьевич, и в этом постараюсь вас поддерживать. Что же касается тактических принципов, то здесь мы вряд ли окажемся единомышленниками. Извините за прямоту, но не приучен ходить по трупам.
– Ну уж и по трупам, – криво улыбнулся Уточкин. – Поражаюсь вашему воображению, Алексей Федорович! Вы, кажется, фантастикой балуетесь? А мне вот некогда. Я как атлант, только у меня на загорбке не земной шар, а институт.
– Желаю не уронить.
– Постараюсь.
С тех пор их отношения напоминали строго соблюдаемый вооруженный нейтралитет. Уточкин, надо отдать ему должное, руководствовался не личными симпатиями или антипатиями к человеку, а исключительно его нужностью, ролью, которую тот мог и должен был сыграть в осуществлении стратегического замысла. Плотников же, пользовавшийся у коллег неоспоримым авторитетом, в шахматной партии Уточкина (по крайней мере, в ее дебюте) занимал положение если и не ферзя, то уж, во всяком случае, одной из тяжелых фигур.
Ректор постепенно обзавелся трудолюбивыми помощниками и не только не сковывал их инициативы, что присуще недальновидным руководителям, а напротив, всячески ее поощрял, переложив на приближенных наиболее трудоемкие из собственных функций. Впрочем, он ни на минуту не выпускал из рук бразды правления и не давал никому забыть подчиненной роли.
Большое значение Уточкин придавал своей «представительской» деятельности. Он нанес визиты директорам всех сколько-нибудь крупных предприятий города, начав с мебельной фабрики, где договорился об изготовлении «престижной» мебели для своего кабинета в обмен на студенческую рабочую силу, в которой фабрика остро нуждалась.
Уточкин молниеносно перешел с директорами на «ты», что не помешало ему вести в их отношении жесткую линию:
– Хочешь получать наших выпускников, помогай институту – оборудованием, фондами на капитальное строительство, хоть борзыми щенками, но баш на баш!
Поначалу это вызвало у директоров возмущение. В «вышестоящие инстанции» пошли жалобы. Уточкина попробовали приструнить, но он твердо стоял на своем, рискуя вдрызг испортить отношения с отцами города.
Потом кое-кто из директоров дрогнул, потихоньку капитулировал. Уточкин рассчитался элитой – лучшими из выпускников. Среди заводчан начался разброд: кадры нужны были всем, а попытка переломить строптивого ректора явно терпела провал. Кто-то, а возможно, и он сам, пустил слух, что у него «рука наверху». Авторитет Уточкина был окончательно закреплен.
Уже через год институт шагнул на несколько ступенек вверх. Уточкин пригласил со стороны трех новых профессоров, два доцента защитили докторские.
Число сторонников Игоря Валерьевича возрастало. Среди них особым рвением выделялся Иванчик. Вскоре после защиты он вошел в ближнее окружение ректора. На последнем заседании институтского совета Уточкин, улыбаясь, так что трудно было понять, в шутку это говорится или всерьез, назвал его своей «правой рукой».
К изумлению Плотникова, в поведении бывшего аспиранта, да и во всем облике, появились новые, непредвиденные штрихи. Он словно бы стал выше ростом, посматривал на окружающих свысока, исчезла его былая угодливость, которая и раздражала, и вместе с тем подкупала профессора. Не осталось следа и от безотказности, с коей он выполнял любое поручение шефа: теперь Иванчик все чаще ссылался на загруженность факультетскими делами.
– Вы что, в деканы метите? – спросил как-то Алексей Федорович.
– При чем здесь я? – сделал обиженное лицо Иванчик. – Игорь Валерьевич настаивает, ну и… Неудобно же отказываться! А вы разве против?
– Мне все равно, кто будет деканом, – сказал Плотников.
* * *
– Посмотрите, какой нахал! – возмущался Иванчик, передавая Алексею Федоровичу брошюру.
Плотников надел очки.
«Стрельцов Виктор Владимирович. Моделирование возвратно-временных перемещений с помощью аналоговой вычислительной машины. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук».
– Ай-да «перпетуум-мобиле»! Право, оригинальный поворот: нельзя физически переместиться в прошлое, но можно воссоздать его в настоящем. Недурно… Историки до земли поклонятся… А кто оппоненты? Форов? Ах, старик!
– Из ума выжил, не дорожит авторитетом!
– Это вы о ком? – не сразу понял Плотников. – О Форове? Да как можно…
– И зачем ему понадобилось оппонировать! – сбавил тон Иванчик.
– Запомните, молодой человек, авторитет Форова уже ничто не поколеблет. Кстати, автореферат адресован мне. Как он оказался у вас?
– Я подумал, что понадобится отзыв, и вот, подготовил.
Плотников пробежал глазами три машинописных страницы и остановил взгляд на последних строках:
«И. о. проректора института…»
«Заведущий кафедрой…»
– Я не подпишу это, – оказал он брезгливо.
– Тогда я пошлю за одной своей подписью.
– Ваше право. Но автореферат оставьте, он мне понадобится.
– Вы… хотите дать положительный отзыв?
– Вот именно!
– Это же беспринципно, профессор! В свое время… У меня сохранилась копия! Подумайте, что скажут, если…
Плотников встал.
– В свое время я, к сожалению, действительно допустил беспринципность.
– Что вы имеете в виду?
– Отзыв научного руководителя на вашу диссертацию, Иванчик!
– Не пожалейте об этих словах, – сказал бывший аспирант и вышел из кабинета.
* * *
На этот раз не было ни кофе, ни коробки с шоколадными конфетами. Дверь в «будуар» слилась с панелями, словно ее вовсе не существовало. Ректор встретил Плотникова подчеркнуто официально. Не вышел, как бывало, навстречу, не провел под ручку по пушистому ковру до самого кресла, а лишь слегка приподнялся над столом и сделал неопределенный жест.
Последнее время в их отношениях наступило прогрессирующее похолодание. Алексей Федорович не терпел подхалимов, Игорь Валерьевич же их поощрял («в интересах дела!»). Роль Плотникова в институтских делах неуклонно уменьшалась: число профессоров перевалило за дюжину. Будучи людьми пришлыми, в чужой монастырь со своим уставом они не совались, действия Уточкина поддерживали, не особенно вникая. Многие ветераны, в том числе прежние проректоры – по учебной и по научной работе, ушли, кто по возрасту, а кто по собственному желанию, остальные притихли. Теперь Плотников уже не сорвал бы аплодисменты своим выступлением…
На ведущие места в институте выходила «молодая поросль» – это выражение принадлежало Уточкину. С назначением новых проректоров он не спешил: их функции успешно совмещал Иванчик. Хотя был «и. о.» – исполняющим обязанности, никто не сомневался, что одно из проректорских кресел достанется ему.
А институт, казалось, процветал: по итогам последнего года он был награжден переходящим знаменем. Вручая знамя, заместитель министра похвалил ректора и сказал, что возбуждено ходатайство о его избрании членом-корреспондентом Академии наук.
Между тем атмосфера в институте стала тяжелой. «Черные шары» при тайном голосовании стали частым явлением. Начались склоки, пошли анонимные письма…
– Раньше такого не было, – оказал Плотников Уточкину, – что-то неладное в датском королевстве! Не слишком ли дорогой ценой платим мы за первое место?
– Занимайтесь вашей кафедрой, уважаемый профессор! – резко ответил ректор.
На ближайшем заседании совета он не преминул упомянуть о «некоторых заслуженных профессорах» (множественное число было явно излишним), внесших весомый вклад в дело развития института, но в силу возраста уже неспособных воспринимать новые веяния.
– Что касается меня, – добавил Уточкин, – то сразу же после шестидесяти я уступлю свое место молодому, энергичному руководителю.
Полгода не был Алексей Федорович в ректорском кабинете, и вот неожиданное приглашение.
– Ознакомьтесь с этим документом, – протянул Игорь Валерьевич исписанный знакомым почерком листок.
Плотников достал очки, медленно протер их, словно оттягивая неприятный момент, надел, поднес листок к глазам.
«Ректору института д. т. н., проф. Уточкину И. В. и. о. проректора к. т. н. Иванчика Е. Я. докладная записка…»
«Е. Я… Евгения Яковлевича…» – машинально подумал Плотников, как будто впервые узнал, что у Иванчика есть имя и отчество: обычно все, и сам профессор тоже, называли его по фамилии, имя же у него, казалось, отсутствовало с рождения.
«…Сообщаю о недостойном поведении проф. Плотникова А. Ф. Так, он позволяет себе в присутствии посторонних критиковать действия руководителей института… Демонстративно не подал мне руки, чем нанес ущерб авторитету проректора… Пытался уберечь от заслуженного наказания злостного спекулянта Козлова… Систематически нарушает финансовую дисциплину, перерасходуя смету отраслевой лаборатории… Публично излагает и пропагандирует философские концепции, не нашедшие… Дискредитирует звание профессора сочинительством рассказов… Использует аспирантов в личных целях… По некоторым данным, находился в связи с бывшей студенткой Кравченко…
Не могу оставаться безучастным свидетелем того, как мой недавний учитель теряет уважение коллектива. Спасти его может только ваше срочное вмешательство. Прошу принять в отношении проф. Плотникова А. Ф. самые строгие меры».
Листок выпал из ослабевших пальцев и спарашютировал на пушистый ковер.
– Что с вами, Алексей Федорович? Вам плохо? Да как же так! Нина Викторовна, вызывайте «скорую»!

* * *
…Вечерело. Алексей Федорович и Дарвиш дремали на заднем сиденье «Волги». Вдруг водитель Джерол закричал:
– Смотрите, что это?
Прямо перед ними слева направо над горизонтом плавно двигался вертикальный эллипс, словно оттиснутый серебром на сумеречном небе.
«Летучий голландец…» – прошептал Плотников.
Внезапно эллипс изменил направление и начал быстро приближаться.
– Что это?! – еще раз крикнул Джерол.
«Летучий голландец» завис над замершей у обрыва «Волгой». Плотников ясно различал цепочку иллюминаторов («Совсем как на судне», – подумал он). Открылся люк, несколько серебристых фигур соскользнули на землю.
– Вы гуманоиды? – спросил Плотников, с трудом шевеля онемевшими губами.
– Мы люди, обыкновенные люди, – ответили ему. – Как бы вам объяснить…
– Неужели из будущего? – догадался Алексей Федорович. – Но этого не может быть! Нарушается закон причинности!
– Да, в обычном понимании.
– А разве понимание может быть необычным?
– Может. Если бы вы знали о гармониках времени…
– Подождите… Я уже от кого-то слышал об этом… Неужели «перпетуум-мобиле»? Да, вспомнил, именно Стрельцов…
– Вы встречались с великим Стрельцовым? – воскликнул один из пришельцев. – И каков он?
– Ничем не примечательный паренек с пухлым портфелем… Корову через «ять» писал.
– Ничем не примечательный? Корову через «ять»? Что за чертовщина!
– Поистине, большое видится на расстоянии! Простите, ваше имя? – обратился второй пришелец к профессору.
– Плотников Алексей Федорович.
– Плотников… Нет, к сожалению, ничего о вас не слышали…

ТРОПИК РАКА В СОЗВЕЗДИИ БЛИЗНЕЦОВ
Клипер «Гром» под белым с диагональным голубым крестом Андреевским флагом шел в бакштаг, узлов до десяти, гонимый свежим пассатом – северо-восточным тропическим ветром, столь любимым моряками.
На фок-, грот– и бизань-мачтах, сверху донизу, плотными рядами солнечно-белых трапеций вздулись и басовито гудели пять с половиной тысяч квадратных аршинов тугой корабельной парусины: «Гром» нес все свое парусное вооружение, включая косые треугольники двух топселей и бом-кливера.
Пели на высокой ноте талрепы стоячего такелажа, поскрипывали блоки. Царапали небо острые, точно шпаги, клотики мачт. Ни единого облачка не было в его бирюзовой глуби.
Никита Анненков, девятнадцатилетний мичман флота российского, стоя на баке, жадно всматривался в сверкающую металлическим расплавом даль океана, словно хотел проникнуть взглядом за выпукло очерченный горизонт.
Атлантический океан, отдыхая от штормов, лениво вздымал невысокие волны, и «Гром» скользил по ним с тем неповторимым изяществом, которое свойственно самым быстрым парусным кораблям-клиперам.
Был август 1863 года. Вечерело. Они только что пересекли северный тропик – тропик Рака, – следуя курсом зюйд-зюйд-вест. Пассат дул ровно, и марсовым не надо было карабкаться по выбленкам вант на марсы и салинги, перебрасывать топселя, травить шкоты, брать рифы, чтобы уменьшить парусность. Барометр стоял высоко, и капитан Глеб Сергеевич Ханевский дал команде отдых.
Только рулевой нес вахту у штурвала, да сам капитан стоял на мостике, изредка переговариваясь с вахтенным офицером.
Клипер шел с легким креном, водяная пыль обдавала бак, но Никита лишь иногда непроизвольно поводил плечами. Его внимание не привлекали ни стайки летучих рыб, то и дело взмывавшие над поверхностью океана, ни неуклюжие с виду, но ловкие в полете, белые с черными маховыми перьями, красными лапами и желтым клювом альбатросы – наиболее крупные, до полутора аршинов, морские птицы. За время тропического плаванья мичман успел насмотреться на них и перестал замечать. Не смог он привыкнуть лишь к самому океану, бесконечно разнообразному в широте и величии, властвующему над человеческими душами, вселяющему в них то чувство собственного ничтожества, то гордую, несгибаемую силу, которая под стать богу, а не рабу божьему…
Вперив взгляд в океан, Анненков тем не менее размышлял о вещах отнюдь не отвлеченных. Он думал о грядущих переменах на флоте, началу чего был свидетелем. Паровая машина, отбросив медлительные и громоздкие колеса со шлицами, вооружилась гребным винтом и сразу же принялась теснить парус. Пароходы все громче заявляли о себе воинствующим прагматизмом. Никита сознавал, что парусные корабли – красавцы-клиперы, барки, бриги, корветы, шхуны – отходят в прошлое, как отошли фрегаты петровской поры – с наклоненными внутрь бортами, громоздкими кормовыми надстройками, разукрашенными балконами-гальюнами в носовой части, уступчатыми палубами. Эти медлительные, но плавучие и остойчивые корабли-мастодонты были украшены богатой, вызолоченной резьбой – пышным барочным орнаментом, фигурными рельефами, изображавшими дельфинов, нереид и драконов, гербом на корме и традиционной фигурой стоящего в грозном рычании льва на носу. Столь пышное убранство кораблей «зело первейшим монархам приличествовало» и должно было олицетворять могущество державы.
«Каким ничтожным и жалким в бедности своей показался бы «Гром» рядом с патриархами флота российского, – подумал Никита. – Но сколь совершенен он в сравнении с ними высшей красотой целесообразности…»
И его пронзила мысль, что и железные чудовища-пароходы, вызывающие у настоящих моряков близкую к отвращению неприязнь, кажущиеся такими неказистыми, даже уродливыми, на самом деле красивы еще более высокой, не понятной пока красотой. А что будет за ними? Какими монстрами покажутся поначалу корабли будущего?
– Никита Андреевич! – услышал он оклик капитана и вздрогнул, возвращаясь из мира мыслей и чувств в мир действий.
– Никита Андреевич, – повторил капитан. – Вы меня слышите, господин мичман?
Анненков быстрым шагом поднялся на мостик.
– Виноват, Глеб Сергеевич!
Капитан «Грома», бравый седой офицер в белоснежном кителе, был человеком доброй души, настоящим отцом-командиром, любимым и уважаемым матросами, что на флоте встречалось не так уж часто. Правда, с тех пор, как два года назад царь Александр II подписал манифест об отмене крепостного права, корабельные нравы смягчились, увы, ненамного…
– Задумались, батенька?
– Самую малость, господин капитан, – смутился Никита.
– И о чем же, разрешите полюбопытствовать?
– Затрудняюсь сказать в двух словах…
– А вы не в двух, – благожелательно проговорил Ханевский. – Погодка редкостная, самое время побеседовать. Уж не откажите в любезности, потешьте мечтами своими.
– О славе флота думал, – признался Анненков. – Былой славе и той, которая еще грядет. Вот вы, Глеб Сергеевич, участвовали в Синопском сражении…
– Десять лет тому… – голос капитана дрогнул. – Покойный Павел Степанович Нахимов, царство ему небесное, запер тогда турок в Синопе… Представьте только, батенька: в кильватерном строю, под огнем турецких береговых батарей мы прорываемся в Синопскую бухту, становимся на якорь и бьем по кораблям и батареям противника нашего из семисот двадцати орудий! Через четыре часа все его корабли были уничтожены. Вру, батенька… Пароход «Таиф» с английским советником на борту сумел удрать.
– Представляю… – с восторгом воскликнул Никита.
– Англичане и французы не смирились с нашим господством на Черном море. У них было пятьдесят паровых фрегатов, у нас же только шесть. Вот и повоюй с ними! Я тогда служил на 120-пушечном линейном корабле «Три святителя». Через год после Синопа мы собственными руками затопили его поперек Севастопольской бухты, чтобы не пропустить в нее корабли вражеские. Вот этими своими руками затопил… В жизни не забуду! А еще год спустя смертельно ранило нашего незабвенного адмирала Павла Степановича на Малаховом кургане. Пулей в голову, вот сюда…
– А мне и не довелось повоевать, – огорченно проронил Анненков.
– Ну и слава богу! На ваш век войн достанет, – утешил Ханевский. – Хотя, по мне, не воевать бы вовсе. Только не получится так. Россия-матушка точно бельмо на глазу у господ иных. Потому и мощь Отчизны нашей крепить должно, дабы достойно потчевать любого гостя, с миром либо с войной пришедшего. Пароходов бы нам побольше, броненосцев этих самых…
– Я, Глеб Сергеевич, – признался мичман, – размышлял о том, что конец приходит парусному флоту. Вот наш клипер с машиной, а все ж она парусами лишь в подспорье.
– Правильно мыслите, батенька. Не уживутся машина с деревом, а паруса с железом. Может, когда и вспомнят о них, а пока… Отплавал свое «Гром». Вернемся из кругосветного, и придется вам, Никитушка, переучиваться. Вы уж не серчайте за фамильярность… А мне поздно, спишусь на берег, буду в Ялте розы разводить!
– Глеб Сергеевич, голубчик! – Не выдержал молчавший до этого вахтенный офицер. – Побойтесь бога! Грешно вам говорить такое. С вашим-то опытом…
– И то верно, Петр Петрович, – не стал возражать Ханевский. – Старый конь борозды не испортит, обо мне сказано, так ведь? Ну, спасибо на добром слове! Вот что, мичман, сходим-ка мы с лейтенантом чайку попить, в тропиках чай – первейшее дело. Покомандуйте без нас, вам привыкать нужно: и не таким красавцем командовать придется!
– Ну, что вы, Глеб Сергеевич… – смущенно выдавил Анненков.
– Будет вам, батенька! Ни пуха ни пера! А в случае чего кликните!
– Слушаюсь, господин капитан! – уже тверже ответил Никита.
Он понимал, что никаких команд скорее всего не понадобится: курс прежний, небо чистое, ветер ровный, под килем невообразимая глубина, со всех сторон безбрежный океан… Но молодой мичман и не преуменьшал ответственности, потому что на море может случиться всякое…
Отсюда, с мостика, все виделось иначе – полнее, острее, глубже. И горизонт отодвинулся, и даль стала еще неогляднее.
– Так держать! – крикнул он без особой надобности, просто не мог оставаться в бездеятельности.
Рулевой тотчас отозвался:
– Есть, так держать!
Начало быстро темнеть. Сумерки в тропиках коротки. Миг, и высыпали звезды, крупные, яркие, зыбко мерцающие на плотном, матово-черном небе. Вода вокруг клипера фосфорически засияла, словно сам Нептун подсвечивал ее из глубины.
– Чудно-то как, господи! – прошептал юноша, охваченный благоговейным восторгом.
Ему захотелось то ли петь, то ли молиться. Он даже попробовал прочитать молитву, но ее слова, бездумно произносимые с детства, показались ему неискренними и невыразительными. Никита ужаснулся этой мысли, но ничего не мог с собой поделать. «Боже святый, боже бессмертный, помилуй нас…» – повторял он, насилуя себя, но сдвинуться с мертвой точки так и не удалось.
Очарование тропической ночи было каким-то греховным, сродни соблазну. И уж, во всяком случае, колдовским – не от того ли не шла на ум молитва?
Окружающее утратило для Никиты черты реальности. Он как бы перенесся в мир волшебной сказки, где не следовало поражаться чудесам. Ночь, океан и звездное небо – это ли не сказка? И еще слезы на глазах, гулкие и частые удары сердца…
«Чудно-то как…»
Неожиданно Никиту охватило оцепенение: он не мог ни пошевелить рукой, ни вскрикнуть. Даже сердце, казалось ему, перестало биться, а дыхание остановилось. Сознание же не только не померкло, но, напротив, странным образом возвысилось над ним силой абстракции, несвойственной ему ранее. То, что увидел он, в иное время потрясло бы его, а возможно, лишило рассудка. Теперь же воспринималось как должное.
Океан, а вместе с ним и «Гром» растворились в сгустившемся небе. Оно было всюду, а звезды – мозг Никиты машинально отметил эту особенность – уже не мерцали, а светили остро и холодно, омертвели, их россыпь не имела ничего общего с хорошо знакомой картой звездного неба. И на фоне чужих созвездий проступили контуры невиданного корабля. В том, что это корабль, Анненков не усомнился ни на мгновение, хотя ничто не напоминало в нем известные мичману корабли: конический, с тусклым металлическим корпусом и множеством разновеликих надстроек, он выглядел как средоточие уродства. И только похожие на крылья гигантской бабочки серебряные паруса перекликались изящными очертаниями с парусами «Грома».








