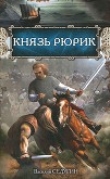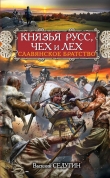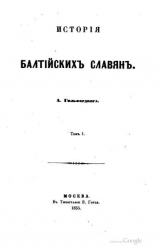
Текст книги "История балтийских славян"
Автор книги: Александр Гильфердинг
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
LVII. Значение жуп у бодричей, лютичей и поморян
Система дробления на жупы была, можно сказать, несовместима ни с большим единством, ни с чрезмерным разъединением; неразрывно связанная с племенным бытом, она требовала непременно присутствия обоих коренных начал этого быта, князя в его старом значении как такого лица, которое связывало племя в одно целое, но не приносило еще с собой единства государственного, и общины, которая распоряжалась самостоятельно местными делами земли. С перевесом одной стороны над другой, устройство жуп приходило в упадок: если усиливалась верховная власть, то она уничтожала самостоятельность и особность жуп, если возвышалась община, то с упадком княжеской власти разрушалась связь между жупами, и с прекращением этой власти, каждая жупа становилась отдельным политическим телом, превращалась в независимое племя; ибо жупы у балтийских славян связывались в одно племя не идеей внутреннего единства, а признанием общей княжеской власти.
Дробление на жупы могло удержаться у бодричей, конечно, потому только, что княжеская власть у них никогда не получала настоящего государственного значения; но эта власть стала гораздо сильнее, чем в древнем племенном быте, и с тем вместе жупы бодрицкие утратили свою внутреннюю самостоятельность: в собственно исторической деятельности бодричей дробления почти не заметно, князь во всякой жупе распоряжался полновластным господином.
Еще большего внутреннего единства, чем бодричи, достигли ране, вследствие религиозного развития: у них воцарилась самая сильная теократическая власть и подчинила себе все общественные стихии; система дробления исчезла перед ней, и жуп на Ране не было вовсе. Известный исследователь рюгенских древностей, Фабрициус, встречая в исторических известиях о Ране выражения terra, provincia и замечая, что природный вид этого острова, разорванного на несколько частей длинными, извилистыми заливами, как бы сам собой вызывал к образованию отдельных областей, удивляется, что при всем том древние свидетельства не придают этим "землям" и "провинциям" Раны никакого общественного значения, и употребляют их только в смысле географических определений, между тем как на противоположном Ране берегу материка ясно выказывается дробление на волости, хотя здесь природные условия ему, по-видимому, менее благоприятствовали; Фабрициус уверен, что и на Ране были такие же волости, и что лишь по незнанию ранских учреждений древние писатели не упоминают о них. Но дело ясное: на Ране точно не было жуп[37]37
Так и в конце XII в., когда власть Раны распространилась и над ближайшими краями материка, в грамотах, где исчисляются владения ранских князей, сама Рана является всегда одной жупой, между тем как область ее на материке раздроблена на множество жуп.
[Закрыть]и не могло быть при том крепком единстве, при той крепкой жреческой власти, которые там господствовали, и Рана может служить доказательством, что не столько требования местности, сколько условия народной жизни вызывали или устраняли между балтийскими славянами дробление на жупы.
Совсем другое явление представляет земля Лютицкая. На Ране единство власти отстранило начало дробления, у лютичей исключительное господство общины усилило его так, что исчезла всякая связь между жупами, и жупы получили значение самостоятельных земель. Неоднократно старинные памятники изображают лютичей одним народом; как один народ действуют лютичи в истории; а в то же время непреложные свидетельства указывают на то, что одни собственно лютичи, не говоря о примыкавших к ним ветвях, составляли четыре особых племени или народа, и что эти четыре "народа": кичане, черезпеняне, доленчане и ратаре, действительно имели полную политическую самобытность и независимость. Но какие это были народы? Представим себе длинную, наклоненную от северо-запада к юго-востоку, полосу от Балтийского моря до пределов нынешнего Мекленбург-Стрелицкого владения, с боков ограниченную параллельными чертами, на западе чертой от низовьев Варновы к Мюрицкому озеру и к истокам Гаволы, на востоке от нижней Речницы[38]38
В описании общих границ славянских славянских на Балтийском поморье вкралась ошибка, которую просим читателя исправить: восточную границу бодричей составляла не Рекеница или Речница, а нижняя Варнова.
[Закрыть]к Доленице и далее, мимо Доленицкого озера, к озерам и болотам, составляющим северный придел бассейна Гаволы, – и мы получим пространство, в котором они помещались, все четыре рядом, в виде маленьких четырехугольников. Верхний четырехугольник, между морем и извилистым течением Речницы составлял землю кичан, второй четырехугольник, от Речницы до верхнего течения Пены, принадлежал черезпенянам[39]39
Замечательно это название черезпеняне, данное племени, обитающему на северо-западе от Пены: стало быть, у славян балтийских, несмотря на то, что большая часть их обитала на запад от Пены, все же восточный край представлялся народному сознанию как бы исходной точкой: в этом балтийские славяне не изменили коренному славянскому воззрению.
[Закрыть], третий, от Пены до течения Доленицы и Доленицкого озера – доленчанам, четвертый, нижний, между Доленицей и верховьями Гаволы, занят был ратарянами[40]40
На такое разграничение ясно указывают многочисленные грамоты конца XII в., в которых перечисляются деревни церковные и монастырские в разных краях новообращенного Поморья.
[Закрыть]. Таким образом, на долю каждого из четырех «народов» лютицких приходился клочок земли чуть ли не меньше любого из наших уездов; и у трех из этих народов, у кичан, у доленчан и у ратарян было по одному городу, как достоверно показывают древние памятники; у кичан – Кицин или Кицыня (теперь деревня близ Ростока), у доленчан Востров (теперь деревня у Толленского озера), у ратарян Радигощ (близ древней Прилбицы). Ясно, что такие «народы» были не что иное, как прежние жупы одного племени, между которыми исчезла общая связь, когда не стало у них княжеской власти. То же самое, конечно, можно сказать и о черезпенянах: правда, у них, по словам одного любопытного свидетельства, было «три города с принадлежащими к ним землями, которые отделены и разграничены были между собою и почитались особыми областями», но такое дробление нисколько не противоречило характеру жупы: мы видели жупу морачан подразделенной между семью городами, и подобные случаи должны были повторяться всякий раз, когда несколько деревень, не довольствуясь общим «городом», общим убежищем и средоточием всей жупы, хотели иметь свое ближайшее средоточие и убежище и строили себе новый город: так было, очевидно, и с черезпенянами. Их старинный город Даргунь лежал в юго-восточном углу их земли: могли быть нужны города и в других краях, слишком отдаленных от Даргуня, и образовались два новых центра в земле Черезпенянской[41]41
В северном углу Черезпенянской страны лежал город Любечинец, о котором упоминает Саксон Грамматик; вероятно, Даргунь и Любечинец принадлежали именно к числу трех городов черезпенянских, о которых сказано в Корбейской летописи; какой был третий город, трудно решить, может быть, Востров. В древних грамотах часто говорится о землях Bisdede и Tribeden или Tribedne, как о подразделениях черезпенян; о последней упоминает и Книтлинговская сага под именем Atripiden и Tribiden (или, по ложному чтению, Tripipen). Сейчас пролагают, что земля Bisdede составляла западный край черезпенян, позднейшую землю Гюстровскую, Tribedne – восточный, или лучше сказать, северо-восточный край, позднейшую землю Гноенскую; деревни, принадлежавшие к Даргуню, не причислялись ни к тому, ни к другому из этих отделов и составляли особое целое. Не следует ли поэтому предположить, что три волости черезпенян, о которых мы привели свидетельство Корбейской летописи, были именно земли Bisdede, Tribedne и Даргуньская. Но какие славянские названия лежали в основании исковерканных слов Bisdede и Tribedne, едва ли можно решить.
[Закрыть], но она не утратила через это ни своей цельности, ни того характера простой жупы лютицкого племени, который оставался за ней постоянно, так же как за другими подразделениями лютичей, несмотря на их внешнее обособление и самостоятельность. Таково было значение четырех народов лютицких. Их особность зависела часто от того, в какой мере сильна была у них община: подчиняясь одному из соседних князей, бодрицкому или поморскому, они тотчас входили в ряд других жуп славянского Поморья. Так, прежний народ кичан в XII в. стал простой жупой, подвластной бодрицкому князю, доленчане, ратаряне и черезпеняне с их тремя ветвями перешли в жупы княжества Поморского.
Кроме описанного пространства, лютичам принадлежал еще, на юго-западе от доленчан и ратарян, край моричан[42]42
Морачане занимали, как видно из самого имени, края у большого озера Морьца; по изысканиям Лиша, им принадлежал именно западный, северный и северо-восточной берег его.
[Закрыть], на восток от ратарян край укрян с речанами[43]43
Речане и укряне жили по течению реки Укры, первые у низовьев ее, вторые по среднему ее течению: город речан был Поздеволк, город укрян – Премислава; впрочем, имя укрян относилось часто к общим ветвям славян при Укре: так, жизнеописатели Оттона Бамбергского рассказывают о племени Verani (читай Vcrani, т. е. Ucrani), к которым ездили из Щетина морем, очевидно, подразумевая под этим именем не только собственно укрян, отдаленных от моря, но и речан; так и поморские грамоты иногда отделяют край или жупу укрянскую от речанской или Поздеволкской, иногда же распространяют наименование первой на последнюю.
[Закрыть]; подобно собственно лютичам, мы находим их в истории то самостоятельными, как отдельные народы, то низведенными на степень жуп. Первоначально, кажется, они составляли особые племена, и потом уже примкнули к четырем ветвям лютичей, судьбу которых должны были разделить. Наконец, к лютичам принадлежал еще угол между Доленицей и нижним течением Пены с Дымином, Плотом, Междуречьем и Грозвином, а на другой стороне реки Пены вся страна, ограниченная течением Речницы и Балтийским морем, где были следующие города с примыкавшими к ним жупами: на берегу моря – Барт, Острожна, Волегощ, Лешане; по Речнице, Требеле и Пене – Требочец, Лошица, Гостьков или Хотьков, Щитно. То была коренная Лютицкая земля, и в ней, во время политической независимости лютичей, каждый город со своей волостью составляли особое самостоятельное общество, но эти общества возвращались к значению простых жуп, лишь только они подчинялись, для защиты от немцев или датчан, одному из соседних славянских князей. Во второй половине XII в. уже собственно не было независимых лютичей: около 1170 года кичане были жупой бодрицкой, черезпеняне, доленчане, ратаряне, укряне, щетняне, Волегощ, Гостьков, Лошица, Дымин, Требочец, – жупами поморскими, Барт – жупой ранской, моричане – жупой, подвластной немецким завоевателям Бранденбургии. Почти не видно в истории, когда и как это случилось, каким образом вдруг разорван был, так сказать, по кускам этот гордый и славный народ лютичей, перед именем которого благоговели славянские племена на Поморье и трепетали германцы.
Вот естественное следствие дробления на жупы при тех общественных началах, которые господствовали у лютичей. Из прежнего лютицкого племени образовалась группа совершенно самостоятельных, вольных обществ (республиками мы их не назовем, потому что они чужды были идеи государственного управления, которая заключалась в этом римском слове), и между этими обществами осталась только связь религиозная, общее поклонение в храме радигощском, да другая связь, общая вражда к христианским народам: пока возможны были предприятия против христиан вне пределов родины, пока Радигощ созывал к себе поклонников из всех городов лютицких и собирался тут сейм, перед ними является могущественный народ лютичей; как только начал теснить его завоеватель, как только он разрушил старую святыню Радигощ, лютицкого народа не стало: каждое общество, для своего спасения, подчиняется тому из соседних князей славянских, который ближе и сильнее, и никому как будто и не приходит на мысль, что было бы возможно лютичам соединиться всем вместе и иметь собственного государя; с тех пор, как не существует храма радигощского, нет и общего сейма лютичей: ясно, что сознания внутреннего, народного единства в лютичах не было, а была только связь внешняя.
Система жуп, которую мы нашли более или менее сглаженной у бодричей, а у лютичей, напротив, доведенной до крайней степени разъединенности, сохранилась в целости, как и все вообще стихии племенного быта, в земле Поморской. Здесь мы видим еще в XII и даже в XIII в. равновесие между общей племенной властью, представителем которой был князь, и внутренней особностью каждой жупы: общественное устройство Поморья было полнейшим проявлением старой славянской системы дробления.
По свидетельствам ХII в., собственное, так называемое переднее Поморье, состояло из восьми жуп; две жупы были островные, Ванцлавская с г. Узноимом и Волынская; на материке – жупы Щетинская, Каменская и Колобрежская занимали прибрежную полосу от Одры за Персанту; на юг от них, пограничная с Польшей полоса состояла также из трех жуп – Пырицкой, Старогардской и Белогардской.
Наконец и восточное, так называемое заднее или верхнее Поморье, между Персантой и Вислой, распадалось также на жупы; но мы имеем так мало сведений об этом крае в древнее время, что не можем в точности определить, сколько их было и какие именно. Судя по немногим грамотам конца XII и начала ХIII в., главные укрепления на восточном Поморье, которые служили центрами жуп, были Дерлово, Славно, Столп или Слуп, Старгрод на р. Верше и Гданьск. Но, вероятно, что первоначально и городов, и жуп было гораздо больше, пока нашествия поляков не разорили всей этой страны.
LVIII. Значение «городов» у балтийских славян; их отношения к обществу или жупе
Мы видим, таким образом, что за исключением ран, все племена у балтийских славян были раздроблены на мелкие жупы. Каждая жупа непременно имела свой город; связь между жупой и городом была такая тесная, что жупа составляла в глазах балтийских славян нераздельную принадлежность города и как бы в нем подразумевалась (вспомним речь бодрицкого князя). Но, собственно говоря, не жупа, не волость принадлежала городу, как бывало в других землях, а город в полном смысле принадлежал жупе, он был ее общественной собственностью, ее представителем и, можно сказать, воплощением.
Славянский город не имел постоянного населения; то было огороженное, укрепленное, но незастроенное жилыми домами место, в котором народ из окрестных деревень или жупа могла собираться для общественных дел и находить убежище в случае неприятельского нашествия; единственные в "городе" строения могли быть: храм с какими-нибудь пристройками, да княжий двор и, может быть, двор жупана; даже там, где торговля сосредоточивала в одном месте значительное народонаселение, город сохранял вид незастроенной крепости, а торговый люд размещался около этого собственно "города" в предместьях. Но такие города редкость; не насчитаешь их десятка во всей земле балтийских славян; большей частью, и в тех случаях, когда к городу притекали постоянные жители, они строили себе пригородную слободу или деревню и продолжали жить не городской, а сельской жизнью. Таким образом, города у балтийских славян никогда не изменяли своего древнего характера. Была великая разница, – и разницу эту ясно сознавал уже Саксон Грамматик, – между городом славянским и немецким. Славяне были искони градостроители, немцам в древности города были неизвестны; но потом у немцев стала возникать и все более и более развиваться городская жизнь, города явились с постоянным народонаселением, с самостоятельным значением, и, усиливаясь мало-помалу, получили решительный перевес и часто даже полную правительственную власть над деревнями; у славян, напротив, города долго удерживали значение простых сборных мест для сельского народа: они не повелевали деревнями, а совершенно зависели от них, – и в этом положении оставались города у балтийских славян в течение всей их истории.
Понятно, что такого рода город сам по себе существовать не мог. Его строила и поддерживала вся жупа: то была общественная обязанность, и одна из самых важных. Когда учреждались на Поморье монастыри, и князья передавали им разные деревни, то они обыкновенно слагали с этих деревень, в пользу монастыря, прежние повинности их в отношении к мирской власти всегда только с двумя условиями: чтобы монастырские деревни продолжали участвовать в защите страны в случае нападения врагов, и чтобы они, наравне с остальным народонаселением жупы, несли обязанность строить и поддерживать город, в их жупе находящийся. Такого рода условия мы читаем в огромном множестве поморских грамот, и они вполне выказывают значение и характер "города" у поморян. Таким же общественным делом жупы постройка городов была у бодричей и у стодорян, как видно по свидетельствам Гельмольда и грамотам Оттона I. Напротив, когда случалось славянским князьям водворять или разрешать водворение чужих переселенцев в каких-нибудь деревнях, то они всякий раз освобождали их от этой повинности: действительно, переселенцы эти, по гибельному пристрастию к ним князей, знатного сословия и духовенства, исключались из общего земского права славянского и поэтому поставлялись вне славянского общества, вне жупы, которая была проявлением этого общества: понятно, что им не для чего было участвовать в постройке города, принадлежавшего жупе.
LIX. Религиозная и административная самостоятельность жуп. – Значение и власть жупанов
Сосредоточенная в городе, жупа составляла особый общественный круг, цельный и замкнутый в себе.
Она имела самостоятельность религиозную; у нее был в городе свой общественный храм, свой жрец, свое общественное богослужение, для которого в известные дни сходилось в город все население жупы. Самостоятельность жупы у балтийских славян хорошо выразил Титмар в замечательном своем свидетельстве, что "сколько у этих Славян волостей (т. е. жуп), столько существует у них храмов и особых истуканов, которым поклоняется языческий народ".
Жрец был духовный глава жупы, светский глава был жупан. Он принадлежал к знатному сословию, иногда даже к княжескому роду, и назначался, кажется, по крайней мере на Поморье, князем[44]44
Когда Поморье разделялось между двумя князьями-братьями, то в важном и доходном городе Колобреге, которым они владели сообща, появляется два жупана; если бы жупаны не назначались князьями, то не было бы, конечно, такого двоевластия; заметим еще, что при двух жупанах Колобрег имел тогда и две корчмы: в корчме производился сбор податей, и каждый князь хотел иметь в общем городе свою корчму, как и своего жупана. Что жупаны на Поморье назначались князьями, а не народным выбором, мы предполагаем еще и потому, что они иногда перемещались из одного города, из одной жупы, в другую; наконец, мы предполагаем это по аналогии с Польшей и Силезией. Разумеется, у лютичей, в то время, когда княжеской власти не было, выбор жупанов должен был зависеть от общины.
[Закрыть]. Выбор падал всегда, без сомнения, на человека богатого, владевшего поместьями, имевшего средства содержать дружину. Местопребыванием жупана был «город», почему при перенесении на Поморье латинского и немецкого языка его стали называть бургграфом и кастелланом.
Жупан был высшим должностным лицом, ему принадлежала администрация жупы. Мы знаем, что князь у балтийских славян (эти отношения особенно ясно выказываются на Поморье) не имел в собственном смысле правительственной власти. Каждая жупа управлялась особо, решая дела на общем сходе народа или советом знатных людей и стариков. Глава схода и совета был, без сомнения, жупан; и он же был посредник между княжеской властью и жупой. С одной стороны, он был исполнителем княжеской воли в своей жупе, с другой, он являлся представителем жупы перед князем: князь без его совета и согласия не принимал решения, касавшиеся жупы, но когда решение было принято, то жупан объявлял его народу и исполнял. О делах всей земли, т. е. совокупности жуп, рассуждали жупаны общим советом; этому совету предлагал князь те меры, которые касались всей земли; они не могли быть приняты без общего согласия жупанов, и ими же опять провозглашались и исполнялись. В случае малолетства князя, власть его переходила к совету жупанов.
Значение жупанов было, таким образом, велико, но крайне неопределенно. Жупан зависел и от народа своей жупы, который, собравшись на сход или поручив решение общественного дела старикам и знатным людям, предписывает ему свою волю, и от князя, который назначал его и служителем которого он считался; а с другой стороны, опираясь на народ, жупан мог действовать почти независимо от княжеской власти, опираясь на князя и на дружину, он мог почти безответно править жупой[45]45
Так было на Поморье со времени утверждения христианства; в грамотах почти не видно народного схода, управление принадлежит князю и жупанам.
[Закрыть]. Такая неопределенность отношений видна во всем общественном устройстве балтийских славян. Когда нахлынули на Поморье стихии немецкие, когда все стало переходить к немцам, не дано было славянскому народу даже в своих жупанах, – несмотря на то, что они, по-видимому, имели такую силу и казались учреждением чисто славянским, чисто народным, – найти помощь и опору в борьбе с чужим наплывом: жупан принадлежал к знати, немецкая жизнь пришлась ему по нраву, ему захотелось жить в своем «городе» не так, как прежде, подчиненным князю и народу правителем жупы, а чем-то вроде рыцаря, самоуправным господином и повелителем, связанным только законом вассальства в отношении к князю, и вот мы видим, что поморское жупаны в XII и XIII в. с каким-то особенным рвением переходят на немецкую сторону и спешат подчиниться новым условиям феодального права.
В чем именно состояла администрация у балтийских славян и как проявлялась в ней власть жупана, об этом мы почти не знаем. Администрация была, конечно, самая простая, и не нуждалась в особенных учреждениях. Дела внутреннего распорядка в каждой деревне решались, без сомнения, в ней самой, с помощью схода и старосты, который был и у балтийских славян[46]46
Хотя слово староста не встречается в древних памятниках, относящихся к балтийским славянам, но оно сохранилось даже в XVI и XVII вв. во многих местах (особенно в Бранденбурге), где еще жили остатки славян.
[Закрыть]. Военная повинность раскладывалась самим народонаселением деревни по семьям: налагая на побежденных поморян обязанность выставлять вспомогательное войско, польский князь требовал (и в этом он, конечно, придерживался народного обычая), чтобы «девять отцов семейства снаряжали десятого в поход, снабжая его, как следует, оружием и всеми нужными вещами, и при этом тщательно заботились дома об его семье». За преступление, совершавшееся в известном месте, отвечало все окрестное население. Поморский князь Богослав писал в 1182 г.: «Повелеваем всем, находящимся под нашею властию, со всем старанием наблюдать, чтобы любезным нам каноникам (водворенным в Бродском монастыре) не причинялось никакого вреда и ущерба, тайного или явного, так как не только виновный, если будет открыт, подвергнется тяжкой ответственности, но и соседи, вокруг живущие, будут принуждены вознаградить сполна из собственных средств понесенный ими (т. е. канониками) убыток». Едва ли, поэтому, административный круг власти жупана мог быть обширен. Главные его обязанности сосредоточивались, кажется, в городе: он распоряжался работами, которые жупа должна была производить, постройкой и исправлением городских укреплений и общественных зданий, составлявших принадлежность города, т. е. княжьего дома и, вероятно, храма, а также, где было нужно, мостов, дорог, плотин и т. п. Он наблюдал, конечно, за торговлей, которая производилась на городском рынке, и за взносом разнообразных податей и пошлин. Для сбора податей и пошлин, взимавшихся с судов у известных пристаней, с телег за проезд через некоторые мосты, и при въезде в города, были особые сборщики, которых, вероятно, назначал жупан; к сборщикам поступала также взимавшаяся для князя, натурой, часть с хлеба (осып), с рогатого скота, со свиней и овец, с меда и т. п., и чрезвычайные подати, которые по временам налагались князем на народ, но взнос собственной подати, лежавшей на народонаселении жупы, производился у балтийских славян в корчме: корчма была непременно на каждом рынке, в каждой жупе, и находилась обыкновенно, как и рынок, под самим городом[47]47
Таких свидетельств множество в поморских грамотах. Иногда какое-нибудь важное село, в котором сосредоточивалась некоторая торговля, имело корчму, которая становилась тогда сборным местом и финансовым центром для окружающих деревень. Корчмы распадались, таким образом, на два разряда, на большие и малые: первые, кажется, были городские, вторые – сельские.
[Закрыть]. Подать, вероятно, была двоякая: одна, кажется, взималась в корчме за продажу на рынке (так называемая таргове, т. е. торговая), другая поступала туда из каждой деревни, в виде поголовной подати с целого общества (нарок)[48]48
Что эти подати шли в корчму, несомненно потому, что корчма является на Поморье главной, так сказать, кассой князя в каждой жупе: когда князь учреждал какой-нибудь монастырь, основывал какую-нибудь церковь, то вместо того, чтобы назначать ей содержание из своей казны, он давал ей право получать из корчмы такой-то и такой-то жупы столько-то денег, три, пять, шесть, десять марок серебра: такие распоряжения мы читаем в бесчисленном множестве поморских грамот. Когда Поморье, по воле князя, с совета и согласия сейма, приговором жупанов, положило жертвовать известное количество воска в церковь, где хранились останки св. Оттона Бамбергского, то как собиралась эта подать воска? Воск поступал в каждой жупе в корчму, и оттуда уже свозился в Щетин и отправлялся в Бамберг.
[Закрыть], или подати с дворов и тягол (подворове и порадлне). Таким образом, корчма составляла у балтийских славян какую-то принадлежность общественного управления и находилась в прямом ведении жупана. Наконец, жупан должен был наблюдать за теми временными повинностями, к которым жупа была обязана при личном пребывании или проезде князя, как-то за поставкой подвод (это называлось проводом), за угощением князя и его дружины (гоститва), устройством его стана (становое), хождением за его охотой, собаками, соколами и т. п.
За свою службу жупан имел от жупы известные доходы, beneficia[49]49
Вероятно, эти доходы состояли в каком-нибудь проценте с податей за труд сбора, поэтому князь, слагая с деревень подати, которые платились ему, мог с тем вместе освобождать их от платы жупану.
[Закрыть], но в чем они состояли, неизвестно.