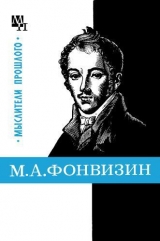
Текст книги "М. А. Фонвизин"
Автор книги: Александр Замалеев
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
Фонвизин придавал при этом особое значение уравнению «выкупленных» крепостных крестьян с государственными. Поскольку, объяснял он, государственные крестьяне в России имеют право владения землями, принадлежащими не частным лицам, а государству, то и «выкупленные» земледельцы, получив в личную собственность землю от государства, навсегда освободятся от унизительного и бессмысленного рабства. Вместе с тем это одновременно предохранит их от пауперизации, от превращения в «бездомков», пролетариев. «Зло, неизвестное в России, – отмечал Фонвизин, – но которому и она может подвергнуться, если с уничтожением крепостного состояния крестьян они останутся на владельческих землях и будут иметь право свободного перехода». Наконец, Фонвизин считал, что с передачей во владение крестьян государственных земель «откроется возможность повсеместного распространения муниципальных или волостных учреждений, которых древняя самобытность в нашем отечестве так способна принять полное и своеобразное развитие» (там же, 119).
«Если бы в самом исполнении оказались препятствия со стороны дворянства, – заключал Фонвизин, – то они легко могут быть отклонены обещанием правительства издать постановления, ограничивающие злоупотребления власти помещиков, с возложением строгой ответственности на начальников, обязанных наблюдать за исполнением. Такими постановлениями, нимало не оскорбительными для дворян благомыслящих, устранятся все затруднения и в дворянском сословии возродится общее желание сбыть с рук крестьян своих на столь выгодных условиях» (там же, 122).
Фонвизин, таким образом, разрабатывал проект, предполагавший выкуп правительством дворянских имений с крестьянами и дворовыми людьми и передачу в собственность последним приобретенных земель. В этом он видел единственный способ разрубить «запутанный узел» крестьянской проблемы, так как все убеждало его в том, что частичное решение этого вопроса лишь озлобляет крестьян и не оказывает никакого действия на дворянское сословие. Именно уверенность в собственной правоте побудила Фонвизина просить И. И. Пущина отправить каким-нибудь тайным способом статью в Петербург для вручения Киселеву. Хотя указ 2 апреля 1842 г. его полностью разочаровал, он тем не менее был склонен думать, что новый закон не есть окончательное решение правительством «главного вопроса» русской жизни, а является лишь попыткой «узнания общественного мнения» (см. 62, 313).
Пущину удалось переправить в Петербург статью Фонвизина через знакомого тобольского прокурора П. Н. Черепанова. Но к Киселеву она не попала. И. А. Набоков, родственник Пущина, взявшийся было выполнить поручение ссыльного декабриста, писал 5 июля 1842 г. в Туринск: «Хлопотал с твоею рукописью... и ничего не вышло» (там же, 314). Впрочем, Фонвизин и сам не верил, что его проект будет поддержан официальными властями. «Кажется,– писал он еще 23 июня Пущину, – бумага наша придет не вовремя и не обратит на себя даже внимания: в столице слишком много думают об одних физических наслаждениях» (там же, 315).
Проект Фонвизина и в самом деле был слишком радикальным, чтобы его могло принять царское правительство, которое сочло опасным для дворянского сословия даже умеренные рекомендации Киселева. После издания пресловутого закона об обязанных крестьянах оно долго не решалось предпринять какие-либо меры по урегулированию крестьянского вопроса. Лишь после Крымской войны, которая окончательно обнажила всю гнилость феодально-крепостнического строя, правительство вынуждено было вновь вернуться к этой злободневной проблеме. И все началось сызнова. Опять посыпались проекты, повторяющие старые аргументы в пользу освобождения крестьян. Достаточно в этом отношении сослаться на «Записку об освобождении крестьян в России» либерального историка и публициста К. Д. Кавелина, чтобы представить общий характер данных аргументов.
Кавелин доказывал, что крепостное право не только сдерживает экономическое развитие России, но таит в себе огромную политическую опасность: «Народ сильно тяготится крепостною зависимостью, и при неблагоприятных обстоятельствах из этого раздражения может вспыхнуть и разгореться пожар, которого последствия трудно предвидеть» (39, 33). Он предлагал проведение крестьянской реформы на следующих основаниях: «1) крепостных следовало бы освободить вполне, совершенно, из-под зависимости от их господ;2) их надлежало бы освободить не только со всем принадлежащим им имуществом, но и непременно с землею и3) освобождение может совершиться во всяком случае не иначе как с вознаграждением владельцев»(там же, 43). Кавелин был против ограничения крестьянского надела минимумом, который необходим для оседлости; он признавал целесообразным сохранение и закрепление за крестьянином надела, находящегося в его действительном пользовании. В противном случае, замечал он, «бывшие крепостные впали бы в крайнюю нищету и обратились в бездомников и бобылей – нечто вроде сельских пролетариев, которых у нас покуда, слава богу, очень мало, или они стали бы толпами выселяться в другие губернии и края империи» (там же, 45). Что касается самого земельного надела, то крестьянин обязан был выкупить его у помещика на собственные средства, правительству же рекомендовалось лишь подготовить общественное мнение к устранению крепостного права.
Ясно, что при таком способе освобождения, когда все материально-финансовые тяготы перекладывались на плечи разоренного крестьянства, ожидать какого-либо продвижения к цели было бессмысленно. И это хорошо понимал еще в начале 40-х годов Фонвизин, проект которого был единственной в дореформенный период попыткой формулирования практических требований самих крестьянских масс.
Неудача с проектом крестьянской реформы заставила Фонвизина серьезно задуматься над вопросом: почему самодержавная власть не освобождает крестьян от крепостной зависимости? Чтобы ответить на него, он обратился к изучению истории закрепощения русского крестьянства. Выводы, к которым он пришел, позволили ему принципиально пересмотреть свое мнение о возможности официального, правительственного решения крестьянской проблемы.
По мнению Фонвизина, исторические факты доказывают, что в средние века русский народ был «на высшей степени гражданственности» и смело стоял за свои права, когда им «угрожала власть», что повсюду на Руси были «во всей силе» общинные муниципальные учреждения и волости и что крепостного рабства до XVII столетия не существовало в России: «Все русские были вольные люди». «Наши историки, особенно Карамзин, – писал Фонвизин, – скупы на этого рода подробности: говорят о них слегка или вовсе пропускают проявления в России политической свободы и те учреждения, которые ей благоприятствовали. Русские историки, напротив, везде стараются выставлять превосходство самодержавия и восхваляют какую-то блаженную патриархальность, в которой неограниченный монарх, как нежный, чадолюбивый отец, и дышит только одним желанием осчастливить своих подданных» (8, 3).
В действительности, считал Фонвизин, дело обстояло иначе: русский народ был свободен и счастлив лишь до тех пор, пока в России не утвердилось самодержавие. Беспристрастная история свидетельствует, что «в общественном быту славян преобладала стихия демократическая, общинная». Это общинное устройство, основанное «на началах чисто демократических», доказывал Фонвизин, сохранялось на Руси вплоть до московской централизации. Несомненное тому доказательство он усматривал в существовании «вольных общин» – Новгородской, Псковской и Вятской, в которых «славянский элемент развился своеобразно» – вылился в господство народного веча. «В этих народных державах, – отмечал он, – под сению политической и гражданской свободы основались демократические учреждения, под которыми они (граждане. – А. З.) были независимы и благоденствовали». Фонвизин считал, что народное вече обладало полнотой законодательной власти, поэтому само избирало всех «общинных начальников»: тысяцких, бояр, посадников, церковных владык и даже князей, бывших только исполнителями его определений (см. 8, 4).
Нет необходимости опровергать эти идиллические выводы о древнерусской политической действительности; их ошибочность очевидна. Важнее констатировать другое: Фонвизин перенес на домосковский период русской истории свой идеал раннехристианской общинной демократии, «обмирщил» таким образом этот идеал, включил в рамки национальной исторической жизни и выдвинул в качестве политического аргумента против российского абсолютизма.
Фонвизин прямо утверждал, что «древняя Русь не знала ни рабства политического, ни рабства гражданского: то и другое привилось к ней постепенно и насильственно, вследствие несчастных обстоятельств» (там же, 3). Первым «несчастным обстоятельством» он считал возвышение московских князей в период татаромонгольского ига, возвышение, сопровождавшееся одновременным закрепощением крестьян. По мнению Фонвизина, уже Иван Калита, став по воле ордынского хана собирателем дани «не только со своего малого княжества», но со всей Руси, «собирал с народа гораздо более денег, нежели сколько платил хану, что и было источником его богатства, доставлявшего ему покровительство в Орде» (там же, 5). Подобным же образом «раболепствовали ханам и покупали их вельмож» его преемники.
В результате этой политики московские князья сумели возвыситься над другими русскими князьями и их стали именовать великими. Они скупали и отнимали силой земли соседних княжеств, благодаря чему значительно расширили собственные владения. Необходимым следствием такого «собирания русских земель» явилось то, что «в их роде постепенно утвердилось единовластие, которое не замедлило превратиться в самовластие». Прежняя общинная свобода сменилась княжеским «произволом, народ больше не собирался на вечах для рассуждения о делах общественных», не распоряжался «в собственных делах». «Русь сделалась Московским государством, – писал Фонвизин,– Великий князь Иван Васильевич III, соединив под своею державою прочие русские княжества и свергнув иго татарское, был уже государем самовластным. Он и сын его Василий Иванович, покорив оружием Новгород, Псков и Хлынов, уничтожили их общинные права и вольности и увезли в Москву как трофеи колокола, сзывавшие на вече свободных граждан Новгорода и Пскова» (там же, 6). Далее Фонвизин констатировал, что во времена Ивана Грозного самодержавие русских царей достигло апогея и окончательно утвердилось при Петре Великом.
Характеризуя деятельность Петра I, Фонвизин стремился избежать поверхностной односторонности, которая бросается в глаза в оценке Карамзина и славянофилов, видевших в царе «разрушителя русского и вводителя немецкого» (см. 43, 119). Они отвергали реформы Петра как ненужные и вредные на том основании, что эти реформы якобы нарушили правильное, «мирное» течение русской истории, вывели народ из «благодетельного» терпения и патриархальной покорности.
Действительно, Петр, соглашался Фонвизин, «насильственно» приобщал Россию к европейской цивилизации. Именно с тех пор русские бросились перенимать у Запада нравы, обычаи, роскошь, моды – «словом, подражать Европе во всех внешних формах и проявлениях общественной жизни». Однако, несмотря на «смешные свои стороны», это подражание, признавал Фонвизин, оказало в общем благотворное действие: многое дикое, уродливое, варварское, привнесенное в Россию тиранством Орды, совсем изгладилось, исчезло. «И наше самовластное правительство, – писал он, – под влиянием западных идей невольно увлекается либерализмом, столько противным его натуре. И оно, постоянно перенимая у европейцев и усваивая если не самый дух их государственных учреждений, то внешние формы администрации, многому научилось и далеко опередило массу народа на поприще прогресса и цивилизации; в этом именно и состоит тайна могущества его и всевластия» (13, 105).
Итак, увлечение Петра I иноземным имело и хорошие стороны, резюмировал Фонвизин. Но было ли от того лучше народу, спрашивал он, стал ли народ счастливее, упрочилось ли сколько-нибудь его благосостояние? Нет, считал он, народ остался в прежнем положении, в каком был до Петра; при нем даже усилился гнет, сделалось более тягостнее и беспросветнее существование крепостных крестьян. «В его время, – указывал Фонвизин, – в некоторых государствах западных крепостное состояние землевладельцев уже не существовало, в других принимались меры для исправления этого зла, которое в России, к несчастью, ввелось с недавнего времени и было во всей силе. Петр не обратил на это внимания и не только ничего не сделал для освобождения крепостных, но, поверстав их с полными кабальными холопами в первую ревизию, он еще усугубил тяготившее их рабство» (8, 13).
Столь же противоестественный, антинародный характер, по его мнению, имела и законодательная деятельность Петра. В деле законодательства, считал Фонвизин, преобразователь России определенно уступал своему отцу – царю Алексею Михайловичу; последний по крайней мере оставил после себя Уложение. Бесчисленные же именные указы Петра, «при отсутствии всякой системы», породили в законодательстве лишь величайшую путаницу, так что для всякой тяжбы стало возможным подобрать по два указа, из которых один повелевал отдать, а другой отнять одну и ту же вещь (см. там же, 13—14).
Фонвизин, таким образом, оценивал деятельность самодержавного правительства Петра I в истории русского государства не на основании тех мероприятий, благодаря которым Россия вышла на арену активной политической жизни (хотя он придавал им исключительное значение!), но прежде всего с точки зрения того, как оно относилось к экономическому и политическому положению крепостного крестьянства. Именно за игнорирование интересов народных масс он клеймил позором российское самодержавие.
Так, разоблачая «филантропические побуждения» императрицы Екатерины II, он писал: эти побуждения отнюдь не заставили ее приняться за «уврачевание» одной из самых «тяжких язв» русской действительности – крепостного рабства половины населения России. Напротив, указом 1783 г. она обратила в «рабов» все население Малороссии; что же касается «рабов-иноземцев», то ею было установлено, что, вступив на российскую землю и приняв христианскую веру, они становятся свободными. «Стало быть, – с негодованием восклицал Фонвизин,– в России только одни русские могут быть крепостными рабами: странное преимущество народа господствующего!» (там же, 29).
Этот конкретный исторический анализ отношения самодержавного правительства к крестьянскому вопросу подводил Фонвизина к справедливому заключению, что российское самодержавие всегда было и остается враждебным русскому народу, его страданиям и что его правители делают все возможное, чтобы еще более усугубить тяжесть его экономического и политического положения, так как в сохранении крепостного рабства они видят главное условие собственного существования.
Фонвизин гневно бичевал царское правительство, которое, насаждая в России рабство, вместе с тем иезуитски подписывало соглашение с Англией и Францией о запрещении торговли неграми. «Это, конечно, – писал он в статье „О подражании русских иностранцам“,– случилось в минуту забвения, что в России производится в большем размере столько же ненавистная и еще более преступная торговля нашими соотечественниками, христианами, которых под названием ревизских душ покупают и продают явно, и присутственные места совершают акты продажи» (13, 107). Рабство русских земледельцев, заключал он, есть основная причина «несовершенства общественного состава», главное препятствие на пути полного развития «того общего благоденствия, которого Россия своими естественными способами могла бы достигнуть, оно в будущем угрожает ее спокойствию» (11, 109—110). По мнению Фонвизина, рабство продолжает сохраняться только потому, что народ еще не постиг тайну своего собственного могущества, что он находится вне цивилизации и политического просвещения. Если бы народ, утверждал он, поднялся до уровня истинного образования, то он начал бы «необходимую борьбу» с самодержавным деспотизмом «и слишком известно, на которой стороне должна быть победа; на этот счет история народов не оставляет ни малейшего сомнения» (13, 106).
Итак, Фонвизин теперь отчетливо сознает, что правительственным путем урегулировать крестьянский вопрос невозможно и что принципиальное разрешение этого вопроса связано с ликвидацией самодержавной деспотической власти. Этот вывод побудил его непосредственно заняться с середины 40-х годов вопросом о характере революции в России.
Глава IV. «Спасение в революции»
В историко-философской литературе принято объяснять неприятие декабристами «народной революции», ориентацию исключительно на революцию «военную» их дворянской ограниченностью, непониманием места и роли классовой борьбы в истории человечества (см. 37, 175—176). Однако это объяснение слишком общо, чтобы исходя из него можно было ответить на вопрос о действительном взгляде декабристов на характер революции в России.
В самом деле, почему, например, Бестужев-Рюмин признавал «весьма опасным» сделать народ участником государственного переворота? Почему остерегались «бунта между крестьянами» Рылеев и другие руководители «Северного общества»? Почему Пестель, мечтавший, по словам Герцена, привлечь к участию в революции народ, ограничивал тем не менее свой выбор только раскольниками, а позже вообще остановился на мысли «о временном (революционном.– А. З.) правлении и его необходимости»? Считать, что и он не понимал значения классовой борьбы в развитии общества, было бы неверно, ибо он сам доказывал, что «главное стремление нынешнего века состоит в борьбе между массами народными и аристокрациями всякого рода, как на богатстве, так и на правах наследственных основанными» (35, 2, 166).
Позиция декабристов, на наш взгляд, объясняется тем, что они намеревались с помощью революции решить ограниченную задачу. Все они – и приверженцы конституционной монархии, и сторонники демократической республики – основной целью своих политических стремлений считали «возобновление» уничтоженных российским самодержавием «первобытных» законно-свободных учреждений, характерных для древней Руси. Поэтому и государственный идеал видели они в народном вече. Эпоха древнерусского вечевого правления была для них своего рода «золотым веком», они вдохновлялись ею, мечтали перенести в настоящее. Рассматривая историческое развитие России как процесс постепенного насильственного исчезновения исконных общинно-вечевых вольностей, они строго различали два периода: первый – господства народного представительства, второй – феодального, аристократического. Декабристы хотели прежде всего восстановить «справедливость» – вернуть народу «естественное» право участвовать в государственных делах. Хотя они по-разному понимали идею народного представительства, однако сходились в признании «военной» революции в качестве единственного способа политического насилия, который может осуществить их желание – учредить в России законно-свободное, представительное правление.
Так, Н. Муравьев в случае отказа императорской фамилии принять конституцию намеревался «произвесть возмущение в войске и обнародовать оную» (35, 1, 343). «Наша революция... – говорил Бестужев-Рюмин, – не будет стоить ни одной капли крови, ибо произведется одною армиею, без участия народа... мы поднимем знамя свободы и пойдем в Москву, провозглашая конституцию» (35, 3, 36). О «предупреждении всякого междоусобия» думал и Пестель, разрабатывая план революционного введения «коренных постановлений» (35, 2, 165).
Таким образом, декабристы признавали непосредственной целью революционного восстания принятие конституции, предоставляющей народу политические и гражданские права. Эта цель позволяла им, с одной стороны, признать законность насильственного переворота, а с другой – отвергнуть необходимость участия в нем самого народа.
Ориентируясь на «бескровную», «ограниченную» революцию, они руководствовались преимущественно опытом предшествующего столетия, доставлявшего им примеры нескольких удачных военных правительственных переворотов. «...Переходило ли, например, исследование к самому происхождению разных правительств в России, – писал Д. И. Завалишин, – оно видело целый ряд революций, и притом при полном безучастии народа, и совершаемых большею частию военною силою, как было при возведении на престол Екатерины I, при свержении Бирона, регентши и Петра III. Все примеры показывали, что Россия повиновалась тому, что совершала военная сила в Петербурге, и признавала это законным...» (33, 213). Кроме того, как отмечалось выше, декабристы находили конкретное подтверждение правильности избранной ими тактики военной революции в национально-освободительных движениях Западной Европы.
Декабристы были далеки от народа и по иной причине. Герцен писал: «...народ остался безучастным зрителем 14 декабря. Каждый сознательный человек видел страшные последствия полного разрыва между Россией национальной и Россией европеизированной. Всякая живая связь между обоими лагерями была оборвана, ее надлежало восстановить, но каким образом? В этом-то и состоял великий вопрос» (25, 461).
Непричастность народа к восстанию декабристов явилась прямым следствием того решения «великого вопроса», которое предлагали сами дворянские революционеры. Они думали, что народ можно привлечь к себе только после революции, когда будут созданы условия для постепенного преобразования его экономического быта и распространится истинное просвещение. В настоящий же момент, полагали они, народ вследствие «долгой привычки» к крепостному рабству может встать против них на стороне правительства и таким образом обратить свободу «в своеволие, худшее самого крайнего произвола» (20, 289).
И декабристы были в определенном отношении правы, так как все крестьянские выступления в России носили характер исключительно антидворянский и не были направлены против царя. Этот наивный «монархизм» крестьянских масс, их вера в «доброго» и «хорошего» царя всего отчетливее проявились в программных требованиях пугачевского бунта – самого близкого декабристам по времени народного восстания. Ф. Энгельс писал: русский народ «устраивал, правда, бесчисленные разрозненные крестьянские восстания против дворянстваи против отдельных чиновников, но против царя– никогда, кроме тех случаев, когда во главе народа становился самозванеци требовал себе трона. Последнее крупное крестьянское восстание при Екатерине II было возможно лишь потому, что Емельян Пугачев выдавал себя за ее мужа, Петра III, будто бы не убитого женой, а только лишенного трона и посаженного в тюрьму, из которой он, однако, бежал. Наоборот, царь представляется крестьянину земным богом...» (1, 547).
Зная об этом, декабристы не без основания опасались, что царское правительство может использовать народное выступление для подавления революции. А именно такого «междоусобия» не хотели допустить дворянские революционеры. От кровопролитной народной войны отталкивал декабристов и отрицательный опыт западных буржуазных революций, террор эпохи якобинской диктатуры, выродившийся в наполеоновское самовластие. «Ужасные происшествия, бывшие во Франции во время революции,– отмечал в показаниях Пестель, – заставляли меня искать средство к избежанию подобных...» (35, 2, 165). Действительно, история Великой французской революции, указывал Энгельс, свидетельствует, что плебейские массы, захватив временно власть, «доказывали только всю невозможность господства этих масс при тогдашних отношениях» (2, 268—269).
Однако декабристы в отличие, например, от Радищева, которого эти события привели на грани XVIII и XIX вв. к отрицанию радикальных политических средств вообще, не отказались от революционных действий, они лишь ограничивали сферу насильственного переворота (см. 54, 158). Такого рода «сужения демократических сил», привлекаемых к участию в революции, требовали конкретно-исторические условия России того времени, оно диктовалось необходимостью преодоления абстрактной просветительской идеологии, просветительских представлений о специфике общественного прогресса.
Все сказанное о характере декабристской революционности непосредственно связано с тем решением проблемы насильственного переворота, которое предлагал М. А. Фонвизин. К принятию тактики военной революции он был подготовлен как опытом собственной жизни (восстание военнопленных под его руководством в городе Оверн во Франции), так и национальноосвободительным движением 20-х годов на Западе. Поэтому не случайно он одним из первых среди декабристов выступил в защиту испанских кортесов и резко осудил действия Священного союза на Веронском конгрессе (1822 г.). «Веронский конгресс,– писал он в статье „О повиновении вышней власти...“, – решил, что нынешние кортесы, составленные военной революцией), не имеют надлежащей законности... и потому предоставил Франции управиться с Гишпаниею с обещанием ей всякой помощи, буде востребует нужда...» Защищая кортесы, Фонвизин прежде всего отстаивал законность самой военной революции. Он рассматривал вмешательство во внутренние дела независимого государства как «главнейшее зло», представляющее прямую угрозу «всяким свободомыслящим (либеральным) идеям, учреждениям и людям» (см. 31, 490—491). В тактике военных революций Фонвизина, как и других декабристов, привлекала сравнительная быстрота осуществления государственного переворота и ограниченность лиц, принимающих в нем участие.
Однако в 20-е годы Фонвизин не ставил специально проблему военной революции. За это он основательно принялся в период сибирской ссылки после неудачной попытки реализовать официальным путем свой проект крестьянской реформы. Осмысливая причины поражения декабристского восстания, он впервые в русской социологии выдвинул два принципиальных вопроса: во-первых, вопрос о главных исторических формах русского антимонархического движения и основных его движущих силах и, во-вторых, вопрос о значении декабризма как высшего «проявления политической жизни» в России.
Примечательно, что этим же вопросам особое внимание уделял в самом конце 40-х – начале 50-х годов А. И. Герцен. Остановимся коротко на его суждениях, так как сравнение их с выводами Фонвизина позволит полнее понять оригинальность и своеобразие историко-революционных идей декабриста.
Основная идея книги Герцена «О развитии революционных идей в России» (1851) афористически выражена в словах: «Подлинную историю России открывает собой лишь 1812 год; все, что было до того, – только предисловие» (25, 395). До московской централизации, писал Герцен, «мы не встречаем какого-либо отдельного, привилегированного, обособленного класса. Там был только народи одно племя – вернее, княжеский владетельный род, потомство варяга Рюрика, – совершенно отличное от народа» (там же, 396—397). Общественный строй в городах был тот же, что и в деревнях, – общинновечевой, оттого «княжеская власть была отнюдь не той неограниченной властью, какой она стала в Москве» (там же, 398). Древнерусские князья, по мнению Герцена, являлись лишь старейшинами множества городов и деревень, которыми они управляли совместно с «общими сходами» представителей народа. После падения Киева в период монгольского ига и с началом постепенного возвышения Московского княжества характер власти великих князей меняется: «они стали более самовластными» и думали прежде всего о централизации. Необходимость централизации, отмечал Герцен, была очевидна, без нее не удалось бы ни свергнуть монгольское иго, ни спасти единство государства. Однако Москва, писал он, «спасла Россию, задушив все, что было свободного в русской жизни» (там же, 404). Русский народ, избавившись от иноземного владычества, подпал под гнет неограниченного монарха. У него не хватило силы и энергии «снова стать на ноги», он «ушел с поля битвы», потеряв все свои права в городах, и скрылся в недрах сельских общин, где еще мог дышать вольным воздухом. Он остался «в одиночестве», вне всякого общественного и политического движения, которое с этого времени и до войны 1812 г. возглавляет правительство, а после «рядом с ним идет дворянство» (там же, 438).
Поэтому, считал Герцен, история России, исключая пугачевское восстание и пробуждение народа в 1812 г., – «не что иное, как история русского правительства и русского дворянства» (там же, 419).
Победа над Наполеоном ничего не дала народу: «он возвратился в свою общину, к своей сохе, к своему рабству» (там же, 439). Но зато она решительно переменила умонастроение лучшей части дворянства – гвардейских и армейских офицеров. Познакомившись с западным миром, усвоив новые политические теории, они прониклись «рыцарскими чувствами чести и достоинства», которые были неведомы «до тех пор русской аристократии плебейского происхождения, вознесенной над народом милостью государей» (там же, 440). Все стало вызывать в них ропот: дурное управление, продажность чиновников, полицейский гнет. Из них-то, продолжал далее Герцен, составилась «первая по-истине революционная оппозиция, создававшаяся в России». До этого были лишь отдельные «политические проблески»: первые из них – когда императрице Анне продиктовали условия вступления на престол, вторые – в царствование Екатерины II, когда несколько вельмож пытались добиться конституции. Но эти оппозиции Герцен признавал консервативными, так как они не выходили «из круга строго монархических идей» (там же, 441).
Напротив, декабристская оппозиция была преимущественно республиканской; она не пожелала «более довольствоваться представительной монархией» (там же, 444). Давая общую характеристику декабризму, Герцен писал: «14 (26) декабря действительно открыло новую фазу нашего политического воспитания... Русским недоставало отнюдь не либеральных стремлений или понимания совершавшихся злоупотреблений: им недоставало случая, который дал бы им смелость инициативы... И вот эти первые пришли... эти люди пробудили душу у нового поколения; повязка спала с глаз» (там же, 446).
Итак, по мнению Герцена, общественно-политическое движение в России прошло через три основных этапа: общинно-вечевой, когда народ принимал прямое участие в делах государственного управления, прерванный московской централизацией; правительственный, продолжавшийся до Отечественной войны 1812 г. и проходивший всецело под эгидой самодержавной власти; наконец, дворянский, открытый декабристами—провозвестниками революционных идей в России.








