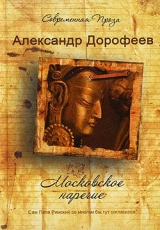
Текст книги "Московское наречие"
Автор книги: Александр Дорофеев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Четыреста сорок «У»
Тузу нравились железные пути. С них не собьешься. Сел, выпил-закусил и, глядишь, уже прибыл, куда намеревался. Раз и навсегда проложенная дорога укрепляет веру в избранность, в необходимость, как у наследственного самодержца, своей жизни. Дух на время утихает, а душа полнится осенней прозрачностью близкого и понятного мира.
Однако хочется порой дернуть стоп-кран или перевести тайком стрелку, чтобы очутиться на каком-нибудь глухом разъезде, где не сразу и представишь, как бы все устроилось, кабы здесь родился.
Когда они с профессором Лелековым, посланные в командировку, спешили к поезду, дядя Леня помог старушке внести чемодан, после чего кивнул на небо: «Ему там все видно. Раз, и поставил плюсик!»
Туза смутил такой деловой подход. Не умаляют ли слова сам поступок? Хотя, возможно, Лелеков нарочно занижал, не желая смущать его, не поспевшего с подмогой? Но тогда получается, что этот мелкий шаг настолько значим для самого профессора? Да, впрочем, как ни крути, молодец дядя Леня – чемодан в вагоне, и старушка не надорвалась.
«Вот у меня в небесах сплошные, наверное, минусы, – подумал Туз. – Впрочем, профессорский плюс на мой минус порождают движение». И заметил вслух: «А проводник тем временем равнодушно глядел вдоль состава». На что Лелеков возразил: «Ошибаешься, Тузок, наш советский проводник не может глядеть равнодушно. Смотри, как внимателен! Его дело билеты, а не чемоданы. У каждого в этом мире свое задание. К тому же наш, судя по величине, не более чем полупроводник»…
Сам профессор до жути напоминал пушистого и бровастого филина с круглыми рыжими глазами. Вырвавшись из гнезда, пребывал он в беззаботности, напевая в коридоре гимн страны, состоявший всего из одной буквы: «Уу – ууу – у – уу – ууу – у!» Звучало хорошо, но оглушительно, так что попутчики, в основном дамы, общались с помощью рук. Не сразу Туз сообразил, что с ними едут глухонемые. Им, кажется, нравилось пение, а может, они увидели в Лелекове птицу своего семейства, но, так или иначе, пригласили его жестом отметить начало доброго пути.
А Туз отправился в ресторан, где вскоре совершенно позабыл, куда едет и зачем. Командировки обыкновенно так и начинались – утратой смысла и суточных, два тридцать в день, утекавших в дороге так проворно, словно километровые столбики. Возвращался он, более шатаясь, нежели двигаясь вперед. Свой вагон едва узнал по полупроводнику, которому барышня неслыханной красы, помноженной, конечно, на выпитые Тузом рюмки, втолковывала нечто заплетавшимися руками.
«Ах, почему эта Му-му не профессор?» – сбивчиво подумал Туз и глазам не поверил, когда немая вскоре вошла в их купе, где на одной свободной полке ехали всякие полезные вещества вроде канистры спирта, а на другую она бросила сумку.
Тут же вернулся из гостей расслабленный долгими беседами Лелеков – руки плетьми висели. Втроем они беззвучно выпрямили сердца ректификатом, после чего профессор упорхнул вверх и засопел умиротворяюще, словно леший. За окном стемнело, купе отделилось от вселенной и стало бы совсем уютно, если б дядя Леня не падал во сне с полки. Уже сбились со счету, сколько раз по-сыновьему ласково запихивали обратно.
«У-у-у! Пу-у-у-у-стите! – загудел он наконец из последних сил, как паровоз на крутом подъеме. – У-у-у-сусь!» Вырвался в коридор и запропал.
Туз с Му-му разговорились на пальцах о погоде, и вдруг он увидел трехперстный образ, не связанный с синоптикой, но звавший явно, хоть и стыдливо, к иному сношению. Немедля притиснулся к ней на узкой полке, дивясь простоте и тишине случая. Раньше думал, что оргазм близок оргии с ором, а теперь понял, что звуки вовсе ни при чем, совсем лишние – такой это мгновенный всплеск и упадок всех органов, союз и сжатие. От Му-му остался лишь дефис, безгласные содрогания которого разделили время на короткие отрезки, вроде шпал, едва не столкнув поезд с рельсов, как показалось сметенному на пол Тузу.
Очнулся он на рассвете, разбуженный воплем проводника в коридоре: «Какая блядь сорвала стоп-кран!? Сейчас всех допрошу и расстреляю!» «Лучше бы за туалетами следил, – проворчал сверху дядя Леня. – Один закрыт, в другой без сапог не влезешь».
В купе мирно пахло жареной курицей, яйцами, огурцами, и милый девичий голос бойко рассказывал профессору о поездке по разнарядке в Москву на оперу Большого «Муму»: «О, так хорош Шохолов в роли Герасима, да и Вишнецкая – восхитительная сучка!»
«Почему же сучка?» – приоткрыл глаза Туз. «А разве в книжке была кобелем?» – удивилась немая.
«Вот так чудо! – обрадовался он. – Вернул красавице дар речи!» За что сразу выпил, не обозначив по скромности причину. «Не рано ли? – улыбнулась она, протягивая свой стаканчик. – Думала, ты тоже глухонемой». Спланировав за столик, Лелеков вздохнул: «Все немы меж собой, а к небу вовсе глухи, сударыня».
Ее звали, как выяснилось, Лара Граф, из немцев, сосланных когда-то поближе к арийской прародине, на станцию Арись.
После стоп-крана поезд так разогнался, что проскакивал часовые пояса без остановок, и время вело себя, как хотело, сжимаясь донельзя, – события теснились, выпихивая друг друга из прожитых минут. Только что родина-мать грозила мечом, но уже мелькнули Каспий, Арал, а вслед за низменностями подкатили плоскогорья, отроги и хребты.
На станции Арись, где сходила Лара Граф с остальными немцами, Туз долго выносил чемоданы, раздражая проводника, и без того всем недовольного. «Чаю не пьют, а что пьют – неведомо, – бурчал под нос. – Гуляют-гуляют, а где бутылки?» Хотелось утешить, да Лара остановила: «Глянь на него, вылитый Герасим, такой непременно утопит. – А на прощание огорошила. – Запомни, умелый выход не менее важен, чем хороший вход». И навсегда спрыгнула со ступеньки. «Счастливого пути! – помахал вслед флажком добрый полупроводник. – Не спотыкайтесь, шлюхи!»
Все сказанное как-то подкосило Туза. Он ощутил себя неуклюжим олухом, будто в метро на эскалаторе. Чтобы хоть как-то ободриться, поделился с профессором успехами в исцелении немоты. Но дядя Леня, сам того не желая, окончательно добил, сказав, что Ларочка переводчица глухонемых, а онемела временно, запив спирт спиртом.
Туз совсем поник, уставившись на ослепительно-унылые солончаки за окном, чувствуя себя незнамо кем – может, даже похотливой немецкой шлюхой. Вид его был крайне удрученным, и Лелеков попытался, как мог, развеселить: «Не печалься, Тузок. Через тысячу лет, говорят, разница полов исчезнет. Пользуйся, и пусть желания не угасают! Иначе взвесят тебя и увидят – слишком ты легок без либидо. Стоит ли такому жить на белом свете? Вообще, хочу сказать, все не так, как видится и слышится. Все иначе! Господь дал слова, но мы исказили их смысл, оболгали. Вот, к примеру, шлюха. Никакой в ней неметчины. Исконно-русского происхождения, от невинного шляния, в основе которого „слать“, то есть дарить и подносить. Короче, шлюха – жертвенное создание, вроде агнца»…
Тут он прервался, запутавшись, и сказал просто: «Выпьем-ка за половодье чувств!»
Спирт-ректификат не только сердца, но и мозги распрямлял. Мир сразу стал понятным, как стеклянный глобус, который профессор всегда брал в дорогу, вращая время от времени, чтобы живее ощущать движение в пространстве.
«У-уу-ууу, – напевал он, стуча крутыми яйцами по столу. – У, какая замечательная буква! Она и в сущности, и в суде, и в духе. Еще у древних греков обозначала все утопически хорошее. А наше “У” – не что иное, как пустившая корень латинская “V” – укоренившаяся на русской земле победа-victory!»
Туз полагал, что дядя Леня занимается историей древнего мира, но тот вдруг заявил: «Вообще-то я профессор в области отечественного “У”, которое особенно любопытно с подставкой “м”. Ах, какое темное у нас слово “ум”! Его цифровое значение – четыреста сорок»…
Ум Туза немедленно откликнулся на эту цифру, связав ее с материальным достатком. Вот бы сейчас четыреста сорок рублей! Или хотя бы трешник. Увы, все в этом мире кончается внезапно, улетучивается без следа. Не только деньги, но и буквы. Например, старинная «ять». Где она теперь? Тузу до слез стало жалко весь алфавит, затрепанный в хвост и гриву. И все вроде бы хорошо, да канистра заметно опустела. Особенно бросалось это в глаза, когда ее опрокидывали, – выглядела точь-в-точь утопической «У». Впрочем, хватило-таки до пункта назначения, который чуть не проспали. Проводник еле добудился, так что выскочили в последний миг, побросав из вагона восстановительные вещества.
Жаль было расставаться с зеленым составом, внутри которого прошла неделя жизни. На окнах уютно пошевеливались занавески. Поезд сонно дрогнул и сдвинулся. Выползли, тускло сверкая, рельсы. Тяжело вздохнув, потянулись и замерли, глядя вслед разогнавшимся колесам. Весь мир вздрогнул, отодвинулся, вновь став чужим и непонятным – уже ни за что поручиться невозможно.
На пустой платформе посреди тюков, ящиков и чемоданов остались кое-какие люди, хотя редкость, чтобы сюда сразу столько приехало, а именно профессор дядя Леня да Туз, глухонемые после долгой дороги и разборок со всевозможными «У».
Туз почитал станционные вывески «кассы-буфетювжд-кипяток» и двуязычное приветствие на голубом полотне «Хуш келибсиз! – Добро пожаловать!» Однако их никто не встречал, и само здание вокзала выглядело средневеково глухим – с высокими, узкими окнами, с башенками и шпилями, где сидели утренние вороны, особенно кучно на слове «Бесзмеин». Перелетая с буквы на букву, разбирали, казалось, как лингвисты, чего такое написано. Некоторые ныряли в окошко «Б», растворяясь в восходящем солнце.
«Похоже, нету этой точки на глобусе, – сказал Лелеков, осмотревшись. – Но хуш ни хуш, а надо устраиваться». И на попутной арбе, влекомой серым ишаком, покатили они к единственной в селении гостинице.
Вдали тягуче прогудел поезд – у-у-у-у! Только их здесь и не хватало до четырехсот сорока.
Бесзмеин
Подходящее название для азиатского городка – Бесзмеин. И змеи тут, и барана слышно, да и бесы выглядывают…
Тем ранним утром красное солнце лежало неподалеку в степи, будто в чашке весов. По обочинам дороги торчали розовые кусты тамариска, и вода в арыках розовела, настоянная на цветах. Женщины в красных платьях до пят тащили бидоны и ведра. На телеге с высокими бортами ворочался какой-то дикий, многорогий и многоухий лохматый шайтан – таращился по сторонам желтыми, как у дяди Лени, глазами. Мекал, бекал, блеял, и вдруг одна голова сиганула наземь. Шарахаясь меж бидонов, расплескивала молоко. Хозяин, распахнув халат, настиг, подхватил на руки, словно дитя, и запихнул обратно – к другим овцам, козам, баранам.
Все спешили на базар, а на улице было тихо. Только слышно отдельное: бе-е! гав! тпру! дзынь! Пробежала собака, запоздавшая на ночной прогулке. Что-то держала в зубах, и, оборачиваясь через плечо, вроде бы определяла по солнцу, сколько времени и нет ли погони.
А солнце поднималось на коротеньких покуда ножках. Уже, кажется, можно проползти под ним туда, где остались вчерашние день и ночь. Наконец подпрыгнуло, и пошел свет волной, гудя и захлестывая улицу. Ворвался на базар, где сразу шумно стало. Раскатывали по земле ковры и кошмы, и желтая пыль выплескивалась со змеиным шорохом.
Закричали торговцы, зазвенели жестянщики молотками и взревел трактор, сгребая в какую-то кучу какие-то камни.
Сняли деревянные ставни с окон лепешечного цеха и распахнули двери магазина «Товары повседневного спроса». Из тонкой черной трубы бани «Чистота» пополз едва заметной змейкой дым. Но и без того так жарко от расплывшегося по небу солнца, что непонятно, зачем баню топить. В куцых тенях деревьев ворковали голуби, а на горячую дорогу, быстро двигая, как заводные, коротенькими лапками выходили горлицы. «Ку-ку-ку-ку-ку-ку», – говорили вкрадчиво, точно сбившиеся со счета кукушки. Раскрывая хвост веером, вспархивали перед редкой машиной, и тела их словно бы крутились, подобно веретену, меж крыльев. За машиной вырастал холм пыли. Медленно оседал, пронизываемый солнцем. А от земли уже подымалось такое знойное марево, что все воспаряло. Посреди сухого фонтана вкруг пьедестала реял невысокий чей-то памятник в розовых трусах и с безответным на груди вопросом: «Кто тут потерял три рубля?» Чуть шевеля большими ногами, порхала черная верблюдица – обрывала листья с макушек деревьев и хрипло звала кого-то, раскрывая зеленый рот.
Арба остановилась у двухэтажной гостиницы, похожей на обувную коробку с окошками. Номер на втором этаже выглядел опрятно, но удушающе, и Туз сразу распахнул балконную дверь, едва не шагнув в пустоту, поскольку под ногой обнаружился лишь цветочный ящик с бледным корешком. Дядя Леня опустился в кресло. На подлокотнике прежний постоялец так внушительно вырезал «здесь лежала моя рука», что положить свою профессор не решился. Почесывая макушку, сказал: «Хорошо бы, Тузок, смахнуть дорожный прах. Приметил я чистилище по дороге»…
На улице ровным счетом никого не повстречали. Только ишаки жаловались на судьбу трубными голосами – со скрежетом, рыданием и безумными всхлипами.
«Куда все подевались? – недоумевал профессор. – Может, на базаре? Или, не приведи Господи, в бане?»
Но баня тоже была безлюдна. На каждом шкафчике – перевернутая шайка. Только отрок в белой майке и тюбетейке колесил на велосипеде по предбаннику меж квадратных колонн. Когда разделись, он замкнул дверцу, не слезая с велосипеда, и снова закружил на шуршащих шинах в серой полутьме.
«Шайтанское местечко, – заметил голый дядя Леня, ухая, как ощипанный филин. – Из горячего – холодная, а из холодного – шиш!»
Туз, впрочем, не столько мылся, считая себя и без того чистым, сколько глядел в незакрашенное банное окошко, откуда виделся ему манящий оазис – под огромными платанами мелькали тени прелестных дев. «Фата-моргана! – огорчил профессор. – Хоть год стремись, не доберешься. В чистилище, Тузок, одни миражи»…
Поплескавшись в шайке, он заметно ободрился. На обратном пути зашел в «Товары повседневного спроса» и купил огромную банку меда. Выпивал дядя Леня только в пути, а прибыв на место, становился трезвенником. «Вот что от миражей помогает! – кивнул на густой, полный солнца мед и задумался. – Интересно, равны ли три литра трем килограммам или тут какой-то подвох? Не силен я в мерах веса»…
Высоко в вечернем уже небе играли ласточки. Полет их был стремителен и вроде бы запутан, но сквозила в нем свободная стройность – в честь заходящего солнца. Ниже, в кронах деревьев, порхали неровно, как бабочки, летучие мыши. Казалось, одни кривые крылья носятся над землей, отсекая ветки и так обстригая сумерки, что мерещились светлые полоски. В мышином полете, родственном мерцанию лампочки ветреной ночью, угадывалось приближение тьмы египетской. Они быстро прогрызли в небе дырочки, из которых и потекла ночь.
Весь городишко собрался в приемном покое гостиницы у телевизора на тонких, как у ягненка, ножках. Стулья были заняты, на полу не хватало места, так что лежали и под самим телевизором, глядя в потолок на бледные тени. Старец в экране душил одной рукой хрупкую шею музыкального инструмента, лаская другой дынное его тулово. Прозрачный медовый напев путался с храпом кавказского розлива, а коридорная уже скатывала на ночь, чтобы не уперли, ковровую дорожку.
Созерцая Бесзмеин со второго этажа, Туз вдруг понял, что такое ум – взгляд сверху и сквозь всякие, вроде темной основы, преграды. В нем взлет над миром, удаление от суеты, погружение в Творца и память прежних жизней. Так захотелось выпить по случаю озарения, да только суточные, как ласточки, улетучились. Пора просить взаймы.
Дядя Леня тем временем, наевшись меду, двигал мебель по номеру, бормоча какую-то околесицу: «Езда-узда, положенная в уста». Услышав о деньгах, загудел протяжно: «У-у-у! Советую, Тузок, – похмелье снимает. У-у-у! Особенно полезно для командированных. А ведь все мы посланы сюда в краткую командировку, но не постигаем, какие щедрые суточные нам выданы. Это тебе не два тридцать на день, а весь мир, каждая живая частица! В самом слове “команда”, заметь, не только приказ, но обещание наследства. А в его корне “манда” – завет и клятва. Сообрази, кто нами командует?»
Заметив, что соображает Туз плохо, профессор воскликнул: «Ясно сказано, будьте птичками да не пекитесь о хлебе насущном! А мы жаждем мертвого богатства, не разумея истинного значения слова, которое прежде всего говорит о сближении с Богом».
Замороченный Туз невольно загудел, недоумевая про себя, о каком богатстве толкует дядя Леня, когда всего лишь трешку у него попросил. Похоже, развезло его от меда. Так бывает с людьми, долго пившими чистый спирт. Хотя, возможно, пчелы повеселились на поле индийской конопли. И такое бывает.
Подобно филину, залетевшему невзначай в номер, Лелеков хлопал медовыми глазами: «Ох, Тузок, скверно у нас лингвистика развита! Бормочем, не понимая смысла. А ведь все сказанное становится сущностью этого мира. Недаром „лингва“ на латыни – язык, а в индуизме „линга“ – знак пола, каменный столб в виде члена. Еще три тысячи лет назад индийский грамотей Яска выделил четыре класса слов – имя, предлог, глагол и частицу. И с тех пор мало что изменилось. Добавили было член, а потом из ложного средневекового целомудрия заменили междометием. Вот мы и мучаемся, не осознавая себя главными членами божественного предложения. Все метим куда-то между»…
Уже опустилась на Бесзмеин тьма египетская, а дядя Леня никак не мог угомониться. Мельтешась по комнате, как летучая мышь, менял местами вещи. Не раз передвинул оба стула, кресло, шкаф и стол, приговаривая: «Все легчает в этом мире! Раньше-то гардероб не своротишь. На одном столе вся семья спала. А койки с панцирной сеткой? Танки! Если без колес, и втроем не одолеть – на века созидали. Ныне же все товары “повседневного спроса”, чтобы каждый день в магазин за новым. Похабный мир потребления, Тузок, пожирающий сам себя!»
Он взялся за кровать, намереваясь подтащить к окну, но только крякнул: «Вкушая вкусих мало меду, и се аз умираю». Легкая с виду лежанка оказалась неподъемной. И вдвоем не осилили – насмерть стояла. Ползая на корточках, Туз проверял, не прибита ли к полу. А профессор, разворошив постель, ощупывал матрац, как хирург больного: «Необъяснимое явление – кровать с безменом. Погляди, тут и циферки в ногах»…
И правда, в подножии матраца находилось окошечко, в котором маячила зыбкая арабская пустота – нули. Дядя Леня присел, и они задрожали, сменившись положительным числом четыре. Лег – выскочило ровно полпуда.
Туз осмотрел свою кровать и тоже отрыл окошко, известившее, что он втрое тяжелее профессора. Они долго взвешивались, меняясь кроватями, – стоя, сидя, ничком и навзничь.
«Что за птичий вес?! – недоумевал Лелеков. – Может, это не количественный, а качественный показатель?» Он уже лежал в постели, но то и дело подскакивал поглядеть на цифры, и матрац каждый раз вздыхал, выговаривая странное слово – пу-ру-ша.
И тут Туза вновь осенило: «Уж не устройство ли это Ра для измерения духовности!?»
«Так что же оно показывает, в каких единицах? – насторожился дядя Леня. – В амперах что ли?»
«Думаю, в градусах, – сказал Туз. – Недаром же говорят – крепость духа!»
Профессор встал и прошелся по комнате: «Выходит, твой крепче моего? Скорее всего, это в литрах или килограммах. Тогда твой тяжел, отягощен бытием, а мой – воспаряющий. В легкости свобода, а в тяжести ничего, кроме земного притяжения». И подпрыгнул, показывая, как легок.
«Сам чую бремя, – согласился Туз. – Так давит, что жить трудно и выпить хочется. Но как же в Библии сказано – мол, взвешен и признан слишком легким?»
Лелеков помрачнел, не находя ответа. Выключил свет, но долго еще ворочался, скрипя безменом. «Зачем Господу обвешивать грешных? – ворчал он. – Ему и так все ясно. Бесовская затея – весы. И куда мы угодили? Ах, и так полное бесправие, да еще тайком, без спросу вешают»…
Тупик времени
Всю ночь в тяжелом сне тщился Туз вспомнить, не он ли потерял три рубля у сухого фонтана селения Бесзмеин. Конечно, весь мир в наследство, но пока его получишь, хотелось бы иметь и простые суточные.
Едва окончилось двуединое согласие тихого рассвета и закричали уже птицы, верблюды, ишаки, как раздался стук в дверь комнаты. Известно, только беса помяни, немедля, в отличие от добрых духов, явится. А тут спозаранок привалило сразу два – в черных костюмах, шляпах и галстуках, а под воротниками носовые платки, оберегавшие крахмальную белизну рубашек от распаренных шей. Вылитые шайтаны.
«Хоп! – хлопнул себя по лбу первый. – Нашли наших!»
А второй защелкал языком, как начинающий соловей: «Получился, товарищи, ошибка! Здесь Бесзмеин Один, а вам в другой, в Тиринацатый, там копают раскопки»…
«Ну вот, как знал, что не туда попали, – распыхтелся слегка пожелтевший с вечера дядя Леня, тоже надевая костюм с галстуком. – Полупроводник-шлюха нарочно на полпути вытолкал»…
Первого шайтана звали Совхоз-баш, и с этим все было ясно, а второго – Завкли-баш.
«Зав, простите, какого клибаш?» – не понял профессор. Шайтаны переглянулись, но растолковали мягко, что не надо расчленять имя, означающее во всей его полноте Восхищенную голову.
«От слова “хитить”, понимаешь! – подмигнул Завкли и спросил: – Как спался новый мест?»
Лелеков сразу наябедничал на койки-безмены. Нахмурившись, шайтаны принялись их осматривать. Завкли даже прилег и внезапно заснул, упоенно всхрапывая.
«Устаем очень! – хлопнул его по лбу Совхоз. – А этот лежанка мне знакомый. Биракованный! Списан из санатории, где худеют, когда спят, большой начальник».
На улице стоял сияющий черный автомобиль, выглядевший так, будто и он при галстуке да в шляпе. Неловко было запихивать в него потрепанные чемоданы, тюки и ящики.
В пути шайтаны болтали без умолку, то прищелкивая соловьями, то булькая лягушками. Выяснилось, что голова Совхоза управляет всеми местными полями – хлопковыми, луковыми и арбузными, не исключая конопляных. А восхищенная Завкли заведовала все же здешним коммунальным хозяйством, куда относились фонтаны, мавзолеи, сквер культуры и прочие памятники старины, включая древнее поселение Мера, где раскапывали сейчас буддийский монастырь и куда, собственно, профессор с Тузом направлялись.
Но главная голова, директор Башкарма, правивший секретным, но известным всей стране Комбинатом бытовых услуг для высоких гостей, поджидал их в городе Бесзмеин, 13, закрытом вообще-то от посторонних из-за близости к границе.
«О, Башкарма не просто голова! – восторженно кивал Завкли. – Головища!»
По дороге в голой распростертой степи виднелись тут и там разновеликие врата, ровным счетом никуда не ведущие.
«Это бабы, – сказал Совхоз, – через них простой человек могут слышать волю Творца». «Вот прямо сейчас подойду и услышу?» – заинтересовался Туз. «Э! Ты-вы-ваш, – никак не мог определиться Совхоз с местоимением. – Совсем не простой человек!»
Вскоре остановились у мавзолея, покрытого небесной глазурью и вязаными, как узелковое письмо, арабскими буквами. «Тут у нас лежит Туман-ака, жена Тамерлана, – вздохнул Завкли так, будто самолично схоронил и по сию пору горюет. – Обязательно поклониться праху»…
Пока дядя Леня кланялся, изучая настенные росписи, Туз приметил горлицу, сидевшую на гнезде в пустом оконном проеме. Песчано-розовая, с длинным узким хвостом, что распахивается в полете округлым веером с белой каймой, она тревожилась, вертела головой, следя за всеми карими глазами. Ах, как хороша, нежна и туманна, точно горянка в горнице, эта горлица, аве Туман-ака! Туз позавидовал топтавшему ее хромому Тимуру, не зная толком, как его обозвать, – может, горл? «Не в том вопрос, кто был первее – яйцо или птица, а в том, кто умудрился эту птицу так трахнуть, что снесла целую вселенную, – размышлял остаток пути. – Вот уж поистине двойственно-космогоническая задача»…
В Бесзмеине, 13, их поселили в такой же точно гостинице, как в первом, но уже без весов, и повезли на свидание с Башкармой. «Головища» его не бросалась в глаза, хоронясь за совокупной обширностью, коей он живо напоминал архонта Ра. Вообще в нем сочеталось много чего, казалось бы, несовместного, и повелевал он явно не только Комбинатом. Но именно с него решил начать объезд владений.
В центре городка за глухой стеной располагалась санатория, возведенная здесь еще по указу последнего императора российского для лечения внутренних органов. В старинном парке там и сям виднелись нарядные, под цвет флагов всех союзных республик, раскладушки, прикованные цепями с амбарными замками к стволам чинар.
«Такое дело, наши гости на память хитили, – пояснил Башкарма. – Теперь у каждого свой ключ и место имения. Лежат, едят арбузы, потеют, а органы отдыхают».
«Ух, как устали мои. Хотелось бы перевести дух», – томно молвил профессор, изучая раскладушки. В их изголовьях откидывались молотообразные столики, а в средней части свисали серпы для кромсания бахчевых.
А Башкарма уже повлек в глубины парка. «Наш сартарошлик!» – указал на слепленный из глины с соломой домик в виде башки, словно умолявшей о бритье и стрижке. Через разинутый рот они угодили в нежданно большой зеркальный зал, где из стен торчало множество агрегатов – колпаки и шлемы, раструбы и шланги, электрощетки, бритвы и вовсе загадочные устройства, вроде пыточных, но тут же почерком прекрасным до предела, прямыми, вогнутыми и округлыми буквами, излагалось их назначение.
«Все машинально, по нынешним правилам моды, – рассказывал Башкарма, жуя какую-то зеленую жвачку и властно поплевывая в урну. – Девять причесок – от полубокса до полечки! Массаж и повсеместное обстригание ногтей. Для низкорослых скамеечки и стремянки. Бывают проблемы, если голова не стандарт. Но чтобы лишнего не срезало, Утуг замеряет черепа», – кивнул на человека в строгом костюме, подпоясанном кушаком с индийскими огурцами. Он скромно стоял в уголке под красочным призывом «Пользуйтесь услугами мандибулометра и парового утюга».
«Ты бы, Тузок, не дышал на них перегаром, – шепнул вдруг дядя Леня. – И не мешало бы тебе подстричься из уважения. Восточные люди, сам знаешь, любят церемонии»…
Башкарма и впрямь давно уже вожделенно как-то поглядывал на лохмато-бородатого Туза и наконец дружески потрепал по затылку: «Хорошая голова, круглая, можно без мандибулометра». «Сильно хороший!» – согласился Совхоз, и Завкли поддержал: «Кируглый, кируглый!»
Завороженный зеркалами и приборами, Туз безропотно сунулся в металлический колпак и нажал кнопку «самсон», спутав с популярным тогда «сасоном». Под мерное жужжание даже вздремнул, а очнувшись, зажмурился от ослепительной наготы – разве что брови кое-где остались…
«Ах, не лицо, а спелый дыня!» – восхитился Завкли, глядя слева, и вдруг осекся, различив в Тузе черты отпрыска какого-то большого начальника. Справа Совхоз, охнув, принял его за внука очень крупного кунака, а спереди Башкарма узнал правнука великого и склонил почтительно головищу. Они, похоже, давно прикидывали на внутренних своих весах, на сколько тянут профессор с Тузом. И вот решили, что тяжелые и солидные…
«Теперь отдохнуть, покушать!» – ударил Башкарма ладонью о ладонь, выбив искру. Поминая «пикник-микник», живо распорядился, и прибыла колонна машин, включая грузовую, сразу устремившаяся на тенистый берег реки Мурхат, где бесконечно выгружали из кузова мертвую снедь и живых баранов, опускали в прохладные воды ящики с разноцветным вином и боржоми, хоть не запретным, но редким уже и в те времена.
Обессиленный иудейской стрижкой Туз плохо запомнил пикник – разве что бесконечное ныряние за водкой. Обнаружил себя с бараньей костью в зубах, когда огромное колесо обозрения в сквере культуры поднимало, скрипя, над окрестностями. Рядом сидел трезвый дядя Леня – вялый, точно мятый помидор, все более час от часу желтевший. «Не пора ли на раскопки, – ныл он. – Время-то уходит». «Поверь, здесь не уходит, – успокаивал Башкарма. – Мы в тупике времени! Старое стоит, и новое, приходя, останавливается. Какое хочешь, такое и бери, как на базаре, – хоть коммунизм, хоть феодализм!»
Действительно, чем выше возносило колесо, тем больше открывалось времен, стоящих плотно, будто забытые паровозы в глухом тупике. В стороне Персии, отделенной ныне колючей проволокой, виднелся трехглавый холм, в пещерах которого жили на заре эры буддийские монахи. Чуть ближе угадывались останки разрушенного монголами восемьсот лет назад Мера – зеленая трава на месте улиц и желтая, как профессор, там, где стояли некогда дома. А среди хлопковых и луковых полей мерещились очертания великой Кушанской империи, не менее могучей прежде, чем современная ей Римская.
«О, сколько же человеческих страстей знали эти земли!» – высокопарно задумался влекомый к низу Туз, но отвлек Башкарма: «Хочу сказать, как близкому другу, те кровати в гостинице, хоть и списаны из моей санатории, но не бракованные. Просто гостям не нравилось, что показывали низкий уровень желаний. Понимаешь? – поднял он кулачище. – Для государственных мужей очень важен крепкий любидо!»
Уже сказанное неловко произносить на новый лад, нарочно вроде бы исправляя, и Туз, спустившись на землю, повторил, как слышал: «Любидо!? Не знаю, крепок ли сейчас мое-моя-мой»…
Немедленно шайтаны засуетились вокруг: «Хоп-хоп! Ходим завтра на проверку в тайный рай!»
«На рай-то, пожалуй, у меня денег нету», – притворно сник Туз, помышляя в душе о халявном ресторане.
«Тэньги-мэньги, анал-манал!» – вскричал Совхоз, а Завкли так удивился, будто впервые о них услыхал: «Какие тэньги, зачем?!»
«За все держава платит», – подытожил Башкарма.
Ночью вдруг выпал, что в этих местах случается весной, мокрый снег, подравнявший улицы, дома и цветущие деревья. Утренние вороны ходили по грудь в снегу – казалось, плывут, как утки, погружая изредка головы, словно надеясь выудить рыбку. На черные тяжелые клювы налипали белые комья.
Дядя Леня хандрил, лежа в кровати, становясь все медовей, и даже любимое «У» ему не помогало. «Куда тебя тянет, Тузок? На какую еще халяву? В какой потайной рай? – слабо вопрошал, едва ли не бредя. – Все халявное непотребно, а тайное сродни воровскому. Вижу тут шайтанский шахер-махер – кругом разбойники и дельцы. О, я увядаю, как индийский огурец»… Туз предложил почистить чакры водкой, но профессор вздохнул: «Ну да, чакры. Их метали древние индусы. А мне эти колеса ни к чему». И признался, что хочет домой, скучает по жене и детям.
А Тузу не по кому было скучать. Хоть и вспоминал Иуду, оставляя занемогшего Лелекова, но поехал-таки с шайтанами. Вообще как-то распоясался, ощущая себя с ними и вправду чьим-то сынком, генеральским по меньшей мере.








