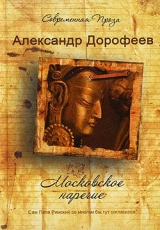
Текст книги "Московское наречие"
Автор книги: Александр Дорофеев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Пустое откровение
Тем вечером Туз впервые внимательно разглядывал череп, ощущая в руках пустоту его веса и слушая пески, шумевшие вокруг, как море. Ни с того ни с сего возникло желание покаяться. Иногда человек захвачен внешними событиями, а порой, не внимая окружающему, целиком погружен в себя – такое обычно бывает в глубоком детстве и поздней старости, то есть во время разрыва или восстановления связей с иным миром. Но с Тузом случилось, когда прошел земную жизнь до половины. Захотелось умертвить плоть, спастись, побив камнями цепкого, как репей, сатану, не оставлявшего все эти годы.
Внутри и вокруг лежала глухая местность, заросшая саксаулом и верблюжьей колючкой. Но где-то под барханами, курганами и прочими наносами наверняка упрятаны клады и культурные ценности. Туз верил, что если и откроется ему какая-то истина, то непременно здесь, в пустыне, где явственно ощущалась ненасытная утроба времени. Одна Господняя минута – бездна, то есть триста шестьдесят миллионов лет. А сутки – больше восьми миллиардов. Когда минует половина этого срока, называемого кальпой, кончается Господний день и наступает ночь, в которой мироздание гибнет, чтобы возродиться в новом порядке. Вот чего хотелось Тузу! Именно что – возродиться новым…
Глядя на прельстительных девушек из числа натурщиц, он вдруг осознал, насколько странны тела человеческие. Вроде бы совершенны, но в тоже время ужасны – сплошные отростки и прорези. Ах, куда приятнее быть чистым шаром, сферой или хотя бы квадратом, на худой конец. Но вот уж предопределенность бытия – живи каким создан! Где тут свобода выбора?
Вообще Туз не был склонен задумываться вообще. Если и размышлял подчас, то о текущем дне жизни, не углубляясь в истоки и смысл. Но теперь в мозгу окрепла какая-то мышца, вызывая желание почесать макушку и мыслить вертикально о вещах отвлеченных, не имеющих прямой связи с женским началом, – над бытием слова, например.
Вот «отшельник». Хоть и связан с решительным уходом, да как-то задом наперед, поскольку напоминает о раке. В «анахорете» слышатся Хорезм и архонт, а также охота обернуть вспять утекающее время. Всех больше устраивал «пустынник», слегка шипящий, как змея, в неровно-мерцающем припесочном воздухе, но совмещавший путь и путы, которые надлежало скинуть…
Солнце так пекло, разлившись кругом, что, казалось, быть не может никаких темных оснований. Однако они торчали из-под каждого кустика и бугорка, напоминая о зле времени. И Господь представлялся хрустальной пирамидой, роняющей густую тень на землю. Туз шел по дорожкам, указанным, как надеялся, свыше, глядя неотрывно в небо, где замечал, в конце концов, дверцы и окна, истекавшие словами – мол, Создатель растворен в людях и развивается вместе с ними. Все мы по большому счету ходячие яйца, в которых вызревает Его дух. Он вылупляется со смертью плоти, когда земное время изжито, и улетает творить в иные сферы…
«Ты поосторожней в пустыне! – остерегал Ра. – Не говоря уж о Коле-ноже, можешь угодить в пески-людоеды. Слопают, а косточки через месяц выплюнут. Бывали случаи. Говорил же тебе – разлом земной коры! Тут мать-земля ведет себя угрожающе. К тому же полно ядовитых тварей – сколопендр, василисков, скорпионов, пауков, змей»…
Из тучных уст архонта «змей» выполз, как «смей». Возможно, именно так, указуя раздвоенным языком на древо познания, убеждал сатана Еву: – «Смей!»
В этом слове слышалось все, присущее темному основанию, – и воля, и норов, и желание, и гнев. Толстый этот змей, похожий на щитомордника, долго преследовал Туза, нашептывая неведомо чего. Да вообще отовсюду, изо всех щелей повылазили вдруг змеи и ползли следом, стараясь спрятаться в его тени.
В плоской пустыне сложно мыслить вертикально. Притягивает горизонт. Туз искал какую-нибудь возвышенность и вскоре увидел холм. Несомненно, никто еще не восходил на него. Туз первым коснулся девственных склонов, карабкаясь, будто на Синайскую гору, с надеждой на откровение.
Уже солнце лежало ниже подошв, когда взору открылось знамение. Точнее – кровавое знамя. Но даже и не знамя, с коим еще возможно смириться…
В кумачовой рубахе, снявши башмаки, сидел на плоской вершине Коля-нож, грызя какой-то молот. Ясно, что сон разума рождает чудовищ, но и безмерная его бойкость может вызвать еще тот ужас. Смутился и обомлел Туз, разглядев к тому же, что Коля глодал не молот, а чью-то кость, вроде берцовой. «Смерть на высоте», – вспомнил предсказание.
«Ты чего, не рад, кум? – привстал Коля. – Морда тоскливая, как у скопца. Как погляжу на тебя, верно говорят – башмак голове родня. Похоже, с жиру бесишься, в себе закопался? Ты в себе не слишком-то копайся. Не к добру». И сунул для острастки шиш под нос.
Они посидели молча, и Коля сказал: «Отсюда, кум, все видать – сайгаков выслеживаю, и старые захоронки, вроде кладов, приметны. Да вот вчера явился под вечер какой-то хер с дюжиной крыл, а все тело глазами моргает. Кто бы мог быть, как думаешь?»
«Филин», – вяло предположил Туз.
«Какой, стобля, когда из-под крыльев руки торчат! – рассердился Коля. – К тому же говорящий хер. Рассказал, что после бомбы в Хиросиме старый мир кончился. А мы, получается, живем в новом, без правил и законов. Не разобрать – то ли око за око, то ли зуб за зуб. А раньше, говорит, строили города для невинных убийц. Ладно, кум, дуй засветло, а то заплутаешь!»
Подниматься якобы легче, чем спускаться. А Тузу всегда было проще – вниз. Небо уже выгнулось сумерками, как лук тетивой, и худо было у него на душе – какие-то квадратные потемки. Вдоль и поперек перекопал внутреннюю сторонку, а ничего, кроме обглоданных костей посреди кладбища школьных знаний, не обнаружил – даже никакой кибитки с каменной богиней плодородия. По дороге к лагерю вспоминал отшельника Антония, искушаемого в египетской пустыне такими образами, которые словам не подвластны, вроде того, что явился пророку Иезекиилю. Вот чего алкал, да не сподобился! Вместо откровения тяжелый первобытный шиш.
Похоже, что Господь единый, создавая мир, даже не раздвоился от усилий, но расчленился на уймищу мелких духов, а из темного основания выделились злые. Конечно, Он собирается воедино, но дело туго идет, поскольку лютые духи жаждут независимости. И впрямь, они свободно витали вокруг. Подобно летучим мышам, выпархивали из каких-то потайных пещерок, будто обрубки бесчеловечного времени, которое всегда норовит прыгнуть внезапно, как из засады. Когда оно тут, можно его ощутить и даже измерить, словно некую больную протяженность, вроде температуры или давления. Когда ускакало, никакой с ним связи, кроме душевной, потому что душа уже навсегда им заражена.
Эти духи дразнили Туза, как белку, измученную колесом: «Тя, тя, тя! В умеренности, кум, одна покорность. Конечно, она обещает долгие лета и счастье почить в покое. Но этого ли ждет от нас Господь? Уж если тебе подарен букет чувств и возможностей, стоит ли засушивать его, превращая в гербарий?»
«Ах, без любви ни зги не видно, ни единой тропы во мраке», – соглашался Туз, оскальзываясь в арыки. И вдруг так тряхануло, что мироздание едва устояло! Когда землетрясение в пустыне, то сверху, к счастью, ничего не обрушится, зато есть вероятность самому ухнуть в разверзшуюся пропасть. А Туз чуть не свалился на некое воздушное, подобное херувиму создание. Укрыв голову, как крылом, платьем, оно сидело, писая во время подземного толчка на верблюжью колючку.
Мими
Это была только что приехавшая девушка-сейсмолог, облюбованная и вызванная архонтом Ра из Литвы для платонических отношений.
«Мими», – привычно-безнадежно поправляла она, перенося ударение на первый слог. Сразу очаровала, выдавливая пасту из тюбика не на щетку, как большинство чистящих зубы смертных, а прямо в рот, невероятно аппетитно. И постоянно улыбалась, даже когда просто писала в пустыне.
«Сплошные мощи! – нежно кивал в ее сторону Ра. – А мне-то как раз интересен духовный аппарат человека»…
Туза тоже влекло к мощам Мими, как к чудотворным, – поклоняться и припадать. Его покорил этот западно-протестантский, вероятно, взгляд на себя, когда ровным счетом ничего значительного не имелось – все чуть плоское, кривоватое и заниженное, – кроме самооценки, порождавшей такое достоинство, что несомая с любовью совокупность производила сильно впечатление. Случилось какое-то тектоническое смещение оценок – манила не стать, а нечто трудно определимое, подобное мимолетному состоянию природы.
«Есть у нее колокольчик для улавливания душ, как у великого китайского божества времени Тай-Суя», – говорил Ра.
Мими и сама напоминала маленький, беззвучно призывавший колокол. Много чего хотелось бы с нею – поднести жертву, оберегать от всего на свете, как одинокую букву, не связанную с другими в ясное слово. Ступала она по земле так, будто прислушивалась каждый миг к дыханию всей планеты. В зацветающей пустыне среди верблюжьей колючки и солянки все время исчезала, словно камешек соли в арыке. Хоть и была литовкой, но какого-то кошачье-египетского облика, чем, вероятно, и пленила Ра. Туз никак не мог припомнить, что означает, помимо родовой принадлежности, «литовка». Угадывалось сходство с растением, выросшим на скале, с листом папоротника, впечатанным в камень времен карбона, даже с самой земной корой. И каменная баба приходила на ум, а точнее – растворимая соляная кукла.
«Она вылитая Рагана, – нашептывал Витас. – Вредоносное существо, из тех оборотней, что превращаются хоть в кошку, хоть в щуку. Имя ей Подражание, и вьет она, снуя поспешно, петлистые веревки из песка. Поверь, она летает, где хочет, не тонет в огне и не горит в воде. К тому же сожительствует с чертом, а в нашем случае – с архонтом Ра. Он играет с ней в ножички и секретики»…
Но дружеские предупреждения не остерегли Туза. Женский пол Мими настолько загадочно усугублялся земным, что притягивал физически-неотвратимо, как всемирная бесовская гравитация.
Надеясь обрести покой, Туз рисовал карандашом пустыню. Занятие почти безумное, но умиротворявшее, кабы не пришел Ра с «Чашмой» под мышкой: «Смахивает на певобытное искусство, – кивнул на рисунок. – Но что-то ябит в глазах. Дико ябит!» И, возбудив Туза напитком и словом, удалился, сожалея о пониженной духовности.
Когда страница альбома плотно усеялась закорючками кустов и взбугрений, бесшумно подлетела Мими. «Забавно! Тут и Чюрленис, и арамейское письмо, – одобрила, указывая в уголок. – Гляди-ка, под этим холмиком я сижу, почти незаметная. А небо, пожалуй, не трогай, и так уже в глазах, знаешь», – замялась она. «Ябит», – согласился Туз и быстро начертал над пустыней «Мими», с мощным, как гром, ударением на первом слоге. Получилась какая-то фата-моргана космодрома, придавшая картинке болезненность земного одиночества. «Ну да! Вот так! В общем, ты уловил здешнюю геопатогенность», – коснулась Мими его плеча.
Давно известно – если долго отказываться и отвыкать, бросая, например, курево, то после временного успеха все наваливается с удесятеренной силой и вместо обычных пяти сигарет не хватает и двух пачек. Все псу под хвост! Насильственно-разделительное «от» быстро сдается предлогам, связывающим воедино. Само слово «предлог» наполнено знаменательными смыслами, включая замыслы, умыслы и намерения, которые были, конечно, у Туза, затеявшего рисовать пустыню с надеждой, что подойдет-таки Мими из любопытства.
«Хочешь, расскажу тебе о древнем Хорезме? – предложил он. – Ближе к ночи»…
Поздним вечером, когда лагерь утихомирился, они гуляли по хорезмийским развалинам среди оплывших стен. «Государство возникло на этих землях в седьмом веке до нашей эры, – говорил Туз, следя, как бы Мими не упала в канаву или арык, и не особенно вдумывался, смешивая в кучу арабов, монголов, улус Джучи, ханство и „ханэсэр“. „Что это? – спросила Мими, тронутая словом. – Хан и эсер в одном лице?“ „Можно и так, но если подробней, то Хорезмийская народная советская республика, – перевел он. – Возникла тут в двадцатом году. Предполагал ли такое Будда, ступая по этим пескам?“ И повлек Мими на глинобитную ступу, подобную растекшемуся от немоты колоколу.
Долго они сидели, глядя в даль, где не было ни единого огонька, но мельтешили отверженные тени. Перебирая в душе двенадцать струн кифары, он напевал про святых, марширующих строем в рай. Немало, наверное, прошагало их здесь в сторону Эдема, как, впрочем, и других, избравших иной путь.
«Я вижу Божественный промысел уже в том, как ловко крутится Земля вокруг оси и Солнца, – сказала Мими словно бы сама себе, подняв лицо к звездному небу. – Зима сменяется весной, лето осенью. Знаешь ли, ночью мы летим во вселенной быстрей, чем днем?» – повернулась к Тузу. «В чем тут фокус? – смутился он. – Или это намек, что даром теряю время?»
И в этот напряженный миг затмил вдруг звезды, опрокидываясь за голову, безмолвный переливчатый свет, точно распахнулся над ними позолоченный зонтик. Темных оснований в помине не осталось, будто раскололся небесный череп – треснул легко, как яичная скорлупа. Собравшись в пучок, лучи воспылали ярким очагом, и наконец все сущее запело на разные голоса.
То ли стремясь защитить Мими, то ли пользуясь случаем, Туз подмял ее, прикрывая. Некоторое время лежали тихо, настолько, что он напугался, не раздавил ли. Но внезапно ощутил, как силовые космические нити, искажая, словно на его картинке, пространство, опутали их. Планета набирала ход, и звезды замелькали. Зенит над горизонтом и надир под ним слились в звенящую и зовущую комариную точку.
Распалась молния на штанах Мими, и посреди иссохшей пустыни Туз угодил в некое средоточие, в наполненный магматической влагой родник, – такой живой, что хотелось бесконечно пребывать в этом источнике всего, внимая колокольчикам, чуть тенькавшим в большом небесном кругу. Вновь, как в Парке культуры, ощутил дрожь и трепетание земной оси. Более того – разлом коры, о котором толковал Ра. Поистине под ним была геологически активная зона. Мими содрогнулась изгибно-колебательно – на дюжину баллов по шкале Рихтера. Ускользая, как слабый оттиск папоротника, сливаясь с землей, сжато вскрикнула: «Мез-з-о-з-з-ой!» А потом сказала со вздохом, словно расчертила на века глиняную табличку клинописью: «Ты попрал мою архегонию во время запуска космического зонда»…
Пока Туз провожал ее до палатки, она мурлыкала на ухо, как кошка, приручить которую невозможно: «Что есть любовь? Ее происхожденье от любого. То есть любой, кто возбуждает страсть и желание, может быть возлюбленным. Тот, который при свободе выбора нравится чуть больше прочих»…
На другой день он смотрел, как Мими, подобно голой щуке, плещется в укрытом камышами арыке, смывая вчерашнюю ночь, – вокруг нее лепетала и зацветала, как от хламидомонад, вода. Туз размечтался об арычной любви, о нежно бормочущих дождях и шепчущем снеге, когда из своей палатки вышел Ра с перебинтованной головой и початой бутылкой «Чашмы». «Что-то хеакнулось в ночи с небес. Навеное, ступень акеты. Все хенов космодом», – бормотал он.
Заметив Туза, совсем утратил ясность произношения: «Дуак! Иуда! Катись отсюда, пока жив-здоов! – и перешел на потусторонний некроязык, звучавший как ведовское заклятие: – Ауя уя ауя!»
Возразить тут было нечего, и Туз понуро отправился собираться, раздумывая, откуда архонт узнал. Пустынные все слухи. Они уведомили об этой драме и Колю-ножа, который явился в обнимку с огромным, на голову выше его, кувшином: «Вот, кум, сам Македонский нукусовку из него хлестал! Бери на добрую обо мне память. Да поберегся бы ты, кум, платонических отношений – опасно в коллективе»…
Мими опять растворилась где-то, а Витас сказал на прощание, подсаживая в грузовик: «Говорил тебе – не ищи истину в подоле. В каждой деве, поверь, кроется жадное дитя, желающее впиявиться в твою грудь. Подумай в пути, не создал ли уже Господь такой камень, который сам не в силах унести?»
Так Туз очутился в каракалпакском селении Ильич, где следовало дождаться самолета, вылетавшего будто бы раз в неделю, но сразу до столицы.
Остановился в странноприимном доме и спал одиноко во дворе на раскладушке. Вспоминал Мими и укорял себя за Иудину глупость. Глядя на деревянную решетку над головой, заплетенную побегами винограда, чувствовал, что изгнан за дело из пустынного рая. В виноградной листве голубело небо, а ночью запутывались звезды. Кричали навзрыд ишаки. Взлаивала собака в соседнем дворе, ей отвечала другая, что-то вставляла третья. Конечно, только ночью и можно поговорить. Днем на улицах жарко, шумно – скучно сидеть на цепи. Совсем уже издалека, из межпустынья, где лежала в шатровой палатке Мими, тихий ветерок приносил потявкиванье шакалов и, чудилось, ее улыбку.
Как-то само собой начало складываться что-то звонкое, сродни грациозной газели Захириддина: «Под лозою виноградной, под высоким южным небом»… Но только замыслил другую строчку, как умолкли собаки, нюхая шакалий ветерок, и он принюхался, засыпая. Пахло луком в мешках у стены под навесом, пахло дневной пылью, и уже казалось, что пахнет рассветом, который вот-вот появится об руку с Мими прямо из кувшина Македонского.
Неожиданно приехала она под вечер другого дня на том же грузовике, доставлявшем продукты в лагерь. Держась за руки, они долго гуляли в саду под тутовыми деревьями, будто поджидали запуск космического зонда. «Ну, давай уже, – сказала Мими, улегшись куда ни попадя в темноту, лишь поелозив попкой, сметая ветки и камешки. – Не будем уповать на судороги рефаимов вроде Голиафа»…
Настолько глух был сад ночной, что Туз, действуя на ощупь, замешкался. Мими сама, как черная дыра, поглотила разом всю близкую к ней материю. Каменные шарики тохарского талисмана на его груди обрели движение, разъясняя, в чем фокус резвости ночного полета, – поступательная скорость совокупляется с вращением Земли вокруг оси против часовой стрелки. Не сразу это дошло, а только когда Мими остановилась и выдохнула «Лиапсе!», прозвучавшее так просто, будто доела овсяную кашу. Ах, все, с нетерпением ожидаемое, кончается, как летняя ночь, как запуск зонда в космос, – неоправданно быстро, на обратный счет от десяти до единицы…
На рассвете Туз шептал ей на ухо: «восходит с лица твоего сияющий солнца лик, а со щек румянец зари блестит», – но она прервала, указав на македонский кувшин: «Тебе вряд ли нужен этот горшок. Ра просил привезти»… Скоро оделась и пошла к грузовику, едва ли оглянувшись, подобно богине легких облаков с кувшином грома за спиной, оставив лишь Тузу на память нечто, неотмываемое в арыке.
В тот же день выяснилось, что самолеты из Ильича никуда не летают, поскольку и аэропорта вовсе нет, а с космодрома вряд ли отправят, или уж совсем не туда. Пришлось садиться на поезд, помчавшийся в ночи с удвоенной прытью. Сидя у окна, Туз всматривался в свое лицо, скакавшее по холмам пустыни и внезапно терявшееся в их темном основании. Припомнил начатую газель, надеясь заснуть, да не смог. С верхней полки все склонялась виноградная лоза, а сквозь потолок виднелись звезды – целый Млечный путь.
Он не завидовал славе, красоте, деньгам. Только избранности. А теперь еще неосязаемому достоинству Мими, имя которой так созвучно обольщенной сатаной Лилит. Должно быть, всю его без малого тысячелетнюю жизнь влекло Адама к первой жене.
Подобие газели, крытой сайгаком, завершилось к утру без упоминания имени автора: «…Мне с тобою ждать отрадно нежно-радостного Феба. В восхождении светила видим мира превращенье, утверждающую силу внеземного притяженья. Настоящее в прошедшем вдруг представилось нам ясно. Жить в минувшем было легче, только что ж грустить напрасно. И взошедшее светило опалило зноем нас, но во мне уже остыло чувство, данное на час»… Увы, начало, как правило, лучше конца.
Туз проснулся от тишины – поезд стоял. И в этом покое он ясно ощутил бескрайнюю свою дурь, о которой говорил Ра. Не то чтобы огорчился, но не понимал, как с этим жить дальше. «А что такое ум? – спрашивал себя. – Не воспоминание ли об опыте прожитых жизней? Если их не было или память плоха, то ты, братец, осел. Да неужто ум в памяти?»
За окном лежала зеленая равнина, полная тюльпанов и маков. Песок под насыпью казался легким, как цветочная пыльца. Славно пахло рельсами и шпалами. Солнце еще не взошло, но уже растеклось по небу, озолотив его. Неподалеку стоял, как эректус, серьезный суслик с желтой грудью, глядя на поезд. Черноглазые дети махали цветами и улыбались. В стороне от них девочка в желтом платье смотрела вдоль состава задумчиво, как маленький суслик. На горизонте замерли холмы, утомленные ночным бегом. А совсем далеко едва синели горы с белыми кое-где вершинами. Казалось, солнце взойдет перед ними. Туза осенило, что он уже бывал здесь – видел суслика, обрывал тюльпаны на холмах и подбирался аж к синим горам. Да заснул у темного их основания, позабыв все на свете. Поезд тронулся, все на свете дрогнуло, отодвинулось и стало неузнаваемым. О, как же давно наведывался он в эти края, если теперь они кажутся настолько чужими!
Конечно, давненько – когда они с бабушкой ездили на целину. Глядя на степи, среди которых являлись одинокие, как у Коли-ножа, кибитки, на заброшенные полустанки, где неведомо какие тормозили поезда, Туз отчетливо припомнил ту поездку. Бабушка доставала из авоськи курицу, пирожки, яйца, резала хлеб и насыпала соль на обрывочек газеты с портретом комбайна. Какая-то крупная тетка разудало косила траву, широко, как мужик, взмахивая косой. Приятно пахнет травой, когда слегка, но случается и чрезмерно, до одури все отбивая. Потому и не вспомнил сразу, что литовка – это и есть коса – большая, в отличие от малой, горбуши. Правда, целина для него умещалась в квартире, а поезд был составлен из стульев и табуреток, но сопричастность-то куда денешь, точно сам эти земли пахал…
По сути дела, мысль – это тоска, в которой страстно желаешь вспомнить ушедшее, чтобы понимать настоящее и провидеть будущее. Он чуял, Земля, конечно, в центре вселенной и совершенно плоская, но в то же время – круглая и где-то на отшибе. И ощутил себя живым и бодрым, почти мудрым, так что захотелось с кем-нибудь поговорить, но попутчики сами болтали без умолку, всхрапывая на разные голоса.
«Все развивается, господа, меняясь час от часу, как вид за окном, – размышлял почти вслух. – Сначала нашего мира вовсе не было. Потом возникло одно измерение, похожее на рельс. Затем второе, когда земля была блином. Ныне в триедином она кругла. Но вскоре, вероятно, наступит пора четвертого замера. Право, все ответы на загадки мироздания вокруг нас – под ногами, сбоку, над головой. Ах, как легко их разгадать, если мыслить вольно, без гирек опытов и цифр. Все в слове, господа! В уже известных образах, затертых, как подошвы на каменистых тропах. Время – песок. Господь – един. Смертию смерть-злодейку поправ». – Здесь он притих, поскольку возникли сомнения, да и мужик с верхней полки глядел волком – вот-вот растерзает.
Ах, как чудесно жить! Великая избранность уже в том, что появился на свет Божий, а все прочее – суета сует, ничтожные напасти.
Распались на плоской земле часовые пояса, и воцарился повсеместный день. Среди степей возник знакомый до боли собор Парижской Богоматери, ацтекские пирамиды, на которые не раз влезал, Синайская гора, куда восходил за скрижалями завета, веселое Святое Семейство, слепленное барселонским корнетом, долина Неандерталь, где впервые ископали останки близкого нам существа – кума Коли-ножа. А в смутной дали уже замахивалась мечом родина-мать да сверху доносилось: «ну мудак, так мудак, вот уж размудак мудакович!»
«И эти слова, – думал Туз, выходя из купе, – не каждое в отдельности, а все вместе, купно, отвечают на вопросы бытия. Может, и не нашего, но грядущего – четырехмерного»…
Колесо жизни так стремительно крутилось, что он и не заметил, как промчались – пять-пять-пять-пять – двадцать лет, будто капель из крана на кухне…








