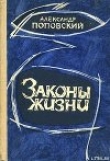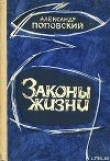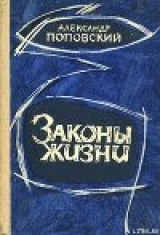
Текст книги "На грани жизни и смерти"
Автор книги: Александр Поповский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 6 страниц)
Пути гражданина и мыслителя
Есть люди, жизнь которых невольно напрашивается на сравнение. Люди, чей внешний и внутренний мир кажется связанным силой незримого единства. И характер, и манера творческих исканий, направленность мысли, нетерпимость ко всему, что отводит ученого от главной идеи, у них схожи. Та же безудержная страстность и беззаветная верность раз избранному делу. Годы словно не старят их: как в дни ранней молодости, они полны сил, не чужды радостям любви и знают вкус истинного счастья. Далекие от мысли о смерти, они словно не предвидят ее.
Шестидесятилетний Павлов продолжает оставаться недюжинным гимнастом, деятельным членом гимнастического общества. Восьмидесятилетний избранник восьми академий, носитель всех ученых степеней и почетных званий Англии – он все еще увлекается игрой в городки. Давняя страсть к игре и движениям доставляет ему удовольствие. Его темперамент ничуть не ослаб, такой же бурный, неистовый. «Я нашел способ, – говорит он, – ограничить коварную старость. Есть такое средство у меня…» Восьмидесяти пяти лет он сажает кусты и лукаво усмехается: «Мы с этой яблони еще яблок поедим».
Таков и Филатов. Семидесяти лет он все еще пишет лирические стихи и с воодушевлением читает их домашним, лазит по горам с мольбертом и палитрой, придумывает рискованные экскурсии по морю или с ночевкой у костра в лесу. Он все еще стремительно шагает по улице, и трудно сказать, чему служит палка, которой он размахивает на ходу.
– Я отправляюсь в Саранск, – неожиданно заявляет он домашним, – скорее всего полечу, а то и поездом доберусь, с пересадкой. Зачем? Ведь я родом оттуда, у меня там земляки. Я бог знает сколько лет в тех местах не бывал… Побываю в деревне, буду оперировать больных, учить врачей пересадке роговицы…
Ему не обременительно и не трудно на семьдесят втором году поехать из Одессы в Саранск, обколесить прежнюю Пензенскую губернию и поражать своим искусством участковых врачей.
Такая же, как у Павлова, нетерпимость к противникам, неумолимая суровость к ним. Одного он обзовет «Далай-ламой», другого – «Масленой головушкой, шелковой бородушкой», а то и покрепче. Внешняя корректность при этом сменится гневом и возмущением. Удивительное сходство во многом: даже к театру отношение их одинаково. Как и великий физиолог, знаменитый окулист не питает пристрастия к сцене. – Театр, – жалуется он, – меня утомляет: комедии не смешат, а драмы расстраивают.
Семидесяти с лишним лет он становится завсегдатаем лепрозория, изучает проказу, столь далекую от его специальности, задумывает строить лагерь для прокаженных. Он шлет министрам здравоохранения СССР и Украины доклад за докладом, требует основать под Одессой лепрозорий. Немцы уничтожили прежний, под Смелой, новый должен быть создан поблизости от научного центра, в данном случае вблизи Украинского института глазных болезней. Причин у него для этого много. Во-первых, потому, что он, Филатов, применяет для лечения проказы открытый им метод тканевого лечения…
– Я также заинтересован, – добавляет он, – в судьбе этих несчастных как окулист.
И у Павлова и у Филатова нельзя разграничить, где труды ученого сменяются трудом ученика. И удачи и неудачи принадлежат каждому и одновременно всем сообща. Один из своих докладов Павлов начинает следующего рода признанием:
«Я должен сообщить о результатах очень большой и многолетней работы. Она была сделана мной совместно с десятком сотрудников, которые участвовали в деле головой и руками. Не будь их – и работа была бы одной десятой того, что есть. Когда я буду употреблять слово «я», прошу вас понимать это не в узком авторском смысле, а, так сказать, в дирижерском. Я главным образом направлял и согласовывал все».
Таких признаний немало и в мемуарах Филатова.
«Софья Лазаревна Вельтер, – пишет он о своей былой ученице и сотруднице, – была моей самой сильной помощницей по пересадке роговицы. Это не только техническая помощница, она полюбила дело пересадки всем сердцем, радовалась нашим успехам и печалилась вместе со мной. Как и я, Вельтер беспрестанно думала о нем. С великой тщательностью наблюдала она за больными до и после операции, Я буду иметь еще случай о ней говорить не как о помощнице, но как о сотруднице в разработке метода пересадки роговицы. Здесь я замечу, что не будь Вельтер, сочувствующего и подбадривающего тона ее, я не сделал бы и половины того, что сделано. При операции Вельтер не только ассистент, но и няня, оберегающая оператора и морально поддерживающая его».
Узами крепкой дружбы связан Филатов со своими помощниками. Будучи в Ташкенте во время немецко-фашистского нашествия, он не прерывает переписки с теми из них, с кем война его разлучила. Одной помощнице он шлет письма на фронт и по поводу ее работы в медсанбате пишет: «Я никогда не устану повторять, что наука, вернее научные искания, никогда не надоедает и не изменяет нам».
Когда сотрудница в свое время уехала из института на службу в сельскую больницу, она в письмах к нему вкладывала копии историй болезней своих больных и получала от него советы. Учитель посылал ученице рисунки, на которых изображался весь ход предстоящей операции.
Другому сотруднику ученый пишет в Уфу длинные письма. Все должны знать, где он сейчас, сколько и где именно им напечатано статей, как обстоит с тканевой терапией, а самое главное – что он, Филатов, сейчас находится у преддверья величайшей удачи. Все, конечно, возможно, «и иной певец подчас хрипнет», но все основания полагать, что опыты завершатся успешно…
«Умственные силы, – говорит Цицерон в своем трактате о старости, – переживают годы, если только человек не отказался от их применения. Софокл писал трагедии до последних дней своей жизни. Так как это вынуждало его пренебрегать домашними делами, сыновья привлекли отца к суду, требуя опеки над ним, как над человеком, впавшим в детство… Старик прочел суду своего недавно оконченного «Эдипа» и спросил: может ли это произведение принадлежать человеку, впавшему в детство? Судьи его оправдали… Разве старость ослабила способность Гомера или Диогена-стоика? Старость трудолюбива! Я к концу своей жизни, – продолжал Цицерон, – начал изучать греческих авторов. Сократ в старости посвятил себя занятиям музыкой, и я изучу ее, потому что изучали ее древние…»
Есть много общего между Павловым и Филатовым, но есть и нечто такое, что глубоко их разнит. Первый всю жизнь оставался ученым, не занимаясь непосредственно клинической практикой, а другой совмещал в себе исследователя и врача. – Чем больше я живу, – говорит Филатов ассистентам, – тем более я проникаюсь почтением к анамнезу – к той истории организма, из которой мы, врачи, созидаем диагноз.
Он верен этому правилу и в клинике себя ведет как исследователь, а в лаборатории – как клиницист.
К нему приходит больная. Она жалуется на частые головные боли, на то, что туман застилает ей свет, мир словно окутан темной вуалью. Вокруг пламени ей видится тусклый диск и фиолетово-красные круги. Порей перед глазами мелькают мушки, и кажется, что в воздухе носится сажа.
Диагноз: глаукома – повышенное давление внутриглазной жидкости, которое нередко приводит к слепоте.
– Наблюдали вы у себя улучшения? – спрашивает больную клиницист.
– Одно время – да.
– Не было ли это с чем-нибудь связано?
– Как будто нет.
– Не приходилось ли вам тогда необычно много работать?
– Нет.
– Двигаться много?
Да, двигаться ей приходилось немало. Она в то время лишилась автомобиля и помногу ходила пешком.
Признание больной послужило запалом для клинициста-исследователя. Филатов приступает к экспериментам. Он изучает состояние спортсменов после упражнений и убеждается, что внутриглазное давление и давление крови у них в это время различны. У кроликов и у собак, вынужденных напряженно и стремительно двигаться, повторяется то же: кровяное давление повышается, а внутриглазное падает. Сыворотка крови усталого кролика, введенная в организм неутомленного животного, внутриглазное давление снижает.
Результаты, добытые в лаборатории инициативой врача, были обращены на пользу больной. Ей прописали движения – каждодневное хождение по лестнице, спуск и подъем в продолжение часа или двух. Новый способ лечения спас больную от слепоты, приступы глаукомы прекратились, внутриглазное давление стало нормальным…
И врач и исследователь действуют слаженно, не вступая между собой в конфликт. Одного одолевает чувство долга к больному, другого – сознание ответственности перед страной. Один возит своих больных на конференции медиков, чтобы сделать свои успехи достоянием других, другой пишет проникновенные статьи. И столь велико доверие ученых к исследователю, что почетный академик Гамалея проводит опыт на себе, чтобы убедить сомневающихся в действительности открытия Филатова. Прославленный микробиолог дважды впрыскивает себе под кожу убитые палочки Коха, один раз с веществами, полученными из трупной ткани, выдержанной на холоде, а во второй – без них. В первом случае припухлость достигает размера булавочной головки, а в другом – пятикопеечной монеты. Биогенные стимуляторы наглядно себя проявили… Американец Грин, посетивший Одессу по пути на конференцию в Каир, долго интересовался инструментарием и техникой русского исследователя, побывал у него на операциях и вскоре после отъезда прислал своего племянника штудировать пересадку роговицы. В Америке Грин, восхищенный увиденным, рассказал в бюллетене офтальмологического института о своих наблюдениях в Одессе и широко эти сообщения распространил.
Восемь английских хирургов и один знаменитый окулист, посетившие клинику ученого, увидели в один день пять пересадок роговиц. Довольные тем, что им довелось увидеть, англичане не скрыли своего удивления.
– У нас такие операции, – сказали они, – явление редкое, у вас мы сразу увидели их пять. Они, видимо, доступны здесь многим. У нас этим искусством владеет единственно окулист Томас, и его операции очень редки…
Слава врача успешно соперничает со славой исследователя. Сотни писем прибывают к нему ежедневно. «Черное море, доктору Филатову» – значится на одном из конвертов; «Главному и старшему глазному доктору», – пишет другой; «Профессору, про якого публикуют в газетах», – адресует свое обращение третий. В письмах спрашивают совета, жалуются, скорбят, просят разрешения приехать. Профессор не в состоянии все письма прочитать, не в силах всех принять и оперировать. На этой почве происходят печальные сцены.
– Пустите меня к Филатову! – взволнованно требует инвалид войны. – Я никому из вас не верю, не уговаривайте меня!
Нет смысла его показывать профессору, никто и ничто не поможет ему. Единственный глаз стал негодным и уже не оправится больше.
– То же самое вам скажет Филатов, зачем беспокоить его?
– Ведите меня к нему, – не унимается инвалид, – я иначе не успокоюсь.
Профессор долго обследует сморщенный глаз, качает головой и с грустью произносит:
– Ничего сделать нельзя… Я бессилен, голубчик… Возьмите себя в руки.
– Спасибо, профессор, – следует совершенно спокойный ответ. – Я не буду больше думать об этом. Я знаю, как теперь поступить. Вернусь в Нежин и буду учиться…
Бывает, что ассистенты отказываются представить боль» ного профессору. Положительно незачем, они сами управятся. Больной не уступает, он приехал затем, чтобы показаться Филатову, никому другому, только ему. Приезжий ищет средств прорваться к профессору и, конечно, находит их. У дверей кабинета, где беседует или заседает Филатов, вдруг раздаются женские крики:
– Я ничего не скажу вам, оставьте меня! Я хочу услышать, что Филатов мне скажет!
Ее успокаивают, а она продолжает настаивать.
Профессор обследует больную. Она очень глуха, и единственный глаз ее плох.
– Не все потеряно, – говорит он больной, – мы вам поможем.
Долго после ее ухода взволнованный профессор не может прийти в себя.
– Какое несчастье, – жалуется он, – не быть в состоянии принять человека, удовлетворить его нужду. Я прошу не отказывать больным, когда они настаивают на свидании со мной… На одном полюсе человечества стоит атомная бомба, а на другом – человеческое сердце, и именно оно должно победить!
В приемной профессора, куда стекаются люди со всей страны, слава врача звучит в волнующих рассказах, в нежных признаниях больных… Полковник Хвостов, заместитель командующего по инженерным войскам Пятьдесят седьмой армии, проникновенно рассказывает:
– Мы построили мост через Днепр. Артиллерия противника накрыла нас, и я был тяжело ранен. Девятнадцать месяцев я был слепым. Врачебные комиссии предлагали мне демобилизоваться. Я отказывался и верил, что буду здоров и буду по-прежнему видеть. Меня доставили сюда, и я впервые услышал голос Филатова: «Операция, возможно, ничего вам не даст, не падайте духом, держитесь». – «Я тверд, уважаемый академик, – отвечаю я ему, – верю в ваши золотые руки».
На одиннадцатые сутки после операции я лежу забинтованный в кровати, лежу, надеюсь и жду. Вдруг кто-то меня поднимает, уводит куда-то, и слышу, как за мной закрывается дверь. Женские руки снимают повязку, я открываю глаза и вижу медицинскую сестру… Я ухватился за стол, чтобы не упасть от волнения. Когда мне подали фуражку, я долго не мог с ней расстаться, хотелось без конца глядеть на нее… Меня тянуло к деревьям, тянуло каждый листик перещупать и осмотреть… И ручка графина, и ножка стола приводили меня в восхищение. «Какая прелесть», – повторял я про себя… Я поворачивал людей лицом к себе и разглядывал их, как старых знакомых… Когда я увидел себя среди цветов, я чуть не заплакал от счастья… При встрече с людьми я первым делом заявлял им: «На вас такого-то цвета костюм и рубашка, я различаю ваш галстук, вы улыбаетесь, да, да, я это вижу отлично…»
Меня привели в большой кабинет, заставленный мебелью и увешанный картинами, полный незнакомых людей. Я стал среди присутствующих искать глазами Филатова. В кресле сидел невысокого роста старик в беленькой шапочке, с седенькой бородкой. Он смотрел на меня и молчал. Я приблизился к нему и сказал: «Товарищ академик! Это вы, академик?» Он молчал. Я подошел к нему вплотную и повторил: «Вы академик Филатов! Я вас вижу, отчетливо вижу и узнаю!»
У Филатова навернулись слезы…
Есть люди, чья мысль неизменно пребывает под гнетом внутренних запретов. Ценой жестоких усилий они строят преграды собственным замыслам и идеям. Их путь преднамечен, пределы интересов определенны. Все силы, мысли и чувства, все порывы и страсти все время, до последнего биения сердца, подчинены единой, незыблемой цели.
Таким был Павлов. История повествует, что он, как подобает смертному, изнемогал от всяческих искушений. Он налегал запреты на свои уста и уста и желания учеников. Запрещалось говорить, вспоминать о прошлых экспериментах, чтобы не отвлекаться от непосредственного дела. Суровая школа – не всякий схимник вынес бы ее. «Помилуйте, – раздавались возражения, – мы упускаем важные открытия, оставляем без внимания серьезные вещи». Павлов отвечал им цитатой, в которой неизменно присутствовали скромность и благоразумие. «Не наше дело разбрасываться, гениев среди нас нет. Веемы маленькие люди…»
На пути к своей цели Филатов тоже умеет от всего отрешаться, но собственные запреты никогда его мысль не стесняли. В голове его находили пристанище самые различные идеи. Свободный от тирании собственной профессии, он быстро оказывается вне ее пределов, в добровольном плену у желанного представления. Едва новая мысль им овладеет, ей на помощь придут мрральные принципы ученого. Чувство Долга подскажет ему, что он не должен, не смеет оставить начатого дела, сознание ответственности этот голос чувства подтвердит.
Так забредшая идея не раз уводила ученого за пределы офтальмологии, уводила надолго, всерьез. Случилось даже однажды, что такая идея увлекла его дальше – за пределы медицины вообще.
Филатов вдруг занялся агрономией, увлекся биологией растений и живет мыслью о ней по сей день.
Это началось размышлением, лишенным как будто практического смысла и значения. «Биогенные стимуляторы растения, – подумал как-то ученый, – действуют целебно на животный организм и должны, вероятно, влиять на растительный». Влияют – и превосходно. Что, казалось бы, медику того? Мало ли какие законы управляют зеленым организмом или какие процессы регулируют его жизнедеятельность?
Филатов предлагает замочить перед посевом семена хлопка в соке листьев столетника, консервированных в темноте. Он не видит причин отказаться от любопытного эксперимента. Была бы логика в решении, толк в предстоящем деле…
Опыт провели по всем правилам агрономии: наряду с экспериментальным участком заложили контрольный. Растения развились на одинаковой почве, в относительно тождественных услозиях, и все же результаты оказались различные. Смоченные в экстракте семена взошли на несколько дней раньше контрольных, стебель растения был толще, более яркой окраски, на кустах вызрело больше коробочек – урожай превзошел все ожидания. Год спустя опыт вновь повторили, и сомневающиеся могли убедиться, что прошлогодняя удача не была случайной.
Такие же свойства, как и у сока столетника, были обнаружены у картофеля. Водный экстракт, извлеченный из клубня, консервированного без света на холоде, повышал жизнеспособность срезанных веток деревьев, способствовал развитию ячменя. Семена злаков, смоченные в этом соке, дали увеличенный урожай. Почва, удобренная консервированными листьями столетника или их соком, ускоряла всходы посевов и благотворно влияла на их дальнейшее развитие. Семена томатов, обработанные перед посадкой растительным экстрактом, стремительно завершали свое развитие. На контрольных кустах не было еще зрелых томатов, когда опытные экземпляры сгибались под их тяжестью.
Ученый спешит обнародовать то, что он обнаружил, шлет доклады правительству, настаивает на образовании комиссии из специалистов. Стимуляторы должны служить агрономической практике.
Всякая творческая идея найдет у него гостеприимство, ей будет оказан достойный прием.
Услышав, что один из врачей нашел средство поддерживать слабых больных, впрыскивая им трупный жир под кожу, Филатов решает, что не самый жир, а стимуляторы, возникшие при сохранении трупа на холоде, в этом случае помогают больному. То же самое произойдет, если больному вводить рыбий жир. В тканях печени трески, откуда его добывают, накапливаются, вероятно, такие же вещества. Они образуются в процессе выжимания жира, которое происходит на холоде…
Первые опыты подтвердили умозаключение ученого: введение рыбьего жира под кожу действовало так же на состояние больного, как сок из листьев столетника или консервированная ткань…
Явления, далеко отстоящие от круга его интересов, могут стать предметом его забот. Будучи в экскурсии на полуострове Пицунде, вблизи Гагр, он обращает внимание, что на огромном пространстве заповедника-леса нет совершенно подлеска. Толстый слой несгнивающих частиц, густо покрывающий почву, не дает семенам прорасти. Пройдут столетия – и лес погибнет, не оставив потомства. Ученый пишет специальный доклад, требует, чтобы почву взрыхлили, спасли от гибели заповедный лес.
С таким же усердием, с каким он изучает проблему тканевой терапии, он штудирует ходатайства своих избирателей. Общество слепых жалуется своему депутату, что мастерские не получают достаточно сырья… Публичная библиотека нуждается в новых периодических изданиях – нельзя ли ей как-нибудь помочь? Незадачливый изобретатель просит денег взаймы, он вернет их, как только «реализует свое открытие»… Внучка Иосифа Дерибаса – основателя города Одессы – обращается к депутату с письмом. Ее отец и два брата, как и она, всю жизнь провели на государственной службе – в библиотеке. Ей семьдесят семь лет, ее здоровье плохое, она просит депутата исходатайствовать ей персональную пенсию.
– Скажите, пожалуйста, – спрашивает депутат секретаря, – ей действительно трудно живется?
– Она нуждается в специальном уходе, – говорит секретарь, – это требует известных расходов.
– А много времени пройдет, прежде чем ходатайство будет рассмотрено?
– Некоторое время, конечно, пройдет…
Ученый задумывается и вдруг таинственно шепчет секретарю:
– А что, если мы обманем старушку? Будем ей выплачивать из моих денег, а ей скажем, что ходатайство удовлетворено…
С тех пор секретарь депутата стал аккуратно бывать у старушки, приносить ей ежемесячно триста рублей и справляться о ее нуждах. Внучка Дерибаса так и не узнала, что персональную пенсию ей выплачивал академик Филатов, задолго до утверждения правительства.
Оглядывая свою долгую жизнь, исполненную творческих исканий, академик Филатов говорит:
– Успехи каждой специальности должны сказываться на движении вперед не только всей медицины, но и всей науки в целом… Я буду удовлетворен, если тканевая терапия с ее твердыми фактами и ее гипотезой, это новое дитя офтальмологии, окажет влияние на развитие тех или иных сторон науки, которые, как и живой организм, по сути своей неделимы.
Надежда ученого обращена к современникам, к друзьям и коллегам, но слишком огромна задача, ее придется решать и нам и потомкам.
Миновали годы. Давно прошло то время, когда тканевая терапия была достоянием одной лишь лаборатории Филатова. Новое средство лечения различных страданий распространилось повсюду, взволновало сердца врачей и ученых и беспримерно быстро проникло в лечебные учреждения страны. Специалисты различных отделов медицины обратили свои взоры к консервированной ткани для решения своих разнообразных задач.
Ростовский врач Г. Румянцев сделал свыше трех тысяч подсадок тканей животных больным и обогатил медицину весьма интересными наблюдениями. Не всякая выдержанная на холоде. ткань, установил он, одинаково воздействует на течение болезни. Так, например, ткани половых желез поразительно быстро излечивают красную волчанку и облегчают страдания сердечно-сосудистой системы и кожи. Иное применение находит себе селезенка. Ткани ее оказывают благотворное действие на бронхиальную астму, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, на течение ишиаса, люмбаго и радикулита. Были случаи излечения диабета, костного туберкулеза, гипертонии подсадкой консервированной ткани.
В одном только городе Ростове-на-Дону тканевую терапию применяют в шести городских больницах и пятнадцати поликлиниках… Со всех концов страны приходят сообщения о новых и новых способах подсадки, разработанных усилиями практикующих врачей. Открытие Владимира Петровича Филатова нашло благодарную почву в среде советских ученых и врачей, и не видно предела его дальнейшему развитию и обогащению.
Наука не забудет того, кто так щедро откликнулся на страдания больных, не забудет и тех, кто это счастливое начинание продолжил.