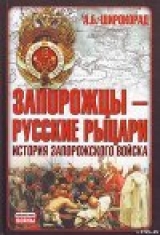
Текст книги "Запорожцы — русские рыцари. История запорожского войска"
Автор книги: Александр Широкорад
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Положение живших от продажи своего труда было не легкое, но они имели свободу и могли свободно менять работодателя, чего тогда уже не было в остальной России, в том числе и на Гетманщине и Слободщине. Были также формально ничем не ограниченные возможности выбиться в более зажиточные группы, быть выбранными в старшины, организовать свой зимовник или какое другое собственное предприятие».[97]97
Дикий А. Неизвращенная история Украины-Руси. Т. 1. С. 388–389.
[Закрыть]
Нравится нам это или нет, но в сичевом «равноправном братстве» имела место… классовая борьба. Так, «1-го января 1749 г. при выборе должностных лиц „серома“ (бедняки) изгнали из Сечи зажиточных казаков, которые разбежались по своим зимовникам, и выбрали свою старшину, из бедняков, с И. Водолагой во главе. Есаулом, по свидетельству производившего расследование секунд-майора Никифорова, был избран казак „не имевший на себе одежды“. Бунт был скоро усмирен и засевшая в Сечи „серома“ (бедняки) капитулировали.
Гораздо большие размеры имел бунт в 1768 г., во время которого взбунтовавшаяся „серома“ несколько дней была господином положения и разграбила дома и имущество старшины и зажиточных казаков, бежавших за помощью в „паланки“ и к русским, соседним с Запорожьем, гарнизонам. Сам кошевой атаман, как он описывает в своем показании, спасся только благодаря тому, что спрятался на чердак и бежал через дыру в крыше.
Казаками из „паланок“ и сорганизовавшейся старшиной и этот бунт был подавлен, а его зачинщики жестоко наказаны. Посланные для усмирения Киевским генерал-губернатором Румянцевым 4 полка, не понадобились. В архивах сохранились „описи“ разграбленного имущества, поданные пострадавшей старшиной и казаками. „Опись“ одного из высших старшин занимает несколько страниц перечислением разграбленного, например, 12 пар сапог новых, кожаных, 11 пар сапог сафьяновых, три шубы, серебряная посуда, 600 локтей полотна, 300 локтей сукна, 20 пудов риса, 10 пудов маслин, 4 пуда фиников, 2 бочки водки и т. д.
„Опись“ не занимавшего никакой должности „заможнего“ (зажиточного) казака, значительно скромнее: одна шуба, два тулупа, 4 кафтана, разное оружие и наличными деньгами (которые не успел унести) 2500 руб. крупной монетой, 75 червонцев и 12 руб. 88 коп. медной монетой. Сумма огромная по тому времени.
Кроме этих двух бунтов немало было и более мелких бунтов в „паланках“ и слободах, о чем сохранилось множество документов. Например: в Калмиусской „паланке“ в 1754 г., в Великом Луге в 1764 г., в Кодаке в 1761 г. и во многих других местах».[98]98
Там же. С. 389–390.
[Закрыть]
Разумеется, тут не следует преувеличивать ни те, ни другие моменты – была и казацкая демократия, были и привилегированная старшина. Несколько упрощая ситуацию, можно сказать, что имущественное расслоение в Сечи с середины XVI века и до самого ее разорения было сходно с ситуацией у донских казаков в середине XVII века: были богатые – «корнилы яковлевы», была голытьба, и, разумеется, хватало своих «стенек разиных».
Запорожских казаков принято считать ревнителями православной веры. В целом это так, но были и определенные нюансы. Так, в ходе походов в Московское государство или в пределы Речи Посполитой в Малой и Белой Руси запорожцы постоянно грабили и жгли церкви и монастыри, убивали попов и монахов. Зато обязательно потом каялись перед своим духовенством, а многие, как минимум сотни казаков, уходили в монастыри, причем большей частью в Россию.
«Духовенство в Запорожье пользовалось добровольными приношениями. В материальном положении оно было поставлено лучше духовенства малороссийского, потому что Запорожцы любили содержать свое духовенство самым приличным образом. „Кроме обыкновенных пожертвований, – говорит г. Скальковский, – войско, при разделе жалованья, провианта, доходов с питейных домов, лавок, рыбных и звериных ловель, даже воинской добычи, одну часть, обычаем узаконенную, отдавало на церковь!“ По всей вероятности из этой добычи некоторая часть шла и на духовенство. Вероятность восходит на степень несомненности, когда вспомним, что Запорожцы имели „благочестивое“ обыкновение поминать всех умерших и убитых на сражении, и для этой цели присылали список убитых и умерших. За поминовение они всегда платили духовенству. Притом, „как люди холостые, говорит г. Скальковский, козаки хотя и отдавали свое имущество родным или куренным братьям, но часть непременно отказывали в пользу церкви и духовенства“. Как бы ни был беден казак, он непременно требовал, чтоб его хоронили „честно“ и на то представлял часть своего достояния. Каковы были добровольный приношения духовенству, можно видеть из того, что один казак, оставивши после себя 9 руб. и 2 лошади, завещал 1 руб. и одну лошадь священнику.
В истории князя Мышецкого прямо говорится, что „Запорожцы при смерти все свое имущество отписывают, бывало, на церковь Сечевую и на монастырь“. – При всем однако ж желании поставить как можно лучше духовенство в материальном положении, Запорожье и по отношению к духовенству сохраняло также выборное начало. Так, подобно всем другим чинам и званиям в Коше, духовные лица могли занимать свою должность только один год. Они присылались исключительно из Киевского Межигорского монастыря – по одному священнику и по два дьякона, или и по несколько человек. Присылаемые вновь духовные лица обыкновенно занимали место прежде бывших, которые возвращались в Межигорский монастырь, впрочем только в том случае, если нравились Запорожцам; но иногда случалось так, что Запорожцы „з ласки войсковой“ удерживали прежних духовных лиц и отсылали вновь прибывших. Это называлось переменою звычаиною.
Посредством выборного начала и требования беспрекословного исполнения определений старшины и товариства, поставляя духовные лица в зависимость к себе („духовные чины и сами войсковой старшине повинны бывают и делают все по поведению их, прочие же казаки над ними попечете имеют“), Запорожье стремилось и изъявляло притязания на независимость своей церкви и духовенства от общей русской иерархии, или от митрополита Киевского. Так, когда Киевский митрополит Гедеон в 1686 г. приказал вместо Межигорского монастыря церкви войска Низового Запорожского подчинить своей кафедре, Запорожье так отвечало на это требование: „не будет церковь Божия и наша отлучена от монастыря общежительного Межигорского, пока в Днепре воды и нашего войска Запорожского будет“. „В Сечи 29 Мая 1686 г.“
Мало этого, питая глубокое уважение к церкви и духовенству, кошевое начальство даже и игумену Межигорского монастыря не повиновалось, и главой войсковой своей церкви считало только себя и товариство.
В 1773 г Кошевой Калишневский считает себя в праве делать выговор игумену Межигорского монастыря за присланного им священника и требует, чтобы отозвал последнего. Он, прислал на Запорожье другого иеромонаха, который был бы столь хорошего учения, что мог бы и проповеди говорить. В 1774 г. когда Киевский митрополит Гавриил требовал доставления в консисторию сведений о числе Запорожских церквей, духовенстве, доходах его, грамотах и т. п. кошевой отвечал, что так как церкви Запорожские „искони древних времен ведущимся порядком построены войском, содержатся от оного, и в главном и совершенном ведоме войска находятся“,? то и не считает нужным занимать этим предметом митрополию».[99]99
Марковин И. Очерк истории запорожского казачества. // Шумов С., Андреев А. История Запорожской Сечи. С. 95–96.
[Закрыть]
Несколько слов надо сказать и о вооружении запорожских казаков. Боплан писал: «…каждый козак, отправляясь в поход, брал одну саблю, две пищали, шесть фунтов пороху, причем тяжелые боевые снаряды складывал в лодку, легкие оставлял при себе».[100]100
Яворницкий Д. И. Очерки по истории запорожского казачества. // Шумов С., Андреев А. История Запорожской Сечи. С. 391.
[Закрыть]
Если же это был конный поход, то запасные две-три пищали (мушкета) находились на конной повозке. Практически все казаки были великолепными стрелками. Кроме того, они владели дорогими и точными пищалями или мушкетами. Ведь качество выделки гладкоствольного оружия существенно влияет на меткость и дальность стрельбы. Поэтому казаки могли вести эффективный огонь из ружей в два и более раз дальше, чем польская, шведская и русская регулярная пехота, снабженная ружьями серийного производства.
Важная роль у запорожцев отводилась и холодному оружию. Так, копья «делались из тонкого и легкого древка, в пять аршин длины, окрашенного спирально красной и черной краской и имеющего на верхнем конце железный наконечник, и на нижнем две небольшие, одна ниже другой, дырочки для ременной петли, надеваемой на ногу. На некоторых древках копий делалась еще железная перепонка для того, чтобы проткнутый копьем враг сгоряча не просунулся по копью до самых рук козака и не схватился бы снова драться с ним, ибо случалось, что иному и живот распорют, а у него кровь не брызнет, он даже не слышит и продолжает лезть в драку. Некоторые копья делались с остриями на обоих концах, которыми можно было и сюда класть врагов и туда класть. Часто у запорожских козаков копья служили во время переходов через болота вместо мостов: когда дойдут они до топкого места, то сейчас же кладут один за другим два ряда копий – в каждом ряду копье и вдоль и поперек, да по ним и переходят: когда пройдут через один ряд, то сейчас же станут на другом, а первый снимут и из него помостят третий; да так и переберутся. Сабли употреблялись не особенно кривые и не особенно длинные, средней длины пять четвертей, но зато очень острые: „как рубнет кого, то так надвое и рассечет, – одна половина головы сюда, а другая туда“… Сабли носились у левого бока и привязывались посредством двух колец, одного вверху, другого ниже средины, узеньким ремнем под пояс. Сабля столь необходима была для запорожских козаков, что в песнях их она называется всегда „шаблей-сестрицей, ненькою-ридненькой, панночкою молоденькою“.
„Ой, панночка наша шаблюка!
З бусурменом зустривалась,
Не раз, не два цилувалась“».[101]101
Там же. С. 392–393.
[Закрыть]
Особый интерес представляет собой артиллерия запорожских казаков. На вооружении казаков были медные, железные кованые и чугунные пушки, а также медные и чугунные мортиры. Точной даты появления у казаков первых орудий нет, но судя по казнозарядным орудиям (в том числе со вкладными каморами) конца XIV–XV веков, это произошло не позднее середины XV века.
При осаде городов запорожские казаки эффективно применяли осадную артиллерию, но почти всегда это были тяжелые орудия, захваченные у неприятеля или переданные союзниками. Тут следует заметить, что малороссийские умельцы лили в Глухове и других местах превосходные тяжелые осадные орудия.
Какое-то количество орудий среднего калибра использовалось запорожцами для обороны Сечи и других укреплений. Однако в походах ударной силой казаков была легкая артиллерия – пушки и фальконеты калибра 0,5–3 фунта и легкие мортиры калибра до 4-12 фунтов. Такая артиллерия легко вьючилась на лошадей, а на поле боя переносилась вручную. Не менее легко она устанавливалась на челнах (большей частью на вертлюгах), а в обороне – на возах, образующих табор (вагенбург). Из пушек и фальконетов стрельба велась ядрами и картечью, а из мортир – разрывными гранатами. Малая артиллерия запорожцев наносила большой урон противнику.
Весьма экзотической была и запорожская фемида. Главными преступлениями казаки считали убийство, воровство, неплатеж денег, взятых в займы, слишком дорогая цена товаров или вина – вопреки постановленной цены, а также гомосексуализм или скотоложство.
Тут сделаю маленькое лирическое отступление. Обычно титулованные авторы солидных исторических книг тщательно обходят вопросы, на которые не могут дать внятных ответов. Но я предпочитаю в этих случаях ответить «не знаю», нежели умалчивать факт или заниматься фантазиями. Например ответить на вопрос, как уживался гомосексуализм среди запорожцев со строгим наказанием за оное деяние – я не знаю! Равно как не представляю, почему в Северную войну в обеих армиях процветали «голубые», хотя и у русских, и у шведов за это официально полагалась смертная казнь. Мало того, Петр I был бисексуалом (вспомним Алексашку Меншикова и чухонку Марту Трубачеву), а Карл XII вообще был геем «в законе».
Но вернемся к запорожской фемиде. «Убийцу живого кладут в один гроб вместе с убитым и зарывают в землю; освобождается от такой казни разве весьма уважаемый казак, – его всенародно избавляют от смерти и наказывают большим штрафом. За воровство привявают к столбу, на площади, где держат до тех пор, пока укравший не заплатить всего украденного; непременно трое суток продержат его на столбе даже и в том случае, если он скоро заплатить за все украденное, а попадавшегося несколько раз в воровстве или вешают, или убивают до смерти. Наказание привязывания к столбу увеличивается потому, что всякий проходящий имеет право не только бранить, но и бить привязанного, сколько кому вздумается. Иногда при этом выходит такая история. Несколько пьяниц, проходя мимо столба, пристанут к привязанному и станут угощать его горелкою; когда же тот не захочет пить, они приговаривают: „Пый, скурвый сыну, злодею! Як не будешь пыть, будем скурвого сына быть“. Как скоро тот напьется, пьяницы скажут ему: „Дай же мы, брате, трохи тебе побьем“, и хотя тот просит у них милости, пьяницы, не обращая внимания на его просьбу и мольбу, говорят: „А за щож, скурвый сыну, мы тебя поили? Як тебе треба поить, то треба и быть“, и часто случается, что привязанный к столбу умирает чрез сутки. – Участвующий в воровстве и скрывающий украденное подвергаются одинаковой участи с вором. Не желающего уплачивать взятого в долг – взаймы – приковывали к пушке и держали до тех пор, пока не выплатит займа. – За самую тягчайшую вину считается мужеложство и скотоложство; впадшего в какое-нибудь из этих преступлений привязывают к столбу и убивают до смерти, а имущество и богатство его берут на войско.
Преступники, говорит князь Мышецкий, если поимаются в воровстве, грабеже, или убийстве, то суд им короток и недолго с ними возятся по судам, а вдруг решают их и казнят в Сечи, или по паланкам, смотря по преступлениям: иных вешают на прибатину, иных убивают киями до смерти, иных сажают на колья, а иных отсылают на Сибирь. Воровство же и грабеж, если по жалобам открывается и виновного поймают, то пополняет курень, к которому он принадлежит, а если он у себя достатка не имеет, а от наказания не освобождается по праву приговора, чего достоин и тем обиженного по жалобе довольствуют, а убийство также заменяют убийством и убивают преступника до смерти, какая казнь будет положена, тоже по приговору начальства.
Первая казнь шибаницы [виселицы], которые устроены были на разных мостах под большими шляхами, почти во всякой паланке, и преступника верхом подвезши лошадью под шибаницу и накинувши на его голову сельцо, лошадь ударяют плетью и она оттудова выскочить, а преступник повиснет; а иного вешали до горы ногами, а иного за ребро крюком железным и висит преступник, пока кости его рассыплются, в пример и страх другим, и никто его оттуда снять не смеет под казнью смертною.
Вторая казнь: острая паля, на столб деревянный вышиною 6 аршин и более, а на верху пали воткнутый был железный шпиль тоже острый в два аршина вышиною, на который тоже насаживали преступников, так что шпиль выходил на под аршина в потылицу выше его головы и сидит на том шпиле преступник дотоле, пока иссохнет и выкоренится як вяла рыба, так что когда ветер повеет, то он кружится кругом як мельница и шорохтят все его кости, пока упадут на землю.
Третья казнь: „кии“ запорожские; они не так велики и толсты, и подобны бичам, что у цепов, коими хлеб молотят, дубовые, или из другого крепкого дерева нарубленные. Преступника вяжут или куют до столба в Сечи, или в паланках на площади или в базари, потом поставляют около его разные напитки в кинвах, как то: горилку, мед, пиво и брагу, и накладут так же довольно калачей и наконец принесут также несколько оберемков и киив и положат около столба, где преступник, и принуждают его есть, пити, сколько хочет, и когда наестся и напьется, тогда козаки начанают его бить киями, так что всякий козак, кто только идет мимо его выпивши коряк горилки, или пива, непременно должен ударить его по разу кием и когда ударит (де кто як попав, по голове или по ребрах), тогда так ему приговаривает: „От тоби, сучий сыну, щоб ты не крав и не ризбивав, мы все тебя куренем платили“. И потуда сидит или лежит преступник около столба, пока убьют его до смерти. Четвертая казнь: отсылка в Сибирь, по обычаю, як и Россия отсылает преступников».[102]102
Корж Н. Л. Устное повествование бывшего запорожца. // Шумов С., Андреев А. История Запорожской Сечи. С. 255–256.
[Закрыть]
С переходом запорожцев в русское подданство царские власти категорически запретили им приводить в исполнение смертные приговоры. Однако запорожцы игнорировали это и казни производились до самого разгрома Запорожской Сечи.
Любопытно, что запорожцы чтили древний славянский обычай – приговоренный к смерти должен был быть помилован, если невинная девушка пожелает выйти за него замуж. Правда, иной раз случались и конфузии. Везут приговоренного на лобное место. Вдруг из толпы зрителей выбегает покрытая покрывалом девица, «которая всенародно объявляет свое желание выйти за осужденного замуж. Разумеется, все остановились и замолкли; осужденный требуете снять с девицы покрывало, чтобы посмотреть на нее. Взглянул и заговорил: „Ну, когда уже да такой жениться, лучше умереть; ведите меня“. Что и последовало. Происшествие сие было в г. Новомосковске, в тогдашней Запорожской паланке, где некоторые из жителей, помня еще места шибаниц и прочих казней, указывают их любопытным».[103]103
Марковин И. Очерк истории запорожского казачества. // Шумов С., Андреев А. История Запорожской Сечи. С. 131.
[Закрыть]
Закончу вопросом, на который у меня также нет четкого ответа: соблюдали ли запорожцы обет безбрачия? Формально – да, если говорить о сечевых. Зимовчики и сидни не в счет. Действительно, по запорожским законом каждый, кто приведет женщину в Сечь, хотя бы и родную сестру, подлежит смертной казни. Но кто мешал богатым казакам в зимовниках и хуторах, где у них находились сотни коней и крупного рогатого скота, содержать еще и гарем?
В середине XIX века Пантелеймон Кулиш записал рассказ старика-запорожца о былых временах. Среди прочего старик рассказал, как тогдашние «повесы» (брачные аферисты) промышляли тем, что соблазняли девушек, обещая жениться, увозили в Запорожье, а там продавали и возвращались назад за новой жертвой. Украинофил Кулиш вставил в текст в скобках [татарам]. Но мне что-то не вериться, чтобы в Сечи татарам позволялось скупать к себе в Крым православных девушек. Так что красны девицы жили в гаремах богатых казаков.
Запорожские и малороссийские казаки только в XVII веке увели в плен сотни тысяч женщин из Прибалтики, Крыма и приморских турецких городов. Куда же они делись? Ну, допустим, часть, не более 10 процентов, была продана панам и евреям, а остальных-то поселили если не открыто в местечках, то без огласки по хуторам, да во многих случаях и сочетались законным браком. И в любом случае рождались дети, даже очень много детей!
Я умышленно акцентирую внимание на смешении кровей в Малороссии в XIII–XVIII веках. Вопрос тут не сексуальный и даже не этнографический, а, увы, политический. Мне уже осточертело повсеместно читать мудрые высказывания самостийников, от форумов в Интернете до трудов членов Академии наук, о том, что де настоящие русские – это укры, а «москали» – это помесь племен угрофиннов и татар. Риторический вопрос: кого на московском рынке скорее обзовут «черными» – уроженцев Архангельской или Вологодской областей или жителей юга Украины?
Глава 9
Богдан поднимает Сечь
К середине XVIII века бесчинства польских магнатов не только не прекращаются, но и принимают все больший размах. Вот, к примеру, крупный магнат Иеремия Вишневецкий в 1643 г. захватил у городельского старосты А. Харлезского городище Гайворон с окрестными селами, присоединив их к своим огромным заднепровским владениям. В следующем году он отобрал у надворного маршала А. Казановского город Ромны «с волостью», кроме того, в разное время занял над реками Оржицей и Хоролом «наймней 36 миль».
Польский шляхтич чигиринский подстароста Даниэль Чаплинский в 1645 г. напал на хутор Субботово, принадлежавший его соседу чигиринскому сотнику Богдану Хмельницкому. Чаплинский захватил гумно, где находилось четыреста копен хлеба, и вывез его. Но хуже всего было то, что подстароста умыкнул любовницу сотника. Богдан недавно овдовел и вроде не прочь был жениться еще раз. Скорей всего причиной налета и был спор из-за бабы, а не из-за копен хлеба. К тому же Чаплинский велел высечь плетьми десятилетнего сына Богдана, после чего мальчик расхворался и вскоре умер. Самого Богдана Чаплинский четыре дня держал в цепях, но потом отпустил.
Богдан Хмельницкий с десятью казаками в январе 1646 г. прибыл в Варшаву и лично бил челом королю Владиславу на обидчиков своих.
По сведениям московского лазутчика Кунакова, бывшего в то время в Варшаве, старик Владислав посетовал Хмельницкому на свое бессилие перед беспределом панов. Король одарил казаков сукнами, а Хмельницкому, кроме того, подарил саблю со словами: «Вот тебе королевский знак: есть у вас при боках сабли, так обидчикам и разорителям не поддавайтесь и кривды свои мстите саблями; как время придет, будьте на поганцев и на моих непослушников во всей моей воле».
Задам риторический вопрос – могло ли быть такое в России, что при Алексее Михайловиче, что при Петре I или Екатерине II? Да физически быть не могло! И не только в России, но и в любом сильном централизованном европейском государстве. Беспредел магнатов – это свидетельство слабости государства и предвестник его гибели.
Но вернемся к судьбе чигириснкого сотника. По возвращении в Субботово Хмельницкий получил от гетмана Конецпольского приглашение на банкет. Но хитрый Богдан быстро смекнул, чем для него кончится сей банкет, и не поехал. Тогда Конецпольский послал двадцать всадников взять Богдана силой. Хмельницкий с четырьмя казаками отразил нападение на хутор: пять человек было убито на месте, а остальные бежали. Не долго думая, сотник с сыном Тимофеем и верные ему казаки оседлали коней и поскакали в традиционное убежище казаков – в Сечь.
Польский отряд из 300 поляков и 500 реестровых казаков отправился (видимо, из Кодака) в Сечь ловить Хмельницкого. Согласно казачьему приданию, Богдан отправил двух своих товарищей к реестровым казакам, которые объяснили им, что Хмельницкий – жертва поляков и т. п. Дело кончилось бунтом, реестровые казаки перебили ляхов, а сами подались к запорожцам.
Прибыв в Сечь, Хмельницкий обратился к запорожцам в присутствии кошевого атамана. Он красноречиво описал поругание иезуитов над православной верой и служителями святого алтаря, глумление сейма над казацкими правами, насилие со стороны польских войск над населением малороссийских местечек и городков, вымогательства и мучительства со стороны «проклятого жидовского» рода: «К вам уношу душу и тело, – укоряйте меня, старого товарища, защищайте самих себя, и вам тоже угрожает!» Тронутые этой речью, казаки ответили Хмельницкому: «Приймаемо тебя, пане Хмельницкий, хлибом-силью и щирным сердцем!»
В Сечи вокруг Богдана стали собираться казаки, мечтавшие поквитаться с ляхами. В первых числах марта 1648 г. Богдан с Тимофеем и несколькими товарищами выехали из Сечи на остров Токмаковский, чтобы подкормить лошадей. Так поступали многие казаки, и польские лазутчики в Сечи ничего не заподозрили. А Богдан тем временем скакал в Крым.
Хан Ислам Гирей II долго колебался, давать ли своих воинов в помощь Хмельницкому. Наконец, хан решился, но заставил Богдана присягнуть на своей сабле и оставить сына Тимофея в заложниках. Тем не менее, Ислам Гирей сам не пошел в Малороссию, а отправил с Хмельницким мурзу Тугай-бея с четырьмя тысячами конных татар.
18 апреля в Сечи внезапно объявился Хмельницкий. К тому времени кошевой атаман собрал в Сечи всех сечевых и зимовых казаков. На рассвете следующего дня в Сечи раздались три пушечных выстрела. Ото всюду толпы казаков собрались на раду. На сей раз народу было так много, что все не уместились, как обычно на раде, на сечевом майдане (главной площади). Тогда сечевой атаман предложил выйти в чистое поле за «сечевую фортецию». Там, по словам очевидца, оказалось тридцать тысяч казаков.
В середину круга вышел Богдан в сопровождении четырех знатных татар и объявил, что начинает войну с поляками вместе с крымским ханом. «Услыхав эти слова, войско отвечало: „Слава и честь Хмельницкому! Мы, как стадо без пастуха. Пусть Хмельницкий будет нашим головою, а мы все, сколько нас тут есть, все готовы идти против панов и помогать Хмельницкому до последней утраты живота нашего!“ Эти слова сказаны были „едиными устами и единым сердцем“ всего собравшегося на площади запорожского низового войска. После этой речи тот же час кошевой атаман послал в войсковую скарбницу сечевого писаря с несколькими куренными атаманами и значными товарищами и велел посланным вынести оттуда войсковые клейноты, чтобы вручить их на площади Хмельницкому. Посланные вынесли из скарбницы ярко-красную, писаную золотом, королевскую хоругвь, дарованную запорожцам Владиславом IV, бунчук с позолоченной на высоком древке галкой…
Вручив и поставив перед Хмельницким все войсковые клейноты, низовые козаки объявили его гетманом, поздравляли в новом звании и выразили ему полную готовность… идти с ним на войну».[104]104
Яворницкий Д. И. История запорожских казаков. Т. 2. С. 179–180.
[Закрыть] (Сх. 16)
Лазутчики немедленно донесли полякам о событиях в Запорожье. Но еще раньше коронный гетман Николай Потоцкий двинулся с войском на Украину и 18 февраля 1648 г. вошел в Черкассы, а польный гетман Мартын Калиновский – в Корсунь. Замечу, что все эти передвижения и приготовления к войне происходили без ведома центральных властей. Уже задним числом Потоцкий отписал Владиславу IV: «Не без важных причин, не необдуманно двинулся я в Украйну с войском вашей королевской милости… Казалось бы, что значит 500 человек бунтовщиков. Но если рассудить, с какою смелостью и в какой надежде поднять бунт, то каждый должен признать, что не ничтожная причина заставила меня двинуться против 500 человек, ибо эти 500 человек возмутились в заговоре со всеми казацкими полками, со всею Украйною. Если б я этому движению не противопоставил своей скорости, то в Украйне поднялось бы пламя, которое надобно было бы гасить или большими усилиями, или долгое время».
Польша – не такая уж большая страна, и гонец за день-два мог доскакать до Варшавы и дня через четыре вернуться с приказом короля. Эти четыре дня для Потоцкого не играли никакой роли, за это время и войско-то толком к походу не подготовить. Но, как видим, коронный гетман проигнорировал короля и сообщил ему о своем походе тогда, когда изменить ничего уже было нельзя. Эпизод этот, во-первых, хорошо показывает нравы польских магнатов и слабость королевской власти, а во-вторых, ставит точки над «i»: Богдан шел воевать не с польским народом и даже не с королем, а с шайкой жадных магнатов и арендаторов.
22 апреля 1648 г. Богдан Хмельницкий с войском покинул Сечь и двинулся навстречу ляхам. Без особых проблем казаки захватили крепость Кодак и двинулись к протоке Желтые Воды.
Коронный гетман Николай Потоцкий разделил свое войско. Одна его часть, насчитывавшая от 4000 до 5000 человек, состояла из реестровых казаков и так называемой немецкой пехоты.[105]105
Читателя не должно вводить в заблуждение название «немецкая пехота». Дело в том, что поляки решили обучить часть реестровых казаков западноевропейскому строю и одели и вооружили их как германских пехотинцев. Как хорошо заметил по сему поводу Д. И. Яворницкий: «Немецкая пехота – те же русские, только одеты немцами».
[Закрыть] Командовал ими Барабаш. Эта часть войска должны была двигаться водным путем до Кодака, где находился польский гарнизон. Другая часть войска, насчитывавшая по различным данным от 12 до 20 тысяч человек, состояла из жолнеров и драгун, которыми командовали 26-летний сын коронного гетмана нежинский староста Стефан Потоцкий и казацкий комиссар Шемберг. Эта часть войска должна была двигаться от Черкас сухим путем, также дойти до Кодака и там соединиться с реестровыми казаками первого отряда. Стефану Потоцкому было приказано «пройти степи и леса, разорить и уничтожить дотла презренное скопище казаков и привести зачинщиков на праведную казнь». «Иди, – сказал старый Потоцкий своему сыну Стефану, – и пусть история напишет тебе славу». Сам гетман с коронным войском обещал идти за Стефаном Потоцким.
3 мая реестровые казаки и «немецкая пехота» причалили к правому берегу Днепра у Каменного затона. Тут сечевые казаки встретились с реестровыми и популярно объяснили им ситуацию. Через несколько часов реестровые и «немцы» подняли мятеж и перебили своих начальников Барабаша, Вадовского, Ильяша и других, а трупы их побросали в Днепр.
4 мая реестровые казаки соединились с войском Богдана: они были доставлены к Желтым Водам по просьбе Хмельницкого на конях Тугай-бея и в тот же день вошли в казацкий лагерь на левом берегу Желтых Вод.
Речка Желтые Воды – приток речки Ингульца или Малого Ингула, она образует в своем верховье две ветки: западную, большую, называемую собственно Желтой, и восточную, меньшую, называемую Очеретнею балкой. Между этими двумя ветками образуется полуостров, который в XVII веке был покрыт лесом. Полуостров этот был доступен только с одной, северной, стороны, а остальных сторон был совершенно недоступен.
В этой-то трущобе, у левого берега речки Желтые Воды и засели казаки Хмельницкого, окопавшись земляным валом и укрепившись табором. Хмельницкий хорошо знал, что Стефану Потоцкому не миновать Желтых Вод. Здесь было очень удобное для отдыха место: можно было найти среди сухой степи и воду, и лес, и корм для лошадей, и прохладу. К тому же место это лежало на прямом тракте от западной окраины запорожских вольностей в Сечь и представляло собой возвышенность, господствующую над всей окружающей местностью.
И Хмельницкий не ошибся – Потоцкий, не подозревая засады, пришел прямо к правому берегу Желтых Вод и уже переправился было с правого берега на левый, но тут узнал о засаде казаков и поспешил переправиться обратно на правый берег. На правом берегу поляки построили укрепление, сбили возы в четырехугольник, вывели вперед себя на версту кругом вал и поставили пушки.
5 мая 1648 г. началось знаменитое сражение у Желтых Вод. Битва длилась три дня. Поляки храбро отбивались, но, в конце концов, были вынуждены сдаться. В плен попали Стефан Потоцкий (вскоре в плену он скончался от ран), Шемберг, Сапега,[106]106
Павел Ян Сапега (1610–1665 гг.), первоначально кальвинист, затем католик. С 1655 г. воевода виленский, великий гетман литовский. Активный участник войны с Россией, Швецией и восставшими казаками, сохранил верность королю Яну-Казимиру и возглавил борьбу со шведами в Великом княжестве Литовском.
[Закрыть] Чарнецкий и другие, всего 80 знатных панов.
Разбив молодого Потоцкого, Хмельницкий двинулся на старого к Корсуню. Стоит отметить, что уже тогда Богдан проявил себя как опытный военачальник. Так, он быстро навел порядок в запорожском войске. На больших лодках, на которых реестровые казаки плыли по Днепру, имелось 26 пушек и фальконетов калибра 1–3 фунта. Богдан приказал немедленно изготовить для них примитивные деревянные станки с двумя колесами и оглобельными передками, в которые впрягали одну лошадь. В прислугу к этим орудиям Богдан определил лучших запорожских стрелков. Как гласит летопись: «Эти вновь назначенные пушкари также искусно стреляли из армат, как и из мушкетов».







