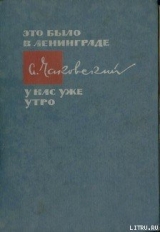
Текст книги "Мирные дни"
Автор книги: Александр Чаковский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
– В главк, – сказала Ирина. – Мне предлагают ехать работать в сибирский филиал.
Сначала я просто ничего не поняла.
– Как ехать? Тебе? – недоуменно переспросила я.
– Ну да, мне, – повторила Ирина. – Что тут непонятного?
Между тем тоном, спокойным и только слегка раздражённым, которым говорила Ирина, и содержанием её слов был такой разрыв, что я никак не могла поверить в то, что она рассказала.
– Но как же так? – спросила я. – Почему именно тебе? И насколько? И как же Василий Степанович? Да расскажи же толком: что случилось?
Мы шли с Ириной по заводскому двору.
– Все очень просто, – ответила Ирина. – На филиале решено внедрить закалку в производственный процесс, – ты знаешь, ведь там поточный способ. Меня вызвали в главк и предложили поехать туда и помочь организовать это дело.
– Надолго?
– Об этом не говорили. Из беседы я поняла, что это поездка на несколько месяцев.
– Ну, а что же ты? – прервала я Ирину. – Разве ты не могла отказаться?
– От чего? – взглянув на меня, спросила она. – От чего я могла отказаться? Два года мы вместе работаем над закалкой, и вот представляется возможность заняться не экспериментом, а широким внедрением закалки в производство. Как я могла отказаться?
– Да что ты такое говоришь, Ирина? – снова прервала её я. – Ведь ты же теперь не одна. Разве Василий Степанович отпустит тебя? – Я подумала: «Неужели у них жизнь не налаживается?»
Ирина ответила не сразу.
– Ты помнишь, мы как-то втроём гуляли по парку и Василий вдруг начал говорить о том заводе? Ну вот, – продолжала Ирина, – как же ты можешь думать, что он меня не отпустит? У него нет двух правд, а только одна. И потом, что это за слова – «отпустит», «не отпустит»?
Мы вошли в маленький садик, разбитый в конце двора, и сели на скамейку. Я старалась осмыслить всё, что сказала мне Ирина. Это было так неожиданно и странно, что не укладывалось в голове.
– И ты едешь? – спросила я Ирину.
– Да.
– И тебе не жалко?
Ирина посмотрела мне в глаза и медленно покачала головой.
– Да, конечно, зачем говорить неправду… Он снова останется один, но ведь это же не навсегда. Ведь вот вы с Сашей тоже четыре года не были вместе. Когда я решала, то думала о вас.
– Так это же была война! – вырвалось у меня.
– Нет, – убеждённо сказала Ирина, – тут дело не в войне. Тут дело в жизни. В отношении к жизни. Ты всё ещё не согласна со мной?
От этого напрямик поставленного вопроса мне стало не по себе. Я вдруг поняла, что всё, о чём говорила Ирина, было правдой, нашей правдой, той самой, которой мы жили все эти годы, и мне стало стыдно оттого, что я сразу не смогла этого понять.
– Когда ты едешь? – спросила я.
– Очень скоро, может быть, на днях. Едет целая бригада.
– Может быть, ты зайдёшь сегодня к нам? – спросила я, стараясь, чтобы Ирина не заметила моего смущения. – С момента приезда Саши ты ни разу не была у нас.
– Хорошо, – согласилась Ирина, – может быть, я сегодня зайду…
Вечером я сказала Саше:
– Ты знаешь, Ирина уезжает в Сибирь, работать в филиале.
– То есть как это? Совсем?
– Нет, но всё же надолго.
Саша помолчал немного, а потом сказал:
– Жалко. Ты ведь говорила, что они с Каргиным поженились.
– Почему же жалко? – спросила я.
– Ну… я подумал, что, может быть, у них что-то разладилось, раз она уезжает. Ирину было бы жалко. Она столько испытала в жизни…
– У них ничего не разладилось, – выпалила я, и слова мои прозвучали зло. Мне почему-то стало неприятно, что Саша подумал то же самое, что и я, когда Ирина сообщила мне о своём отъезде. – У них ничего не разладилось, – повторила я. – Наоборот. И всё это не имеет никакого отношения к её отъезду. Ей вовсе не хочется расставаться с Каргиным.
Саша посмотрел на меня. Очевидно, его удивил мой тон.
– Кто же её заставляет? Главк?
– Совесть.
Саша улыбнулся.
– Непонятно говоришь, Лидуша.
– Ах боже мой, – прервала я его, – что же тут непонятного?
Я говорила раздражённо и в то же время прекрасно сознавала, что недовольна Сашей только потому, что он выглядел в этом разговоре так же, как выглядела я в разговоре с Ириной.
– Что же тут непонятного? – повторила я. – Завод наш, там плохо с кадрами. Поедет не одна Ирина, а целая бригада.
– Понимаю, – кивнул Саша.
Теперь я пристально посмотрела на Сашу. Я вдруг почувствовала, что где-то в глубине сознания мне очень хочется, чтобы он сказал что-нибудь очень важное, правдивое, главное в эту минуту.
И в эту самую минуту в дверь постучала Ирина.
Наша встреча превратилась в вечер воспоминаний, и я только и слышала: «А помните?», «А это вы помните?»
– Вы подумайте, Ирина, – говорил Саша, – как все получилось! Ведь это полное исполнение желаний, как говорили гадалки. Ну, кто бы из нас поверил в тысяча девятьсот сорок втором году, что мы втроём будем тихо и мирно сидеть в комнате, и не просто в комнате, а в этой самой, пить чай и вспоминать обо всём. Ведь так только в романах бывает, да и то авторов потом упрекают в неправдоподобии. – Он засмеялся и добавил: – А теперь вот всё стало на свои места. Впрочем, вы, кажется, срываетесь с места?
Меня покоробил его каламбур.
– Да, я уезжаю, – просто ответила Ирина.
– И все действительно обстоит так, как мне рассказывала Лида?
Ирина посмотрела на меня и улыбнулась.
– Я, собственно, не знаю, что вам успела рассказать Лида, но думаю, что именно так.
– И вы действительно бросаете всех нас? – полушутливо продолжал Саша.
– Бросаю, – в тон ему ответила Ирина. – Здесь теперь не страшно: не стреляют.
– Ну хорошо, – не успокаивался Саша, – я готов допустить, что разлуку с нами вы переживёте. Но ведь есть ещё кто-то?
Глаза Ирины вдруг стали строгими и брови сдвинулись.
Но Сашу это, видимо, не смутило. Он продолжал негромко и спокойно:
– Не буду скрывать, Ирина, мы с Лидушей только что говорили о вас и о вашем отъезде. У нас даже возник на этой почве небольшой спор. И раз вы сами тут, то тем легче будет его разрешить.
– Не надо, – вырвалось у меня, – ну, не надо споров! Ирина в первый раз пришла к нам…
– Но этот первый раз легко может оказаться последним, – с улыбкой проговорила Ирина, – ведь я уезжаю. Не зажимай рта мужу, – добавила она, чуть усмехаясь, – а то вдруг я уеду – и ваш спор останется неразрешённым. Итак?
– Мы говорили о вашем отъезде, – начал Саша, – и я… словом, я удивился, когда узнал об этом. Я понимаю, что человек ради любимого дела может поехать хоть на край света. Я пойму и того, кто поедет туда, подчиняясь приказу, дисциплине. Я почти пять лет пробыл на фронте и видел, как люди шли на самые опасные дела по приказу и без приказа. Все это бесспорно. – Он замолчал, подыскивая слова.
– Так о чём же спор? – спросила Ирина.
– Видите ли, – медленно продолжал Саша, – мне непонятно, как же можно сразу поехать за тридевять земель только потому, что и там можно с пользой работать. Я понял бы это, если бы вы здесь сидели без дела, но ведь я знаю, что вы работаете, больше того, вы ведёте большую, важную работу.
– Я могу ответить вам тремя словами, – сказала Ирина: – там я нужнее. Да и уезжаю я не навсегда, а на сравнительно короткий срок. Вот и все.
– Нет! – возразил Саша. – Вы кривите душой, Ирина, это не похоже на вас. Вспомните, в какое время мы виделись с вами в Ленинграде! – воскликнул Саша, и я поняла, что он искренне взволнован. – Страшно подумать… И мне так радостно видеть вас сейчас вот такую, красивую, полную сил, – уж кто-кто, а вы-то имеете право на счастье. Поймите же, мне хочется, чтобы люди вроде вас, которые вынесли на своих плечах так много, получили бы наконец возможность пользоваться засуженным счастьем.
Он замолчал.
– Послушайте, Саша, – тихо отозвалась Ирина, и я с радостью заметила, что в голосе её нет ни раздражения, ни обиды, – я тоже могу кое-что вспомнить. Был вечер… Вы помните тот вечер, когда все ушли и мы остались там в комнате, на заводе?.. Помните?
– Конечно.
– И я спросила вас: «Если бы вы нашли свою Лиду, вы были бы совершенно счастливы?»
– И я ответил: «Конечно», – прервал её Саша, взглянув на меня.
– Да, вы ответили «конечно», но я сказала вам в ответ, что и мне, и Иванычу, и многим другим было бы уже мало просто возвращения старого. Для вас встреча была бы завершением всего, идеалом, исполнением всех желаний. А для меня, если бы даже вернулся тогда мой Григорий, эта встреча была бы началом чего-то нового, трудного, опять какой-то борьбы и стремления к лучшему.
– Ну хорошо, – согласился Саша, – может быть, я тоже так думаю, только не говорю об этом. Однако речь идёт о поступках. Неужели кто-нибудь, даже с позиций самой чистой морали, смог бы упрекнуть вас, именно вас, в том, что вы воспользовались бы маленькой частицей того счастья, которое завоевали? Ведь сейчас мир.
– Не знаю, – задумчиво ответила Ирина. – Я думаю, что дело здесь глубже. Для меня он, этот сегодняшний мир, не менее сложен, чем война. И принципы, по-моему, одни и те же. А кроме того, я не приношу никаких жертв. Я живу так, как считаю единственно возможным.
Снова наступило молчание. Саша тихо постукивал по столу костяшками пальцев, а мне уже давно хотелось прервать этот разговор, изменить его направление. Я уже несколько минут перебирала в мыслях слова, которые надо произнести, чтобы покончить с этим разговором, и, как назло, ничего не могла придумать.
– Счастье?.. – с какой-то лёгкой усмешкой тихо проговорила Ирина. – Неужели вы верите, что счастье – это что-то вроде синей птицы, которую хотят поймать мальчик и девочка? Но ведь это сказка. Её и во МХАТе-то только днём рассказывают, для вечера она уже недостаточно серьёзна. Нет, Саша, счастье нельзя поймать и посадить в клетку. Настоящее счастье такое огромное, что не уместится ни в клетке, ни даже в самой уютной комнате.
Она снова замолчала. Я чувствовала, что слова Ирины, в особенности последние, обидели Сашу. Наконец он медленно встал из-за стола и сказал:
– Что ж, есть споры, которые никогда не кончаются. Во всяком случае, я желаю вам всего самого хорошего… Я пойду купить папиросы.
Он снял с вешалки кожанку и вышел.
Я поняла, что он ушёл, чтобы прекратить этот разговор.
Мы остались с Ириной вдвоём. И как только ушёл Саша, мне стало не по себе. Я чувствовала, что не могу посмотреть Ирине прямо в глаза.
– Ты не думай, – сказала я с трудом, – ты не думай, что он… – Я не могла подобрать нужных слов.
– Ничего, – ответила Ирина, подходя близко ко мне, – ничего, я понимаю… Он просто хотел поспорить.
– Да, да, – подхватила я её слова. – Ты ведь знаешь его, он всегда любил спорить.
Слова, которые я произнесла, показались мне ненужными и смешными.
Ирина попрощалась:
– Я пойду, Лидуша, уж поздно. До завтра.
Она ушла, не дожидаясь моих прощальных слов.
Через несколько минут вернулся Саша.
И вдруг меня охватила тревога. Ничего не изменилось в нашей комнате, по-прежнему жёлтый мягкий свет наполнял её, и Саша по-прежнему сидел в кресле, внимательный и нежный ко мне, как всегда, но я почувствовала смутную тревогу.
«Я должна наконец поговорить с Сашей о Кольке, – сказала себе. – Не могу, не имею права ничего скрывать от него».
И я сказала:
– Саша, есть одна вещь, которая мучит меня, не даёт мне покоя. Я думала сначала, что это пройдёт, но ничего не проходит.
– Что случилось, Лидуша? – спросил он, наклоняясь ко мне.
– Коля… – едва выговорила я.
– Что с ним?
– Мне трудно, невозможно сознавать, что он где-то близко от меня и в то же время не со мной.
Я встала, и Саша тоже встал, и на минуту мне показалось, что в его глазах мелькнул испуг.
– Саша, – сказала я, стараясь не глядеть ему в глаза, – давай возьмём Кольку.
Он ответил не сразу. Он смотрел куда-то в землю, словно избегал встретиться со мной взглядом.
– Ты хочешь, чтобы мы взяли его… совсем? – спросил Саша, по-прежнему не поднимая глаз.
– Да, – тихо промолвила я и сразу почувствовала облегчение.
Саша молчал. Он поднял голову и стал медленно ходить взад и вперёд по комнате. Наконец он остановился рядом со мной.
– Но ведь он всё уже понимает и всё помнит. И я для него совершенно чужой человек!
– Он привыкнет, привыкнет! – воскликнула я. Мне казалось, что Саша уже готов согласиться, что нужно только убедить его – и всё будет хорошо. – Он обязательно привыкнет, – ещё раз повторила я. – Он ведь тогда, в детдоме, и меня долго дичился. Но теперь он такой общительный, ты же видел, как он быстро с тобой освоился…
– Лида, – прервал меня Саша, – я не понимаю… Зачем нам чужой? Ведь у нас может быть свой ребёнок?
– Да, да, – торопливо ответила я, – но его ещё нет, а Коля есть, он существует. И у него уже никогда не будет родителей.
Я подошла и обняла Сашу. Но он, пожалуй, в первый раз, осторожно, но настойчиво отвёл мои руки и спросил:
– Лидушка, зачем тебе? – В его голосе звучали сожаление и обида.
Я замолчала, чувствуя, что уже больше ничего не могу сказать, села на подоконник и стала глядеть на улицу…
В тот вечер мы не произнесли больше ни слова.
Я проснулась ночью, почувствовала, что Саши нет рядом, и, открыв глаза, увидела, что он сидит у окна и смотрит на меня. Должно быть, он ещё не ложился. За окном горели фонари, и голова Саши казалась резко очерченной на светлом фоне окна.
И мне захотелось выскочить из постели, обнять его и сказать тихо, на ухо, что всё прошло, что пусть всё будет по-старому.
Но я не смогла этого сделать, что-то заставляло меня неподвижно лежать в темноте и молчать.
В ту ночь я так и не ложился спать.
«Как мог я проглядеть все это? – думал я. – Ведь Лида сказала, что уже несколько недель думает о мальчике, мучается, а я ничего не видел, не замечал. Почему я ничего не почувствовал?»
Под утро я задремал. Меня разбудила Лида. Она сидела на перильце кресла, обнимала меня и говорила:
– Ну, не надо, не надо, Сашенька, я понимаю, что была не права. Я была эгоисткой, теперь я понимаю. Забудем, я никогда не буду больше об этом говорить!
Она смотрела мне прямо в лицо и улыбалась открытой и ясной улыбкой. Это была по-прежнему моя Лида, такая, какой я её знал и любил.
– Нет, – возразил я, – тебе не в чем оправдываться передо мной. Ты была права.
– Ну, не будем говорить об этом, Сашенька, – повторила Лида.
Больше мы о Коле не говорили. На завод поехали вместе.
В тот день я должен был написать очерк о заводской новостройке.
Уже вскоре после моего поступления в редакцию, осматривая завод, я увидел, что он имеет как бы два лица. С первого взгляда, «со стороны», он казался большим, спокойным, размеренно работающим заводом. Но оказалось, что позади действующих цехов возводились два новых – инструментальный и прокатный. Когда я в первый раз попал туда, были уже возведены стены одного из цехов – красные невысокие стены. Закладывался фундамент для второго цеха, и экскаватор со скрежетом вгрызался в землю.
Было странно видеть это строительство бок о бок со старым, планомерно действующим заводом. Впервые придя сюда с Андрюшиным, я подумал, что не только здесь, на заводе, я вижу это сочетание старого с новым. Ведь и наш дом тоже ещё строится, как и вообще каждый дом в Ленинграде: хоть что-нибудь в нём изменяется или возводится заново.
Все, все находилось в движении, ни о чём нельзя было сказать, что вот это уже готово, что и сегодня вечером, и завтра, и послезавтра оно будет таким же.
Сотрудник, который занимался вопросами этого строительства в нашей газете, заболел, и заменить его было предложено мне. Сразу же я обратил внимание на характерную особенность: здесь почти не было профессионалов строителей. Почти каждый кровельщик, с которым мне приходилось вступать в разговор, обязательно оказывался литейщиком, стекольщик – слесарем, штукатур – токарем или инструментальщиком. Большинство из них были кадровыми рабочими этого завода и только временно, из-за нехватки строителей и необходимости возможно скорее отстроить цехи, стали строителями.
Ещё одно обстоятельство бросилось мне в глаза: темп работы. Стены одного цеха и фундамент другого росли точно на дрожжах: люди хотели закончить строительство до наступления зимы.
Новостройку возглавлял инженер Вяльцев, будущий начальник нового инструментального цеха. Человек средних лет, с длинным сухощавым лицом и сосредоточенно поджатыми губами, он казался мне странным сочетанием специфически ленинградской корректности с типично «прорабовской» резкостью и приверженностью к сильным выражениям. Он мог говорить в спокойной, академической манере и вдруг, точно превратясь в другого человека, сильно и громко выругать кого-то или что-то; мог не торопясь, с достоинством идти по строительной площадке, стараясь обходить лужи и грязь, и вдруг сломя голову карабкаться на возводимую стену и оттуда, с высоты, что-то кричать и кого-то отчитывать.
И в нём, Вяльцеве, пожалуй, самым характерным было то, что, как я уже говорил, отличало здесь всех: стремление делать все скорее, с каждым днём скорее, выигрывать время.
Я как-то шутливо спросил Вяльцева, после того как он поспешно, пачкая костюм и обдирая ботинки, спустился, вернее – скатился со стены:
– Куда это вы так торопитесь, товарищ Вяльцев?
– Жить тороплюсь, – ответил он, на секунду разжимая губы.
Я подумал тогда, что в этом шутливом, на ходу сказанном ответе сейчас заключался какой-то новый, ранее отсутствовавший подтекст.
В тот день, находясь на строительной площадке, я увидел направляющегося сюда Каргина. Он шёл с заводской территории в своём обычном синем костюме, галстук его был сдвинут немного набок, светло-серые, точно покрытые цементной пылью, волосы развевал ветер.
Каргин казался магнитом, притягивающим к себе остальных людей. По мере приближения Каргина головы людей, склоненные над работой, поднимались и взгляды устремлялись к нему. Некоторые из работающих просто здоровались с ним, другие вместо приветствия кричали подчёркнуто грубо: «Слышь, секретарь, алебастр-то опять дают паршивый, кашу бы из него для тех снабженцев варить…» Не было человека, который остался бы безразличен к приходу Каргина.
Я подумал тогда о непонятной способности этого человека вмешиваться во все дела. Совершенно незаметно он и в моей жизни стал играть немаловажную роль.
Увидев меня, Каргин приветливо помахал рукой и, поравнявшись, спросил:
– Ну как? Привыкаете?
Я ответил, что «понемногу».
– Понемногу не годится, – шутливо заметил Каргин и добавил: – Ваша передовая о быте мне очень понравилась. Нужная статья.
Я никогда не думал, что похвала этого человека может так обрадовать меня.
Я вернулся в редакцию, но меня сейчас же отправили в мартеновский цех.
Едва войдя в помещение цеха, длинное и узкое, я понял, что здесь что-то стряслось. У одной из печей столпились люди.
Печь горела странным, неестественным пламенем. Пламя было каким-то однобоким и вместе с дымом и гарью продолговатым языком рвалось из печи.
Отработанные газы, обычно уходящие по специальной трубе, теперь по какой-то причине вырывались наружу. Люди стояли, прижав носовые платки к лицам, прикрывая рукою глаза.
В ту минуту, когда я подходил к печи, начальник цеха сказал, махнув рукой:
– Ну, думать нечего, Иваныч, распорядись, чтобы прекратили подачу газа.
Через несколько секунд язык пламени стал укорачиваться и постепенно исчез. Теперь в полумраке цеха печь пылала строгим и спокойным ярко-красным цветом, как это бывает с обыкновенной домашней печью, когда в ней прогорают угли.
– На сутки печь из строя, – устало проговорил начальник цеха.
Я вышел. У входа в редакцию меня встретил Андрюшин.
– Ну, что там такое? – спросил он.
– Дым из печи валит и пламя, – ответил я. – Начальник велел прекратить подачу газа.
– То есть как это прекратить? – переспросил Андрюшин. – Остановить печь?
– По-видимому, – неуверенно произнёс я.
Андрюшин ничего не ответил и пошёл по направлению к цеху.
Я поднялся наверх и доложил редактору о происшествии в мартеновском. Я сказал ему, что через час зайду к начальнику цеха и тогда узнаю все подробности.
Через час я позвонил начальнику по телефону, но его на месте не было. Я сел писать свой очерк о новостройке, увлёкся и писал, наверно, очень долго, как вдруг услышал голос Андрюшина:
– Вы ходили в мартеновский, товарищ Савин?
Мне трудно было сразу оторваться от работы, и я пробормотал виновато:
– Никак начальника не застану, уже несколько раз звонил.
– Начальник в цехе, – коротко ответил мне Андрюшин и исчез.
Я встал, спрятал свои рукописи в шкаф и пошёл в цех.
И снова я увидел у печи группу людей. Печь, видимо, уже не работала, по крайней мере пламя не вырывалось из неё. Я подошёл и увидел в центре стоящих кружком людей Ивана Ивановича Иванова. Несмотря на жару, он был почему-то в валенках, в стёганой куртке и шапке-ушанке, козырёк которой был опущен. Тут же стояли начальник цеха и инженер. В стороне я увидел Андрюшина.
– Ну, давай, что ли! – сказал Иванов и, не глядя на расступившихся перед ним людей, пошёл к печи.
Я подумал, что он хочет что-нибудь осмотреть, но, к моему удивлению, Иванов не остановился у печи, а полез в её раскаленную пасть.
Даже на расстоянии двух метров от печи, где я находился, было трудно стоять.
Все люди, точно по команде, шагнули к мартену. Иванов выпрыгнул и продолжал стоять скрючившись. От него валил пар. Я почувствовал запах горелой материи.
Иванов медленно стянул с рук дымящиеся рукавицы и бросил их на землю. Инженер подскочил к нему и хотел было расстегнуть на Иванове стёганку, но, едва дотронувшись, отдёрнул руку.
Все молчали, пока Иванов раздевался. Наконец стёганка, валенки и рукавицы лежали на земле и дымились, как только что потушенный костёр. Лицо Иванова было сплошь черным. Все по-прежнему молчали.
– В борове обвал, – хрипло сказал он. – Кирпичи обвалились. Я малость раскидал. Ещё надо.
И сразу, как только произнёс он эти слова, стало легче дышать. Все бросились к нему и наперебой стали спрашивать, как велик обвал, много ли кирпичей обрушилось и удастся ли их раскидать.
А я стоял и не понимал, как это можно задавать такие обычные, будничные вопросы человеку, только что вернувшемуся из ада. Мне было бы стыдно спрашивать его о чём-либо подобном.
– Послушайте, – обратился ко мне Андрюшин, – дуйте сейчас в редакцию, надо успеть дать это в номер. А подробности завтра.
Пока он говорил, я заметил, как один из окружавших Иванова людей нагнулся и стал разбирать брошенную Ивановым одежду. Он поднял ватные штаны, помахал ими в воздухе, – должно быть, для того, чтобы они окончательно остыли, и стал напяливать их на себя.
– Что это? – тихо спросил я Андрюшина. – Опять?
– Вы не слышали, что там обвал? – вполголоса ответил Андрюшин.
– Но ведь Иванов… – начал было я.
– Что Иванов? – прервал меня Андрюшин. – Там температура не менее двухсот, а кирпич надо раскидать… Будут лазить по очереди. А вам надо скорее в редакцию.
Я посмотрел на часы. Половина шестого. Андрюшин был прав: надо было спешить.
Вернувшись, я рассказал редактору о том, что видел.
– Валяй двадцать строк, – бросил редактор. – Назовём «Сознательность рабочего».
«Дубина!» – мысленно выругался я. Передо мною возникло чёрное лицо Иванова и дымящаяся куча одежды. То, что у редактора на каждый случай жизни был готовый заголовок, выводило меня из себя.
Я сел писать заметку. Но у меня ничего не получалось. Мне хотелось сказать очень много, а места было мало.
Время прошло совсем незаметно, и я услышал голос редактора:
– Савин, готово?
Я встал и, войдя в закуток, сказал:
– Нет, не выходит. Поручите кому-нибудь другому.
Редактор выпучил на меня свои рачьи глазки.
– Да ты шутишь, голуба? – прохрипел он. – Двадцатистрочная заметка не получается?
– Дело не в том, заметка это или нет. Дело в содержании. Словом… не выходит.
Редактор покачал головой и добавил:
– Избаловал я тебя, Савин, на очерках. Вот и не хочешь теперь заметки писать. А я вот тебе скажу: садись-ка за стол, и чтобы через пятнадцать минут заметка была передо мной! Ясно?
Он стукнул ладонью по столу.
Я вернулся и, не задумываясь, одним махом написал заметку. Мне не хотелось её перечитывать.
– Ну вот, – буркнул редактор, читая мою заметку, – получилось? То-то! Дисциплина!
Заметка пошла в набор. Но я по-прежнему чувствовал себя нехорошо. Мне казалось, что я в чём-то виноват перед Ивановым. Я уехал с завода в отвратительном настроении. Вечером Лида спросила меня:
– В чём дело? Ты какой-то странный сегодня. – Она погладила меня по руке. – Ты не думай больше об этом.
Ей казалось, что я всё ещё нахожусь под впечатлением вчерашнего разговора о Коле. А дело-то было совсем в другом.
Надо сказать, что отношения наши с Андрюшиным за последнее время как-то незаметно испортились. В этом я отдал себе отчёт впервые, когда как-то попросил Андрюшина пройти со мной в литейный цех.
Мы пошли по заводскому двору.
– Знаешь, – заметил я, – мне приходилось бывать на этом заводе во время блокады. Ничего похожего!
Андрюшин посмотрел на меня, и мне показалось, что в уголках его тонких губ мелькнула насмешка.
– А что же может быть похожего? – спросил он. – Да и блокады-то давно нет.
– Не в этом дело, – возразил я, удивлённый его тоном, – не в этом дело. Тому, кто видел, что тут было тогда, трудно оставаться спокойным.
– Эти разговоры, знаете, у меня вот где сидят, – сказал резко Андрюшин, быстро проводя пальцами по шее. – Мать вот моя из эвакуации вернулась, в сорок втором её вывозили. Гуляем мы с ней по городу, и только и слышишь: «Ах, Витенька, а ведь тут дом стоял разрушенный, а теперь во-он какой построили. Ах, Витенька, а ведь тут дзоты были, а теперь во-он какие витрины блестят!» Как будто на второй год после победы на улицах должны ещё быть дзоты.
– Послушайте, по-моему, вы чепуху городите, – ответил я, сердясь и переходя на «вы». – Что ж, вы хотите, чтобы советский человек не испытывал радости или, если хотите, восторга, видя, как восстанавливается то, что было разрушено врагом? И разве не приятно вам как советскому журналисту писать о наших достижениях, видеть их, подмечать?..
– Ах, да кто об этом говорит! – прервал меня Андрюшин. – Тут все грамотные. Я ведь совсем про другое говорю. Ведь этак можно в телячий восторг прийти: «Ах, дзотов уже нет!», «Ах, дом покрасили!», «Ах, окна вставили!» А на что эти телячьи восторги? То, что наше, – нашим и будет. А меня интересует: как дом выстроили, как окна вставили? И нельзя ли получше! Ну, вот и литейный цех, – сказал Андрюшин.
Меня сразу же оглушил стук и звон: это разбивали бракованное литье. Над нашими головами, точно диковинная хищная птица с сомкнутым клювом, проплыл черпак, ринулся на платформу с песком, разомкнул челюсти, снова сомкнул их, захватив песок, и с добычей снова поплыл по поднебесью.
От вагранок и ковшей исходил неяркий дрожащий свет. Когда мы входили в цех, вагранщик взмахнул шестом, пробил летку, и в жёлобе показался огнедышащий чугунный шар, постепенно теряющий свои очертания.
Вид литейного цеха наполнил меня радостным ощущением молодости.
Андрюшин снова заговорил:
– Вот я и в нашей редакции всё время бой веду. Мне, например, редактор говорит: «Андрюшин, подготовь полосу с восстановлением завода». Я готовлю. Только из моей полосы получается что-то не очень торжественное. Сдаю редактору. Через час он меня вызывает и говорит… – Здесь Андрюшин стал отдуваться и говорить, так похоже копируя редактора, что я чуть не покатился со смеху: – «Ты, говорит, что это тут изобразил? Коли мне нужна была критическая полоса, так я тебе сказал бы: критическую давай! А я тебе сказал – обобщённую!» А я вот не понимаю, – продолжал Андрюшин, – как можно для критики – одно место, для похвалы – другое. Для критики – четверг, для похвалы – пятницу. Я ведь знаю, какую ему, толстому черту, полосу надо было! Не «обобщённую» – слово-то какое! – аллилуйскую! А я не могу. Я хожу по заводу и думаю: «Здорово! Как все здорово!» А потом спрашиваю себя: «Но могло бы быть лучше?» И отвечаю: «Могло!» Если бы очень захотелось, так могло бы! Ну, могу я об этом не писать в полосе? А? Ну, скажите, могу? А он мою полосу в корзину.
Эту последнюю фразу Андрюшин произнёс не задиристым, а упавшим, обиженным тоном.
«Что с этим парнем творится?» – подумал я раздражённо.
В течение нескольких последующих дней Андрюшин словно избегал меня, но вот однажды после работы он поравнялся со мной в дверях и, глядя куда-то поверх моего плеча, сказал:
– Мне хотелось бы побеседовать. Если есть время, конечно.
– Время есть, – ответил я и взял Андрюшина под руку. Мы вышли на заводской двор.
– Вы в термической обработке разбираетесь? – угрюмо спросил Андрюшин.
– Немного.
– Так вот, тут лаборатория наша реконструкцию одну задумала: вместо горячей обработки хотят ввести высокочастотную закалку. Это дело надо поддержать в газете. Вы не думайте, что я так, с кондачка говорю, – повысил он голос, – я всю литературу перечитал и со многими людьми говорил – и с рабочими и с инженерами. Вы слушаете?
Мне стало не по себе, что я слышу о деле, связанном с Лидой, от этого парня. Выходит, что он уговаривает меня помочь Лиде? Меня!
– Так вот, – продолжал Андрюшин, останавливаясь и дотрагиваясь до моего локтя, – дело это новое, и редактор боится. Я уже давно веду на него атаку. Поможете? – спросил он, смотря мне прямо в глаза.
– Ну, мы ещё поговорим об этом, – сказал я. – А теперь у меня есть к вам вопрос: что случилось? Вы обижены на меня за что-нибудь? Не будете же вы отрицать, что ваше отношение ко мне резко изменилось.
– Не буду, – отрезал Андрюшин и с вызовом посмотрел мне в лицо.
– Так что же случилось?
– Вы знаете, – продолжал после некоторого молчания Андрюшин, – мне перестало нравиться то, что вы пишете. Да, да, – заторопился он, – вы, конечно, можете надо мной смеяться, я для вас мальчишка, начинающий. Но раз вы меня спрашиваете, я отвечаю.
– Что же именно вам не нравится?
– Ваши очерки, – заявил Андрюшин и быстро добавил: – Я говорю не о литературной стороне. Здесь я не судья.
– А о какой же?
– О внутренней.
– Не понимаю.
– В ваших очерках всё есть и всё правильно. Но мне кажется, что то же самое, слово в слово, вы смогли бы напечатать и на любом другом заводе. Я сам не знаю, как это получилось, товарищ Савин. Ведь я восхищался вашим мастерством, я знаю, мне у вас учиться и учиться надо. Но вот вижу – не то. Что-то не то.
Мы подошли к заводским воротам.
– Так как же, поможете лаборатории? – спросил Андрюшин, когда мы вышли из проходной.
– Я подумаю, – сухо ответил я.
– Так. Понятно, – сказал Андрюшин. – Мне на автобус – И он зашагал в сторону.
Я медленно шёл к трамвайной остановке. Настроение было подавленное. Мысли мои снова вернулись к заметке об Иванове. Эта история не выходила у меня из головы.
«А что, если я сейчас пойду к Иванову и поговорю с ним? – подумал я. – Ведь я всегда могу вернуться к этой теме».






