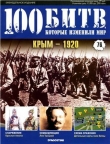Текст книги "Крым"
Автор книги: Александр Проханов
Жанры:
Роман
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Глава 8
Лемехов любил возвращаться в свой загородный особняк в Барвихе. После утомительных совещаний в министерствах, после поездок на заводы и полигоны в уютной машине, в сопровождении тяжеловесного джипа он мчался по Рублевке, расплескивая лиловые вспышки. Прорывался сквозь чад и рокот к Москве-реке, к реликтовым соснякам, к великолепным дворцам и усадьбам. Его дом был построен в стиле ампир. Архитектор использовал мотивы подмосковной усадьбы Суханово, где Лемехов в детстве жил вместе с мамой, в доме отдыха архитекторов. Чудесны были белые колонны и медового цвета фасад, ажурная беседка и зимний сад, просторная ротонда и изумрудного цвета газон.
У чугунных узорных ворот его приветствовал охранник:
– Здравия желаю, Евгений Константинович. За время вашего отсутствия происшествий нет.
Газон был сочный, зеленый, очищенный от палой листвы. Вдалеке белела беседка с колоннами. Кусты вокруг нее казались оранжевыми, красными и золотыми шарами. Садовник в фартуке, с секатором, снял перед ним тирольскую шляпу:
– С приездом, Евгений Константинович. Докладываю, что ваши любимые голландские георгины выкопаны и чудесно перезимуют. Розы укрыты, а уссурийский орех утеплен, и ему не страшны морозы. Загляните в оранжерею, там вас ожидает сюрприз.
– Спасибо, Валентин Лукьянович, рад вас видеть.
Лемехов прошел к дому. К стеклянному входу вели черные, чугунного литья ступени. Фронтон был украшен литыми павлинами. У входа стояли два мраморных льва. Лемехов тронул теплой рукой холодную львиную голову.
В доме было светло и чисто. Веяло свежестью просторных прибранных комнат. Его встретил миловидный пожилой служитель Филипп Филиппович, которого Лемехов называл «мажордомом».
– Заждались вас, Евгений Константинович. С прибытием. – На лице мажордома гуляла простодушная искренняя улыбка.
Лемехов, отдавая мажордому пальто, шутливо спрашивал:
– Нет ли каких известий от государыни императрицы? Здоров ли светлейший князь Остерман? И верно ли, что у баронессы фон Зигель ощенилась болонка?
– Все хорошо, Евгений Константинович. Все, слава богу, здоровы. Обед сейчас велите подать?
– Чуть погодя, Филипп Филиппович.
Ему не терпелось заглянуть в зимний сад и узнать, какой сюрприз его ожидает.
Оранжерея напоминала прозрачный кристалл. Теснились кадки с растениями. От глянцевитых листьев, тропических цветов, укутанных в мох стволов исходили испарения, туманившие стекла зимнего сада.
Лемехов, задевая плечами ветки, прошел к бассейну. В нем плавали круглые, как зеленые тазы, листья Виктории Регии. Из темной глубины всплыл цветок.
Белоснежные лепестки. Золотые тычинки, окружавшие крохотный слиток золота. Дивная звезда взошла над темной гладью бассейна, в котором промелькнул и скрылся рыбий плавник. Лемехов с восхищением смотрел на цветок. Своей целомудренной красотой и доверчивой негой он говорил о благополучии дома, о достатке и изобилии, где только и мог расцвести этот волшебный цветок Амазонки.
Среди растений, собранных стараниями садовника Филиппа Филипповича, были три дерева, которым Лемехов поклонялся. Это поклонение исходило из глубин древних верований, которые в нем тайно цвели среди рокота танковых моторов, взлета ракет, отточенной логики научных концепций. Эти тайные верования, в которых он бы никому никогда не признался, уживались с церковными службами, с бриллиантовым ликом Богородицы, оставлявшим на губах нежное тепло. Были из тех времен, когда его забытые предки поклонялись священным рощам, оплетали березы лентами, населяли леса и воды духами жизни и смерти.
Араукария с мягкой дымчатой хвоей, с пушистыми, распростертыми ветками напоминала женщину, раскрывшую объятия. Этой женщиной была его мать, раскрыла ему свои материнские объятия. Ее душа, ее чудесные переживания, ее молчаливая любовь не исчезли после смерти, а переселились в это вечнозеленое дерево. Лемехов взял в ладони мягкую опушенную ветку и поцеловал, как делал это при жизни мамы, целуя ее милую руку. Араукария слабо качнула в ответ своими зелеными перстами.
Олеандр касался араукарии глянцевитой листвой. Это был отец, который не исчез на берегах Лимпопо, а перенесся сюда, в оранжерею, и вселился в дерево. Облачился в листву, иногда расцветая розовыми цветами, словно обращался к сыну с неизъяснимым отцовским влечением. Лемехов подолгу смотрел на цветущее дерево, стараясь угадать безмолвное послание, быть может, рассказ о том, каким был последний день и час отца у берегов желтой африканской реки, где настигла его смерть. Лемехов погрузил лицо в листву олеандра, слыша слабый смоляной аромат. Радовался тому, что листья олеандра и араукарии касаются друг друга, словно мать и отец встретились после долгой разлуки, и теперь неразлучны.
И третье дерево, молодая пернатая пальма, вызывала в нем больную нежность и горькое обожание. Это был его нерожденный сын, от которого избавилась жена в помрачении, с их обоюдного согласия. Это сыноубийство превратилось с годами в разрушительную невыносимую боль, от которой жена потеряла рассудок и томилась уже несколько лет в клинике для душевнобольных. А он, в своих блистательных победах и неуклонных восхождениях, чувствовал в душе пулевое отверстие, в которое постоянно втекала струйка щемящей боли. Лемехов поцеловал молодой лист пальмы, напоминавший нераскрытый веер. Подумал, что сын продолжает жить, взрастает в этом стеклянном дворце.
Дом Лемехова был двухэтажный, окружен газоном и парком, сквозь который просвечивали соседние, великосветские виллы. На первом этаже размещались кухня, столовая, службы, просторная гостиная и спальня, а также сауна и бассейн в полукруглой ротонде с прозрачным куполом. На втором этаже были спальня, рабочий кабинет, библиотека и комната, в которой жила, болела и провела последние дни мама.
В этом просторном и ухоженном доме иногда посещало его чувство одиночества. И он радовался, когда приезжала его возлюбленная Ольга, молодая, прелестная, композитор и музыкант. Она сочиняла сладостные и печальные блюзы, которые сама исполняла на флейте. Вот и сегодня он поджидал ее в гости. Не стал обедать, попросив мажордома сервировать стол для ужина. Отпустил прислугу и гулял по дому, глядя, как в просторных окнах золотятся деревья и на изумрудном газоне драгоценно белеет беседка.
В комнату мамы он заходил очень редко. На мгновение приоткрывал дверь, видя кровать, где прошли ее последние часы, и стены, сплошь завешанные иконами. К концу жизни мама воцерковилась, не пропускала службы, ездила в паломнические поездки, привозя из них множество больших и малых образов, пасхальных свечек, пузырьков с ладаном. Иногда он садился на кровать и смотрел на иконы, перед которыми мама молилась. О его, сыновнем, здравии, об отце, возвращение которого вымаливала до последнего часа, и о чем-то таком, что вызывало у нее тихие слезы. Лемехов смотрел на иконы, которые были зеркалами, хранившими материнское отражение, и пугался, что однажды откроет дверь в комнату, и навстречу ему, среди горящих свечей и лампад, шагнет мама со своим чудным любящим ненаглядным лицом.
На столе в рабочем кабинете стояли телефоны правительственной связи, лежали документы, которые он не успел просмотреть перед поездкой. Стол украшали сувенирные модели танков, штурмовиков, зенитно-ракетных комплексов, и среди них лежала огромная морская раковина, розовая, спиралевидная, с перламутровой глубиной. Эту раковину подарила ему Ольга, уверяя, что в ней звучит голос ее флейты.
Лемехов поднес раковину к уху, и ему почудилась печальная сладкозвучная мелодия.
В библиотеке он рассеянно рассматривал дорогие корешки подарочных изданий, вынул и поставил на место книгу Тофлера на английском, труд Бжезинского «Большая шахматная доска». Среди нарядных паспарту и расцвеченных суперобложек стояли книги отца – «Этнография Мозамбика», «Экономика португальских колоний», «История Африканского национального конгресса». И втиснутая между этих томов тетрадь для календарных записей. В ней хранились отцовские заметки и его стихи. Эту тетрадь принес отцовский сослуживец уже после того, как отец пропал без вести.
Лемехов достал тетрадь, присел на диван и стал читать написанные синими чернилами четверостишия, читанные много раз. И всякий раз они вызывали головокружение, как если бы он чувствовал вращение Земли.
Царило африканское засушье.
В голодных деревнях стояли плачи.
Пила из лужи лань, прижавши уши,
Поджарый волк и я, «солдат удачи».
Горела Африка, и дикое зверье
Бежало сквозь огонь сухих акаций.
Бежал и я, не отпускал цевье
Обугленной трофейной «Эм шестнадцать».
Нас уцелело двое из немногих.
Мы добирались до прибрежных глыб.
Нам океан выплескивал под ноги
Серебряных и золоченых рыб.
Кипела на ветвях обугленных смола.
Мы у костра вповалку все уснули.
И в брошенных, обшарпанных стволах,
Устав летать, дремали наши пули.
В траве ютились тварей миллиарды.
Там все сверкало, пело и свистело.
Два грифа в небе, словно алебарды,
Снижались на безжизненное тело.
Под небом Африки, в стреляющем краю
Средь блеска звезд лежал, зажав винтовку.
С тех пор я под рубашкою храню
Тех африканских звезд татуировку.
Опять буран войны меня унес.
Но все хранил, все сберегал в дороге
Тот горький вкус твоих прощальных слез
И поцелуев сладкие ожоги.
В пустыне душной на ночлег прилег.
Под утро дождь пролился над песками.
Проснулся, и божественный цветок
У глаз моих светился лепестками.
Был утром океан жемчужно-синий.
Коверкая английские слова,
Нам африканки яства приносили
На маленьких прекрасных головах.
Она лежала, черная царевна.
Я украшал ей груди виноградом.
Она явилась из сказаний древних,
Благоухающих фруктовым садом.
По Лимпопо сплавлялись к океану.
Вдали горела хижин вереница.
На пулемет, повернутый в саванну,
Внезапно села голубая птица.
Мерцала в воздухе волшебная слюда.
К луне неслись бессчетные созданья.
Горела в Лимпопо хрустальная вода.
Звучало в тростниках то пенье, то рыданье.
Дух гибельный по Африке бродил.
Страдали люди, звери и растенья.
В зловонной луже мертвый крокодил
Взбухал, распространяя запах тленья.
В песках меня не раз пронзала сталь.
Трепала в джунглях злая лихорадка.
Привез с войны латунную медаль
И сумрачных стихов измятую тетрадку.
Я воевал в Анголе, в Мозамбике.
Мне были трудные заданья по плечу.
Я слышал мир в его предсмертном крике.
Вот почему ночами я кричу.
Лемехов перечитывал отцовские стихи. Душа отца тосковала по прекрасному и возвышенному, погруженная в жестокую войну, которая в конце концов унесла его в свою бездну. Среди страниц вдруг обнаружилась притаившаяся песчинка. Быть может, ее принес ветер, оторвав от барханов в устье Лимпопо, где пресная речная вода мешается с океанским рассолом.
Лемехов взял со стола увеличительное стекло. Стал рассматривать сквозь линзу песчинку. Кристаллик кварца светился тончайшими разноцветными лучами, как малая росинка. Лемехов вдруг подумал, что если слиться с одним из этих лучей, розовым, голубым или зеленым, то можно пролететь через пространство и время и очутиться на берегу Лимпопо в тростниках, сквозь которые течет ленивая желтая вода. Там он станет читать отцовские четверостишия. И на его сыновний голос, раздвигая тростники, выйдет отец, худой, загорелый, с сияющими глазами, ликуя от долгожданной встречи. Лемехов обнимет колючие плечи отца, привезет его в русские снега, в русскую золотую осень. И отец будет сидеть в кресле, глядя на изумрудный газон и беседку, а он, Лемехов, станет накрывать его усталые ноги теплым пледом.
Глава 9
Лемехов увидел, как подкатил автомобиль. Плавно застыл у крыльца, и из него вышла Ольга. Ему показалось, что неслышная мелодия, та, что она играла ему во время последнего свидания, вдруг сладостно полилась. Ярче засветился зеленый газон, драгоценней засверкала беседка, таинственно отозвались в сердце стихи отца, нежнее задышал белоснежный цветок на темной воде бассейна. Ольга шла, опустив глаза и чуть улыбаясь, словно знала, что ею любуются. В руке у нее был узкий футляр, в котором хранилась флейта. Ее кожаный жакет был оторочен пепельным мехом. Светлые волосы гладко зачесаны и собраны на затылке. Лицо с нежным овалом выражало счастливую уверенность в том, что ее ждут, любят, и она готова ответить на эту любовь.
Лемехов обнимал ее, просовывал торопливые пальцы в рукава жакета, чувствовал ее запястья, целовал ее голую шею, хрупкую теплую ключицу. Принимал футляр с флейтой, помогал снять жакет.
– Как прошли гастроли? Как Лондон? Тебя принимали в Виндзорском замке? В Букингемском дворце?
– Ну, конечно, вся династия плясала под мою дудку. А принц Чарльз предложил мне играть в придворном оркестре и подарил флейту из индийского самшита, инкрустированную перламутром и золотом.
– Такую же он подарил принцессе Диане. Мелодия вышла печальная.
– Ну, это все шутки, конечно. Был концерт в «Альберт-холле», было несколько концертов в Шотландии. И один концерт для нашей русской респектабельной публики во дворце, в предместье Лондона. Кстати, дворец принадлежит Вениамину Гольдбергу. Он назвался твоим хорошим знакомым и даже партнером. Я так его очаровала, что он готов организовать мое турне в Америку.
– Веня – ловкач, славится тем, что организует турне хорошеньким женщинам. В лихие годы ему удалось приватизировать мощное оборонное КБ, производящее антиракеты. Он получил от государства деньги, провалил заказ и, должно быть, на эти деньги купил дворец в предместье Лондона. Теперь мы не знаем, как вернуть государству стратегическое КБ.
– Но он очень галантен, и в восторге от моих сочинений. – Ольга поддразнивала Лемехова. Но, заметив огорчение на его лице, обняла его, поцеловала в губы. – Все это пустяки, мой милый. Я у тебя. Ты мой единственный и неповторимый. И я очень хочу есть.
Они обедали вдвоем, без прислуги. Горящие спиртовки не давали остыть бульону из индейки и медальонам из телятины. Он наливал прохладное шабли в высокие бокалы. Смотрел, как губы ее касаются золотистого вина, пьют и улыбаются. На округлом подбородке дрожит милая ямочка. В больших серых глазах отражается окно с желтым кленом.
– Ну а как ты путешествовал? Какие были у тебя приключения?
– Да как тебе сказать. Было нечто странное.
– Что странное?
Он не стал ей рассказывать о черной громаде лодки, проносящей мимо глаз свой чудовищный борт. О ракете, взлетавшей из моря в слепящей плазме. О медведе, уронившем на передние лапы мертвую голову, и о желтом листке березы, что прицепился к его загривку.
Вспомнились васильковые глаза Верхоустина, то нежно-голубые, как вода в весеннем пруду, то густо-синие, как кристаллы полярного льда. Об этих глазах колдуна, смутивших его, он хотел рассказать.
– Этот человек появился там, где не должен был появляться. И сказал то, что не должен был говорить. Его неуместные слова оттолкнули меня. Но заставили запомнить его. Он появился опять, и снова там, где не мог оказаться. Я отвернулся от него, хотел уйти. Но там была икона, перед которой он, как и я, молился. Я вдруг подумал, что это Богу угодно свести нас вместе. Я испытал странное к нему любопытство, больное влечение, потому что он говорил слова, которые не произносятся в моем окружении. От него исходила какая-то колдовская сила. Я пригласил его в поездку, хотя он не имел никакого отношения к целям этой военной поездки. Он завораживал меня своими глазами, лазурными, как синева в весенних березах. Их цвет был не земной, а какой-то потусторонний, будто он вычерпывал синеву из таинственных колодцев. Иногда мне казалось, что я схожу с ума. Что это он своим гипнотическим взглядом перемещает громадную подводную лодку весом в тысячу тонн. Что это он вырывает из морской глубины ракету и ведет ее по траектории, от Белого моря к Камчатке. Это было безумие, но в этом безумии была странная сладость. Потом мы оказались вдвоем в глухой избе, и он пел какие-то колдовские песни, про коней, про умерших мужей, и мне показалось, что я парю в невесомости. У меня нет тела, а моя душа переселилась в деревянную птицу, и я тихо покачиваюсь под потолком. Когда я утратил свою волю и был как во сне, он сказал мне такое, что заставило меня очнуться. Я хотел забыть его слова, но он их во мне отпечатал. Я решил больше с ним не встречаться, но его слова жгут, как татуировка.
– Что за демон? Что он тебе предложил? Душу продать, а взамен получить бессмертие?
– Он сказал, что я стану президентом России. Что это мое предопределение, моя судьба. Что на мне перст Божий.
Он пожалел, что сказал ей. Он сказал это так, словно помрачение его оставалось. Словно в туманном солнце, из золота и багрянца смотрели на него синие колдовские глаза, не позволяя освободиться от чар.
– Я не удивляюсь. Это проницательный человек, а никакой не колдун. Я слабо разбираюсь в политике, не слежу за всеми избирательными гонками, этими лидерами. Но все они тебя не стоят. Одни – мнимые герои, пустышки. Другие – самодовольные гордецы. Третьи – хитренькие трусливые карлики. Четвертые – мстительные лилипуты. Ты абсолютно на них не похож. Ты свежий, сильный, открытый. Тебе все без труда удается. Тебе поручили такое дело, перед которым другие пасуют, а ты строишь города и заводы, создаешь чудесные машины. Я влюбилась в тебя, когда ты на вечеринке, среди всех пустословов, стал рассказывать о самолете, который то летит, как вихрь, то останавливается в небе, как серебряный крест. То сверкает, как солнце, то становится невидимкой. Ты говорил о самолете, как поэт, и мне захотелось написать музыку об этом самолете. Наш президент Лабазов выглядит усталым и разочарованным. То ли болен, то ли ему все надоело. Я вижу тебя на его месте. И не только я. Там, в Лондоне, когда Гольдберг пытался меня соблазнить, а я насмеялась над ним, он сказал: «Ну, где мне угнаться за Лемеховым. Он же будущий президент».
– Я думал, ты попросишь, чтобы я опомнился, – сказал Лемехов. – Поможешь избавиться от наваждения. А ты в ту же дуду, в свою волшебную флейту.
– И не подумаю тебя отговаривать. Ты будешь президентом. Ты уже президент, но еще об этом не знаешь. А я первая леди. Мы будем с тобой прекрасной парой. Вот белоснежный лайнер с надписью «Россия» приземляется в Париже, в Арли. На трапе мы появляемся вдвоем, и тысячи репортеров наводят на нас свои окуляры. А потом в светской хронике появляются мой портрет с флейтой и надпись: «Первая флейта России».
– Надеюсь, что подобный снимок никогда не появится.
Они купались в бассейне. В полутьме вода казалась темным стеклом. Лемехов видел, как раздевается Ольга, как белеет ее голая спина. Она приблизилась осторожно к краю бассейна. Ее лопатки зябко двигались. Он включил свет, и бассейн вспыхнул лазурью. Сквозь прозрачную воду засверкали на дне мозаичные раковины, морские звезды и водоросли. Ольга радостно обернулась, благодарила его за это восхитительное зрелище. Спустилась по ступенькам в бассейн. По воде побежали волны. Донные водоросли, звезды и раковины слились в разноцветное плескание, среди которого она плыла, поднимая и опуская плечи. Она переплыла бассейн и встала, улыбаясь ему. Гнала от себя волны, и он видел, как блестят ее мокрые пальцы, и тело просвечивает сквозь голубую воду.
Лемехов сбросил одежду, смешав ее с легким ворохом, который Ольга оставила на плетеном кресле. Подошел к краю бассейна и, толкнувшись, звонко врезался в воду. Летел вдоль дна, среди мелькающих мозаичных цветов, видел, как приближается жемчужное пятно. Обнял под водой ее ноги. Целовал ступни, колени, живот. Ловил под водой ее пальцы, пока хватало воздуха. А потом вынырнул рядом с ней, сбрасывая с плеч шумную воду.
– А я думала, это дельфин целует меня.
Она выскользнула из его объятий и поплыла на спине. Он видел, как поднимаются и опускаются ее руки, отекая слюдяным блеском, как кипит маленький бурун у ее ног, как всплывает и тонет ее грудь. Она оставляла на воде расходящийся след, и эти мягкие волны и ее обнаженное тело волновали его.
Она переплыла бассейн и встала на мелком месте, поправляя намокшие волосы. Он смотрел, как поднимает она локоть, как на мокрой груди темнеют соски.
Он захватил полную грудь воздуха и ринулся к ней, мощно взмахивая руками, вырывая из воды стеклянные крылья. Летел сверкающей птицей, среди грома и плеска. Достиг ее, окружил брызгами, прижал к себе.
Сжимал в объятиях, чувствуя грудью, бедрами, животом ее гибкое тело, которое, казалось, струится, переливается, выскальзывает из рук. Розовые губы улыбались, уклонялись от его поцелуев.
– Ну, подожди, ведь мы с тобой не дельфины.
Она выходила из бассейна, и он видел, как льются с нее сверкающие ручьи, и вся она покрыта слюдяным блеском.
Он укутал ее в мохнатое полотенце, а потом обнял и отнес в спальню. Уложил на темное покрывало. Она лежала, влажная, белая, как тот цветок, что распустился в соседней оранжерее над темной водой.
Ее глаза закрыты дрожащими веками, золотистые изломы бровей. Снежная лыжня в сверкании солнца, он вонзает в лыжню заостренные лыжи. Ее белое худое плечо, он жадно его целует, оставляя гаснущие отпечатки. Шелестящие тростники Лимпопо, отец выходит на берег в линялой панаме с худым загорелым лицом. Ее сжатые побледневшие губы, он кусает их теплую плоть с соленой капелькой крови. Темная, залитая водой колея с цветами лесной герани, на черной земле сердцевидный лосиный след. Его ладонь на ее пояснице, гибкое скольжение спины, трепет ее позвонков. Кудрявый шлейф взлетевшей ракеты, и там, где она поймала мишень, белый бесшумный взрыв. Ее раскрытые, с блеском белков, глаза, слепые от наслаждения. Лицо жены, измученное и печальное, проплыло, как больное видение. То слабый, похожий на птичий, вскрик, то хохот с блеском зубов, то длинный, исполненный боли стон. Негасимая заря над карельским озером, гагара уронила в воду незримую каплю, от которой расходится медленный серебряный круг. Ее ногти больно режут голую спину, ноги захлестывают жаркой петлей. Тот маленький камушек, привезенный мамой с Мертвого моря, и размытый, в лунном свете, сидящий у моря Христос.
Лемехов чувствовал, как приближается к горящей, оплавленной сердцевине. Он упал лицом на ее лицо, пролетел сквозь ее долгий исчезающий крик. И навстречу полыхнуло слепящим светом, оглушило бесшумным взрывом, и он пропадал, забывался, не успев разглядеть промелькнувшее стокрылое существо.
Лежал рядом с Ольгой, не смея ее касаться.
– Ты называл меня другим именем. Ты называл меня Верой, – сказала она.
– Правда?
– Вера – твоя жена. Любил меня, а видел жену.
– Любил тебя.
– Мучаюсь, когда к тебе прихожу. В этом доме присутствует другая женщина. Сижу за столом, за которым сидела она. Ем из тарелок, из которых ела она. Плаваю в бассейне, в котором плавала она. Лежу с тобой на кровати, на которой ты лежал с ней.
– Не думай об этом.
– Приближаюсь к твоему дому, и мне кажется, твоя жена не пускает меня, отгоняет. Я с трудом перешагиваю твой порог.
Лемехов почувствовал к ней отчуждение. Она причинила ему страдание. Сказала вслух то, что глухо и беззвучно присутствовало в нем. Вина перед женой, которая в забытье, измученная лекарствами, томится в клинике для душевнобольных. Иногда пробуждается из своего полусна в припадках тоски, в слезных истериках. Жена казнила себя и его, выкликала нерожденного сына, рвала себе грудь, пока на нее не накидывали смирительный балахон, усыпляли уколом. Минуту назад, обнимая прелестную женщину, он увидел лицо жены и малиновую зарю над карельским озером, где они были с женой так счастливы.
– Ты не хочешь об этом слышать. Тебя устраивают наши отношения. Но пойми, они меня не устраивают. Они тяготят меня своей недосказанностью, двойственностью. Мы встречаемся целый год. Бываем в обществе, ты представил меня друзьям. Опекаешь меня, даришь мне драгоценности. Ты идеальный возлюбленный. Но мне этого мало. Я люблю тебя, я хочу быть твоей женой. И ты этого хочешь, но не находишь мужества развестись с этой несчастной женщиной. Ты сам сказал, что она неизлечимо больна. Тебя разведут с ней. Ты будешь так же ее навещать, помогать ей. Но она не может быть препятствием для нашего счастья.
– Прошу, не надо об этом.
– Я все время молчала, но уж коли начала, то скажу. Я очень тебя люблю. Ты прекрасный, благородный, добрый. Среди мелких суетливых мужчин, этих героев на час, то алчных, то скаредных, то трусливых, то жестоких, ты возвышаешься, как прекрасный великан. Ты мой избранник. Я посвящаю тебе мою музыку. Я хочу быть украшением для тебя. Хочу, чтобы те, кто восхищается мной, восхищались тобой. Хочу иметь семью, родить от тебя ребенка. У нас будет прекрасная семья, прекрасный дом, куда ты сможешь приглашать самых изысканных гостей. Хоть мировых знаменитостей. Хоть принцев крови. Я буду служить тебе всю жизнь и никогда не дам тебе повода во мне усомниться. Ни один мужчина не посмеет бросить на меня неосторожный взгляд, потому что все будут знать – ты мой единственный и ненаглядный. Прошу тебя, разведись с женой.
– Не теперь, умоляю. Не надо об этом.
Они лежали молча, не касаясь друг друга. И ему казалось, что по дому, невидимая, босая, бесшумно бродит жена. Сейчас заглянет в их комнату.
Ольга тихо поднялась, пробежала в прихожую и вернулась с футляром. Открыла крышку. В темной сафьяновой глубине лежала темно-красная флейта с драгоценными серебристыми клапанами. Ольга извлекла флейту, поднесла к губам, положила пальцы на блестящие кнопки. Пробежала по ним беззвучно.
Лемехов смотрел, как она сидит, обнаженная, приподняв острые плечи, чуть вытянув губы, словно для поцелуя. Красное, лакированное дерево флейты переливалось, розоватый отсвет волшебного инструмента лежал на ее голой груди. Ее глаза изумленно расширились, а потом сжались, взгляд словно устремился в лучистую даль. Тягучий, как язык меда, звук сладостно излился из флейты. Лемехов испытал головокружение, будто его повлекло в медленных струях, водоворотах, понесло в разливы прохладных вод.
Ее пальцы перебирали клавиши, словно ласкали флейту. Инструмент казался морским существом, приплывшим к ней в руки из таинственных глубин. Звуки, которые издавала флейта, были звуками моря, перламутровых раковин, шелестящих приливов. Он испытывал нежность, умиление, какие случались с ним в детстве, во время болезни, когда мама клала его на свою большую кровать, и он, беспомощный, в туманном жару, смотрел на ее любимые руки, ожидая их чудного прикосновения.
Ольга закрыла глаза, отрешаясь от внешнего мира, погружаясь в глубины перламутровых звуков. Лемехов закрыл вслед за ней глаза и перенесся в прозрачный весенний лес, где просторные ели, остатки серого снега. И в вершинах поет одинокая птица, незримо и безответно. И в душе такая печаль, такая сладостная боль, предчувствие огромной, ему уготованной жизни с ее предстоящими тратами.
Ольга открыла глаза, они ликующе вспыхнули. Пальцы заплясали на дудке. Золотистые волосы рассыпались по голым плечам. Волны радости, ликования хлынули из волшебной флейты. И казалось, из тучи брызнули голубые лучи, накрыли землю шатром, и стали видны каждый колосок в поле, каждая росинка в лугах, каждая тропка в дубраве. Лемехов испытал восхищение, необъятную силу, с которой ему по плечу любая схватка, достижима любая победа.
Ольга запрокинула голову. Открылось хрупкое горло. Оно дрожало, как у поющей птицы. Устремила флейту ввысь, словно обратилась с мольбой в небеса. Славила лазурь. Просила Творца отворить врата небесного сада. И врата открывались. Лемехов видел красоту небесных цветов.
Ольга отняла флейту от губ. Опустила ее на колени.
– Для тебя! О тебе! Люблю!
Он целовал ее колени, целовал лежащую на коленях флейту.