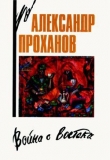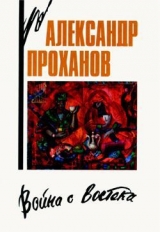
Текст книги "Война с Востока. Книга об афганском походе"
Автор книги: Александр Проханов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 76 страниц) [доступный отрывок для чтения: 27 страниц]
Выстрелы прозвучали внезапно из-за желтой стены кишлака. Сквозь рокот моторов, посвистывание ветра продолбили, прогрохотали винтовки. Белосельцев видел два дымка из бойниц. Ему померещился слабый металлический луч, скользнувший по стволу. Один из тракторов завилял, выехал из колонны, покатил не к пропасти, а к взгорью. Завалился в кювет и лежал там, крутя колесами, как перевернутый беспомощный жук.
Колонна, разорванная, потеряв интервалы, продолжала уходить. Перевернутый трактор крутил колесами, и в кабине виднелся недвижный, с отпавшей чалмой водитель.
– Пулеметчик!.. – орал Мартынов. – Где пулемет, твою мать!.. Лупи по стене!..
Разрывая воздух, выбрасывая из раструба пульсирующее пламя, прямо у виска Белосельцева забил пулемет. Заложило уши. По лицу ударили горячие тугие пощечины. Белосельцев прижался к броне, видя, как на желтой стене задымилась черта, проделанная очередью.
– Коробкам стоять!.. – командовал Мартынов по рации. – Работать по кишлаку!.. Группа поддержки, ко мне!..
Снизу, из-за выступа горы, вернулись два «бэтээра». Налетали на скорости, и их пулеметы начинали стрелять на ходу. Пускали в кишлак разорванные длинные трассы. Скрещивали их, разводили. Вбивали в купола и дувалы стальные штыри. Глина дымилась, ловила раскаленные сердечники. Эхо выстрелов трескуче летало в горах.
Пулеметы смолкли. Мартынов с автоматом спрыгнул на землю. К нему от «бэтээров» бежали солдаты.
– Прикрой!.. – приказал он пулеметчику. – Я им, сукам, башку расшибу!..
Он кинулся наверх к кишлаку, увлекая солдат. Белосельцев и Сайд Исмаил побежали следом. И мгновенная мысль на бегу: «Убьют!.. Вот сейчас убьют!.. Солнце, крутая тропа, и пуля в лоб!..» Эта мысль о смерти была страхом, и радостью, и молитвой, и молодым удальством, и верой, что он уцелеет. Без оружия, ударяя в тропу башмаками, он бежал за Мартыновым.
Солдаты добежали до рыжей глиняной изгороди, в которую была вмазана деревянная линяло-голубая дверь. Мартынов, воздев автомат, прижался спиной к стене, азартный и злой. Пулеметы «бэтээров» рвали солнечный воздух, пуская трассы над сирым кишлаком. Мартынов крутанул головой, показывая солдатам на дверь. Двое, грудастых, в панамах, набежали на дверь, ударили разом, вышибли ее с белыми щепками. Кубарем вкатились во двор, отпрыгивая в разные стороны, готовые поливать автоматами. Следом за ними в пролом втянулись другие солдаты, кинулся Мартынов и последними, безоружные, вбежали Белосельцев и Сайд Исмаил.
Двор был тесный, сухой, гладко выметенный. Посредине был сооружен очаг с висящим котлом и холодным костровищем. Возвышалось сухое, с ободранной корой дерево, отбрасывающее корявую тень до самого дома, до деревянной веранды, на которой лежали несвежие тюфяки и темнела открытая дверь, уводившая в дом. Под деревом, на низкой скамеечке, сидел старик, белобородый, с заросшим, как у льва, волосатым лицом, в скомканной рыхлой чалме и накидке, намотанной комьями на сутулые плечи.
Солдаты окружили старика, наклонив к его голове автоматы. Другие кинулись вдоль стены, сквозившей маленькими солнечными бойницами, откуда прозвучали винтовочные выстрелы. Третьи бросились к дому, и не входя, наставили оружие в темный проем дверей. Мартынов, потный, гневный, стискивая кулаком цевье автомата, надвинулся на старца:
– Кто стрелял?… Говори, башку расшибу!..
Старик не понимал, не реагировал на его гнев, на близкие, нависшие над его головой стволы.
– Говори, хрыч!.. Вздерну тебя на дереве, как собаку!..
Старик молчал, шевелил в бороде невидимыми губами, сквозь седину просвечивало его сморщенное, красное, как обожженная глина, лицо.
– Он не понимает!.. Он не стрелял!.. – Сайд Исмаил протягивал руки к Мартынову, словно умолял пощадить старика. Обращал свои ладони к солдатам, будто отодвигал автоматы от чалмы и седой бороды. – Уважаемый, – обратился он к старику на фарси, и Белосельцев, впервые за путешествие слышал, как говорят между собой афганцы, какое сочувствие и почтение звучат в словах Сайда Исмаила. – Из твоего дома стреляли из винтовки, и на дороге убит человек. Скажи, кто здесь был?
– Чего ты его упрашиваешь!.. Вздерну, как старого кобеля!.. – нетерпеливо топтался Мартынов, оглядывая двор и глухие стены, откуда, сквозь щели и дыры, могли прозвучать новые выстрелы.
– Здесь были чужие люди, – сказал старик, показывая пустые беззубые десны и мокрый стариковский язык. – Пришли пять человек. Всех, кто был, прогнали из дома. Сказали, кто не уйдет, убьем. Так нужно Аллаху. Мои ноги болят, не могу ходить. У них были винтовки «бор». Они стреляли и ушли туда, – старик вытянул из-под накидки длинную руку с черной, скрюченной пятерней и слабо ткнул в глиняную стену на другой стороне двора, за которой скрылись стрелки.
Белосельцев вслушивался в его речь, стараясь понять знакомые слова фарси, искаженные местным наречием и стариковскими шепелявящими губами. Сайд Исмаил перевел Мартынову, указав число пришельцев, марку старых английских винтовок «бор», умолчав о воле Аллаха.
– Кто такие?… Откуда бандиты? – допрашивал Мартынов, с недоверием, почти враждебно слушая Сайда Исмаила. – Если бы нашего солдата убили, повесил бы его, как собаку! А кишлак его вшивый сжег!.. Так ему и скажи!..
– Уважаемый, кто были эти чужие люди? – Сайд Исмаил не пропускал к старику жестоких угроз Мартынова, останавливал их на себе. Защищал старика своими учтивыми вопросами, полупоклоном, жестом длинных смуглых пальцев, которые прижал к груди. – Убили нашего человека. Добрый, мирный человек, – в голову, вот сюда! – он прижал к своему виску длинный коричневый палец.
– В кишлак приходят чужие люди с «борами». Их послал Ахмат Шах. Вчера было четверо, сегодня пять. Всех, кто был в доме, прогнали. Меня бить хотели, винтовку показывали. Я ходить не могу. Сказал им: «Пусть будет так, как хочет Аллах!»
Сайд Исмаил перевел Мартынову, опять умолчав об Аллахе. Подполковник терял интерес к старику. Зорко, тревожно оглядывал кромки дувала, деревянный навес крыльца, вход в глубь дома, откуда грозила опасность.
Белосельцев, пережив недавнюю опасность, азартное возбуждение бега, испытывал теперь новое, сложное, из множества переживаний, чувство. Силой оружия, под прикрытием вороненых стволов он ворвался в дом. Проломил хрупкую преграду, заслонявшую чужой очаг и порог. Проник сквозь запретную завесу, заслонявшую сокровенный уклад, недоступный постороннему взгляду. Он, чужак и пришелец, под защитой «бэтээров», посылавших в небо грохочущие очереди, оказался в центре мирка, куда в иное время путь ему был заказан. Война и насилие проложили ему дорогу. Оружие растворило двери. И он увидел то, что иначе было невозможно увидеть.
Это насилие, частью которого он был, смущало его, порождало чувство вины. И оно же, насилие, было для него инструментом познания, быстрым и экономным средством исследования. Насилие, как скальпель, разрезало покров, и в несколько первых мгновений можно было понять и увидеть, как устроены сокрытые органы, размещены сочленения и ткани. Запечатлеть их молниеносным взглядом, пока разрушение еще не накрыло их волнами боли и крови.
В углу двора были сложены разрубленные корявые поленья, уложены бережно и накрыты ветхой циновкой. Тут же стоял кетмень с отшлифованной рукоятью и кованым, отточенным острием. В другом углу, такой же аккуратный, покрытый, круглился стожок темного сена из высохших горных трав и там же прилепился к ограде лепной, с залысинами хлев, из которого едва заметно струилось живое тепло от притаившихся пугливых овец. В нише стены, словно на лежанке русской печки, валялось красное стеганое одеяло, стояла керосиновая закопченная лампа и лежала рукодельная, из деревяшек и тряпочек, детская игрушка. На деревянной веранде среди ветхих покосившихся столбиков было развешено женское белье – еще влажные, сочно-малиновые юбки, прозрачно-розовые рубахи и ленты, и эта присутствующая здесь женственность волновала Белосельцева. Там же, под навесом крыльца, висела плетенная из прутьев клетка и в ней, как цветной огонек, металась птичка.
Дверь в дом была открыта, наполнена смуглым сумраком, и если войти, то увидишь горницы, расписанные восточные сундуки, выложенную цветной шерстью кошму и какой-нибудь старый ржавый клинок на стене.
Насилие, которое провело их беспрепятственно во внутренний домик, могло провести их и дальше, в покои крестьянского дома. Но Мартынов крикнул солдатам:
– Отставить!.. Пошли отсюда!.. – повернулся к Сайду Исмаилу и, не глядя на старика, произнес: – Скажи ему, если б хоть кто-нибудь из солдат пострадал, я бы его тут же пристрелил во дворе! – повернулся и пошел прочь, опустив автомат, усталый и слегка прихрамывающий.
Саил Исмаил наклонился к старику:
– Уважаемый, пусть будет мир в твоем доме, а тебе сопутствует долголетье!
– Как захочет Аллах, так и будет, – сказал старик беззубым ртом, едва кивнув своей львиной заросшей головой.
Белосельцев, ступая за Саидом Исмаилом, покинул жилище. По склону спустился к трассе.
Колонна, разрозненная и смятая обстрелом, собралась и выстроилась вдоль обочины. Опрокинутый трактор был поднят, возвращен в строй. Водители-афганцы очищали его от пыли, промывали его царапины и вмятины. На стекле дымчатым одуванчиком белели трещины, окружавшие пулевое отверстие.
На сухой обочине лежал убитый водитель. Его длинные костлявые ноги, обутые в стоптанные башмаки, вылезали из штанов, и на них темнели редкие волоски. Руки с длинными коричневыми пальцами были вытянуты по швам, словно он лежал по стойке смирно, ожидая приказаний. Чалма отвалилась, напоминала скомканное грязное полотенце, и на смоляной голове виднелась маленькая смуглая лысина. Горбатый нос крупно торчал на лице, и на щетинистых фиолетовых губах образовались ямины. На костяном лбу, между синими, разведенными бровями кровянела дыра, и густая малиновая кровь, брызнув, как варенье, глянцевито блестела.
Белосельцев подходил к убитому, видя грязную ткань чалмы, стоптанные подошвы, тень на щеке от торчащего горбатого носа и застывшую, как красный лак, блестящую кровь. Пространство вокруг убитого вдруг стало стекленеть и сгущаться, как студень. По нему пробегали вязкие волны. Лица людей, синие трактора, бруски «бэтээров», желтый гончарный кишлак, окрестные горы стали волноваться, как водяное отражение, и Белосельцев, теряя сознание, падал в мягкое и бесцветное.
Очнулся от шлепков в лицо. Мартынов наклонился над ним, хлопал его по щекам тяжелой ладонью.
– Ну вот, глаза смотрят! – сказал офицер, распрямляясь.
– Не знаю, что со мной… – виновато сказал Белосельцев, приподнимаясь с земли.
– Дело обычное, – сказал Мартынов. – На кровь посмотрел, она и опрокинула. С непривычки на кровь нельзя смотреть. Ее природа нарочно в темноте, в венах держит. Кто на нее на свету посмотрит, того она бьет, – и, отворачиваясь от Белосельцева, приказывал командирам машин: – Продолжать движение!.. При подходе к кишлакам предупредительную очередь в воздух!.. В случае обстрела по площадям из всех пулеметов!.. По машинам!..
Они двигались дальше по солнечному сухому ущелью. Белосельцев сидел на броне, размышляя над тем, что случилось. Кто тот, невидимый, что нанес ему сокрушительный бесшумный удар, уложил на каменистую землю. Останавливал, не пускал. Запрещал видеть и знать. Предупреждал о какой-то запретной тайне. О громадной, его поджидавшей опасности. Он, Белосельцев, пренебрег этим знаком. Не остановился на невидимом рубеже. Снова сидел на броне, катился в солнечном ветре мимо осыпей, круч и распадков. Вторгался в азиатскую, пропитанную красными отсветами землю, словно горы, откосы, сухой бурьян на обочине были обрызганы гранатовым соком.
Трасса, цепляясь за горы, быстро сбегала вниз. И возникла легкость, как при свободном падении. Будто ослабели невидимые, удерживающие крепи, развязались тугие узлы, и земля своим притяжением увлекала колонну вниз, пронося ее мимо разноцветных склонов, лепных кишлаков, безлистых ржаво-красных садов. Долина, еще незримая, тянула к Белосельцеву свои руки, влекла к себе, и он, одолев преграды, избегнув опасности, освобожденный, стремился в долину, предчувствуя ожидавшее его чудо.
На выходе из ущелья, где распахнулись горы и в солнечном тумане раскинулись клетчатые поля, – черная, отдыхавшая под солнцем пашня, изумрудная озимь, красные колючие комья виноградников, среди которых слюдяными струйками вспыхивали арыки, – встретил их Джабаль Усарандж. Словно они вкатили на яркий восточный рынок с грудами яблок и апельсинов, торговцами посудой и шелком, медным блеском, звоном и визгом дудок. Белосельцев с брони жадно смотрел на смуглых краснокожих мужчин в белоснежных накидках, на бегущих нагруженных осликов, на верблюдов, навьюченных полосатыми тюками. Городок исчез также быстро, как и возник, словно его сдуло ветром и он пестрым комом улетел в синеву. Они катили по ровной дороге среди расступившихся гор.
В отдалении тенистыми отрогами, как огромные, на толстых столбах ворота, обозначилось ущелье Бамиан. И он вспомнил генерала, его последнее желание оказаться в Бамиане, у подножия каменного великана, и увидеть уходящие ввысь огромные плечи и грудь, полузакрытые глаза и улыбку исполинского Будды – желтый, высеченный из песчаника лик в небесной бирюзе.
Городок Черикар прозвенел, промелькал, словно «бэтээр» проехал сквозь гулкий бубен, сквозь колокольчики, пестрые ленты, звонкую натянутую кожу. И опять мягкая, голубая, туманная, потянулась долина, дремлющие сады, ленивые арыки, и на далекой вершине, как ее зубчатое завершение, парил замок – крепостные башни, уступы стен, таинственное прибежище нетронутого временем уклада, куда стремилась молодая ищущая душа Белосельцева.
Миновали Баграм, и над трассой, косо, мощно, на двух белых острых огнях, прошли штурмовики с красными звездами. Рубанули воздух коротким ревом. Удалялись, плавно разворачивались, как в парном катании, оставляя матовые дуги.
К вечеру на развилке дорог колонна разделилась. Трактора сомкнутым строем двинулись к югу, в Джелалабад, где уже начиналась пахота и новая власть раздавала землю крестьянам. Бронегруппа с Мартыновым скорым ходом пошла на Кабул. Советник Нил Тимофеевич, партиец Сайд Исмаил и он, Белосельцев, на головном «бэтээре» неслись в вечернем прохладном ветре, пахнущем сухой листвой, сладким дымом жилищ, горной водой, и ему казалось, что он прижимает к губам холодное красное яблоко, вдыхает его ароматы.
Кабул они увидели вечером, внезапно, словно чья-то огромная могучая ладонь подобрала «бэтээры», как семечки. Перенесла их в город и бережно высыпала посреди тесных улиц, мечетей и лавок, окружив огнями, звоном и музыкой. Там, где катили «бэтээры», было тесно. Мелькали бороды, лица, накидки. Лавки, озаренные, как фонари, светились товарами, рулонами тканей, грудами изюма, множеством рукодельных предметов, которые не успевал разглядеть глаз. Возникали – торговец перед медными чашами весов, брадобрей, кидавший мазки белой пены на горбоносое волосатое лицо, водоноша, сгибавшийся под тяжестью скользкого раздутого бурдюка. Вечерняя толпа валила по улице, под навесами в чайхане сидели люди в тюрбанах, пахло горячим хлебом, смоляным дымом, жареным мясом. Все это было внизу, на вечерней кипящей улице.
Но выше, над толпой, над крышами магазинов и лавок начиналась тьма, забрызганная множеством желтых живых огоньков, уходивших вверх. Словно в склонах горы были выдолблены ниши и в них поставлены лампады, светильники, стеариновые огарки. С каждым из этих огоньков была связана незримая жизнь, наполнявшая гору. Гора была полой, населена неведомыми существами, и если присмотреться, то вдруг открывалась улица, уходившая вверх, на ней вдруг мелькала фигура, скользил луч фары. Город отрывался от долины, превращался в долбленую, населенную гору, был огромной таинственной катакомбой.
Выше, над черной, забрызганной огоньками кручей, серебрились усыпанные снегом, в голубых последних лучах, остроконечные пики, драгоценно сиявшие в бездонной лазури. В холодной синеве одиноко и прозрачно сверкала звезда, как драгоценная морозная капля. «Звезда Кабула» – так назвал ее Белосельцев, восторженно и страстно взиравший на звезду.
Город, куда привела его длинная, полная опасностей и приключений дорога, казался ему таинственным и одновременно родным. Словно он уже бывал здесь однажды, в иных воплощениях и жизнях. Странно знакомыми и родными казались ему озаренные лавки, чернобородые лица, слабо освещенные, уводившие в гору улицы. Он уже видел когда-то эти маслянистые огоньки на горах, эти серебристые снежные пики, влажно мерцающую одинокую звезду. Быть может, он жил в этом городе, сидел в дукане перед грудой черного чая, кидая на медное блюдо душистое зелье. Или, сгибая спину, нес отекающий тяжелый бурдюк с водой. Или в одеянии дервиша стоял перед минаретом слюдяной, глянцевитой мечети. Или в колонне восточных воинов, в золоченом доспехе, качался на спине боевого слона.
Город был странно знаком, явился из детских снов, из таинственных глубин родословной. И теперь они встретились – он и Кабул, он и Звезда Кабула. Сидя на броне «бэтээра», вторгаясь в глиняный и деревянный восточный город, он знал, что добирался к нему через множество прожитых жизней. Их встреча сулит ему неведомое, еще безымянное, но скорое и неизбежное чудо.
Часть вторая
Глава пятаяГенерал в отставке Белосельцев смотрел на бабочку, на ее волнистые узоры, из которых он, как из разноцветных волн, вынырнул обратно в зимний московский день, покинув бездонное прошлое, где растворились бесследно его исчезнувшие силы и чувства. Остро, словно проведенную линию, он ощутил свою жизнь с той точки, когда она появилась среди необъятного света, тянулась, как струна, наполненная гулом и звоном, а потом исчезала, уходила обратно во тьму, из которой вышла. Мгновение, в котором он пребывал, находилось у самого конца этой проведенной завершаемой линии. Оставался убывающе малый отрезок, и прежде чем он оборвется, надо было успеть совершить последнее в жизни открытие – понять, что она есть, эта жизнь. Откуда и кем выпущена в ослепительный свет. Куда и к кому возвратится, погружаясь во тьму.
Ему казалось, что его утомленное тело, перегруженное усталостью, с негибкими одряхлевшими мускулами, изношенными от долгой работы органами, таит в себе накопившуюся болезнь. Она, безымянная, притаилась в нем, как нечто глухое, угрюмое, направленное против него. Проникла вглубь, спряталась в сплетении сосудов, в зарослях волокон, среди шорохов и биений. Устроила засаду в сумерках бытия. И в любой момент прянет, опрокинет, станет рвать горло, выплескивать из него вместе с черной дурной кровью самою жизнь. И тогда не останется времени думать, а, лежа на больничной койке, в набегающей слепоте, среди тусклого мерцания капельниц, испускать дух, растворяться в черной кислоте небытия.
В жизни, которую он завершал, обрывалось множество состояний, страстей и задач, заслонявших его от главной, окончательной и покуда не решенной задачи. Среди этих временных, предварительных увлечений и целей, занимавших основное протяжение жизни, полностью отпали, как блеклые перегнившие корневища, его служение в разведке, ибо исчезла страна, посылавшая его в опасные странствия. Его ненасытная жажда познаний, ибо были прочитаны основные, написанные человечеством книги, осмотрены мировые дворцы и храмы, освоены философские и научные теории. Утолено любопытство к людям, ибо среди бесчисленных встреч, необычайных дарований и характеров выявилась повторяемость человеческих типов, предсказуемость их ролей и поступков. Погасли страсти и похоти, увлечения женщинами, ибо с каждой новой любовью остывало и меркло горевшее в нем солнце, и там, на небе, где еще недавно пылало дневное светило, теперь чуть теплилась печальная сумрачная заря с черными вершинами осеннего леса. Оборвалась сама собой его давнишняя утонченная страсть – ловля бабочек, за которыми он гонялся по миру, пересекал с сачком пустыни и сельвы, прорывался сквозь саванны и джунгли, уклоняясь от летящих пуль, улавливая в прозрачную кисею божественные существа, как бессловесные ангелы наполняющие мироздания. Он больше никогда не раскроет сачок, на котором высохли капли цветочного сока и зеленая кровь нимфалид, не помчится вдоль океана, выхватывая из соленого ветра лазурных бабочек, не испытает счастливого перебоя в груди, когда в руках начинало биться бесшумное диво, уловленное в кисею.
Что же ему осталось на этом последнем, исчезающе малом отрезке струны с затихающим, меркнувшим звуком? Осталось ему драгоценное одиночество, без друзей и без женщин, вне едкой ядовитой политики, в которой растворяются, как в кислоте, все тонкие явления души. Он уедет в деревню, на последние снега, на первые голубые ручьи, под туманные весенние звезды, и там, остывая от накаленной прожитой жизни, поймет наконец, кто Он, пославший его в эту жизнь. В чем Его смысл и закон. Как среди грохочущего, промелькнувшего, будто единый день, бытия он исполнил этот закон. А если не исполнил, то теперь последние, отпущенные ему часы и мгновения он посвятит познанию закона, станет следовать ему. И, быть может, в этом трудолюбивом и смиренном следовании ему откроется Тот, кто выпустил его в этот мир. Вылил его из ладони бережно, как рыбку, в поток бытия. Скоро так же бережно зачерпнет в свою могучую длань, выхватит из потока, из-под этих звезд и светил, перенесет в иное таинственное бытие.
Эти мысли казались ему сладостными и желанными. Не пугали, а манили его. Смерть, которая должна была наступить, в свете этих мыслей виделась ответственным и важным событием. Это событие касалось его не только здесь, в этой явленной жизни, но и там, за ее пределами, куда он шагнет сквозь смерть, как сквозь открытую дверь.
Если же закон им не будет понят, если Творец не откроет лица и ему после смерти предстоит рассыпаться на множество отдельных безымянных молекул, на крупицы костей, на истлевающие обрывки волокон, то все равно, став водой, летучим воздухом, пылинками камня, он сольется с Творцом, останется в его воле и власти.
Он смотрел на джелалабадскую бабочку, на ее золотисто-песчаные крыльца, на черные оконечности с бело-жемчужными пятнами. Крылья начинали вибрировать, орнамент двоился, и тончайшее, едва различимое дребезжание превратилось в длинный телефонный звонок.
– Виктор Андреевич? – раздался бодрый голос, исполненный доброжелательности и едва уловимой неуверенности. – Ивлев Григорий Михайлович беспокоит… С величайшим к вам уважением!.. Белосельцев, узнавая именитого генерала, думского политика и старого знакомца по афганскому походу, успел изумиться. Безжизненная бабочка загадочно извергала из своих хрупких орнаментов энергии жизни, превращала их в нежданные звонки, голоса и встречи. – Все время помню о вас, думаю. Чем тяжелее мне, тем чаще думаю. И вот решился вдруг позвонить.
– Я в тишине, на покое, – ответил Белосельцев. – Это вы на виду у всей страны. Боец, воин. Пользуюсь случаем, чтобы выразить вам, Григорий Михайлович, мою солидарность. Солидарность пенсионера.
– Вы знаете, Виктор Андреевич, как я вас ценил и ценю. Как вам благодарен за прошлое. И эта ваша поддержка мне очень важна, поверьте. Не могли бы мы с вами повидаться, переговорить. Я был бы очень признателен.
– Что ж, есть о чем вспомнить.
– И, главное, есть наметки на будущее… Виктор Андреевич, не сочтите за дерзость… Что, если вы сейчас возьмете, да и приедете ко мне в Думу…
Бабочка, пойманная в джелалабадском саду, как малый радар, облучала его. Держала в своем тончайшем разноцветном луче, и он, как самолет, шел по ее наведению.
– Еду, – сказал Белосельцев, не пытаясь сопротивляться. Он был почти лишен воли. Управлялся по автопилоту. Программа полета была нанесена на хрупкие крылья бабочки. Он летел по лучу над желтыми песками пустыни, над черными каменистыми сопками, над белыми солончаками. Сквозь синюю линзу воздуха хотел разглядеть караван с оружием, тонкую вереницу верблюдов, – от пакистанской границы в Гельменд, из времен афганской войны в сиюминутное время, среди которого в телефонной трубке замирал голос генерала Ивлева.
Белосельцев помнил их афганские встречи, – Ивлев, молодой подполковник, командир гератского полка, в чьей зоне ответственности Чичагов отрабатывал свои спецмероприятия, стравливая племенных князьков, покупая кого деньгами, кого оружием, сопровождая подкуп вертолетными ударами. Они сидели в командирском модуле, пили спирт. Лицо у Ивлева было измученным, потным среди красных пятен низкого гератского солнца. Они обменялись с Белосельцевым часами, как нательными крестами, и за окнами, в бурунах кирпично-красной пыли прошел танк.
После этого Ивлев надолго исчез из вида, делал карьеру в сибирских глухих гарнизонах. Стал известен стране, когда в проклятую новогоднюю ночь президент бросил войска на Чечню. Рыхлые полки и бригады необстрелянных юнцов, ведомые случайными, разучившимися воевать командирами, попали под гранатометы чеченцев, превращались в груды горящей брони. Ивлев, молодой генерал, взял управление боем, спас от разгрома армию, овладел столицей чеченцев. Белосельцев помнил на телеэкранах его растрепанные волосы, расстегнутый ворот, забинтованную кисть руки.
Третье явление Ивлева было в политике, когда он, бросив службу, отказавшись от наград президента, стал депутатом Думы. Любимец армии, защитник попранных военных, открытый и ярый враг президента, он оглашал Думу громогласными речами, становясь с каждым разом все ненавистней и опасней режиму. Слушая его на пресс-конференциях, Белосельцев удивлялся произошедшим в нем переменам, его дерзкому бесстрашию. Сравнивал с собой, со своим молчаливым прозябанием. Корил себя за немощь и слабодушие.
Теперь, согласившись поехать в Думу, он действовал не рассудком, а сохранившейся в нем, не исчезнувшей с годами интуицией, установившей неясную связь между появлением Чичагова, странным знакомством с владельцем казино Имбирцевым и этим звонком генерала Ивлева. Все они ворвались в его жизнь одновременно, как пучок лучей, из единого источника света. И он, состарившийся разведчик, хотел установить точку исхода лучей. Стал собираться в Думу.
Здание на Охотном ряду, тяжеловесное и основательное, как столы и комоды сталинских времен, было запечатлено в его сознание с детства, когда обрызганный, весенний асфальт принимал на себя многоцветные колонны, наполнявшие кумачами, воздушными шарами, медными трубами просторную Манежную площадь. И прежде, чем его детским восхищенным глазам устремиться к Кремлю, к желто-белому, с кружевными воротниками, дворцу, они видели гранитные бруски и тяжелый, вырубленный из камня герб государства у края синего неба. Позже, во все остальные годы, когда в здании размещался Госплан, оно сочеталось с представлением о мощи страны, для которой за этими стенами планировались ракеты, гектары целинных земель, рождение младенцев и средства на спецоперации, к которым был причастен Белосельцев. Отсюда, из-под этого каменного герба, управлялась экономика огромной державы, планировалась будущая жизнь человечества.
Теперь здесь размещалась многошумная и бессильная Государственная Дума, сменившая своими скандалами, суетой и истошными заявлениями упорную, скрытую от глаз работу мозгового центра страны.
Белосельцев шел вдоль фасада в порывах морозного ветра, летящего вверх, к Лубянке. Глядел на бесчисленные, трущиеся друг о друга лимузины, которые тесно в метельном блеске раздваивались на два потока, и один жирно, густо вливался в Тверскую, медленными толчками уходил к Пушкинской, к Белорусскому, к Аэропорту. Другой цепко и непрерывно, словно толпище глянцевитых жуков, карабкался вверх, мимо Большого театра и «Метрополя», спускался к реке, по которой плыли льдины, разбегался по набережным и бульварам.
Перед высоким порталом Думы, у казенных дверей, выстроились два пикета. Держали на ветру загибающиеся листы с транспарантами. Размахивали флажками, одни – красными, советскими, демонстрируя приверженность оппозиции, другие – трехцветными, что выявляло в них сторонников власти. Бумажные транспаранты у обеих партий были похожи, начертаны от руки. И там и здесь их сжимали скрюченные старушечьи пальцы. На одних бумагах было написано: «Слава Железному Феликсу!», «Восстановим памятник Дзержинскому, разрушенный вандалами!». На других – «Нет, красному палачу!», «Большевистский маньяк не вернется на площадь!». Пикетчики в обшарпанных утлых пальто, в продуваемых платках и шапках вяло переругивались, осыпали друг друга негромкой ворчливой бранью. Мимо них из тяжелых дверей время от времени выходили нагретые, в добротных пальто, депутаты. Садились в уютные салоны тяжеловесных «мерседесов» и «вольво», уносились в метель, оставляя на ступенях две противоборствующие замерзающие группки, позволяя их беззубым ртам выкрикивать лозунги, похожие на бумажные цветы в могильных зимних венках.
Белосельцев получил пропуск и оказался под сводами тяжеловесного здания, среди лестничных маршей, просторных вестибюлей, длинных коридоров, в которых когда-то обосновалось первое поколение наркомов, запускавших Красную империю, – грозно, как огромный танк, вползала в двадцатый век, направляя во все стороны света свои калибры. Теперь от неутомимых наркомов остались дубовые двери, медные ручки и высокие потолки, куда упирались четырехгранные колонны и где, казалось, реял синеватый дым папирос «Прима».
Белосельцев не сразу направился к Ивлеву, а прогуливался по коридорам, наблюдая думскую публику, выделяя в ней слои, которые не смешивались, как пресная и соленая вода, существовали отдельно, порождали водовороты, течения, тихие заводи, и он, как малая подводная лодка, прячась в этих турбулентных потоках, видел все, оставаясь невидимым.
Отдельно от всех энергичным, хищным сообществом обосновались журналисты, чуткие, нервные, ожидающие, с металлическими штативами, камерами, гуттаперчевыми микрофонами. Как ястреба, вяло и сонно наблюдали окрестность. Если где-то стороной, быстро, как мышь, пытался прошмыгнуть депутат, они разом вздрагивали, ощетинивались колючими приборами, выставляли металлические когти и клювы, нацеливали электронные глаза. И либо вновь затихали и успокаивались, если добыча оказывалась слишком мелка и несъедобна, либо всем скопищем набрасывались на нее, начинали расклевывать, освещали режущими лучами, окружали черными набалдашниками микрофонов. Пойманный депутат отбивался, лепетал, что-то бессвязно говорил, насыщая прожорливые желудки диктофонов и телекамер, покуда мало-помалу ни угасали рефлекторы, отворачивались окуляры, убирались штативы. Журналисты теряли к жертве интерес, и она, помятая, ощипанная, пробиралась дальше, роняя в коридоре пух.