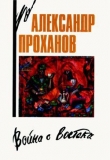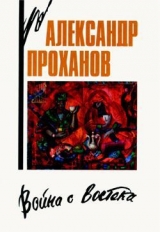
Текст книги "Война с Востока. Книга об афганском походе"
Автор книги: Александр Проханов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 76 страниц) [доступный отрывок для чтения: 27 страниц]
Начальник штаба майор Файзулин завел свою малую группу в мелкий колючий кустарник, откуда видна была заснеженная гора с Дворцом, туманилось мглистое варево Кабула с блуждающими огнями, сквозь кусты чернело строение подстанции, питающей Дворец электричеством. Группе вменялось обезвредить охрану, взорвать трансформаторные блоки, лишить Дворец освещения. К началу штурма лампы и люстры Дворца, прожекторы и наружные осветители следовало обесточить. Операция должна была проходить в темноте.
Файзулин сквозь сетку кустов осматривал контур строения, рыжий огонек караулки, где дежурил афганский пост – двое наружных охранников и двое внутренних. Задача была проста и понятна. В рюкзаке плотными брусками лежала взрывчатка. Объект охранялся слабо, взорвать его было нетрудно. И Файзулин сетовал на комбата. Калмыков не пустил его на опасный участок, не доверил штурмовую группу.
Он жевал отломанную веточку. Жесткая, замерзшая, она оттаивала в его губах, начинала источать тонкие горьковатые соки. Файзулин глотал слюну, смешанную с соками растения, и вдруг вспомнил летний отпуск, глухую деревню у озера, жену, полоскавшую с мостков пузырившиеся рубахи, поляну в дожде, на которой на глазах росли, шевелились глянцевитые красноголовые грибы. Они парились в бане, брызгали на закопченные камни из деревянного обглоданного ковшика. Баня наполнялась звоном, жаром, душистым еловым туманом. И жена казалась стеклянной – груди с розовыми сосками, живот с темным глубоким пупком, округлое бедро с влажным березовым листиком. Утомленные после бани, они лежали в светелке с оконцем на ночное озеро, и казалось, в озерных туманах шествует бестелесное существо, призрачное и колеблемое. Ступает по водам, наполняя пространство слабым сиянием. Ночной дух звал его за собой, и он тянулся на это удалявшееся мерцание, пока не проснулась жена, тревожно его окликнула.
Теперь, лежа на холодной земле, чувствуя лопатками твердые бруски взрывчатки, а языком – горьковатые волокна надкусанной веточки, он вдруг мимолетно вспомнил об этом и тут же забыл.
– Пошли!.. Аккуратно!.. Без писка!.. – скомандовал он, увидел, как гибко зазмеились, поползли вперед сквозь кусты разведчики.
Два часовых-афганца сошлись вместе, заслоняя желтое окно караулки. Их льдистые штыки, высокие с козырьками картузы сбились. И в тот же миг рядом с ними взметнулись два вихря, опрокинули пару караульных, открыли желтый прямоугольник света. Файзулин, подбегая, успел рассмотреть разведенные башмаки гвардейца, рыжий, в пятне света, приклад автомата.
– Работаем!.. – одними губами беззвучно приказал он солдатам. Прижался к дверному косяку, пропуская в дверь два мощных упругих клубка. Кинулся следом в освещенное взломанное нутро караулки. Увидел, как сержант ударом в лицо глушит, заваливает худого темнокожего афганца. Другой гвардеец, получив удар в кадык, выпучил глаза, харкал красным.
Разведчики, шумно дыша, крутили лежащим гвардейцам руки, лепили им на губы пластырь. Файзулин бегло оглядывал караулку – нары с одеялами, красную спираль обогревателя, чайник на столе и пиалки с недопитым чаем, и вторую, внутреннюю дверь, ведущую в трансформаторную подстанцию.
– Волоки их наружу, а то взрывом башку оторвет! – приказал Файзулин, круша ломиком дверь, выколупывая из щепок тело замка.
В каменной будке тускло горели лампы, освещали ребристые кубы трансформаторов, фарфоровые изоляторы, медные жилы, распределительный щит с циферблатами. Файзулин определил входные толстожильные провода, соединяющие будку с городской питающей сетью. Раскрыл рюкзак и прилепил к изолятору взрывчатку с обрезком шнура. Второй брусок приклеил к выходным, утекавшим во Дворец проводам. Третий – на распределительный щит с рубильниками и квадратными стеклами циферблатов.
Он достал зажигалку, прислушался. Было тихо, лишь слабо урчал трансформатор, перегонял энергию из туманного Кабула вверх на гору, питая Дворец. Оставались последние минуты до штурма, и эти минуты он использовал для понятного и несложного дела.
Файзулин запалил зажигалку. Поднес огонек к обрезку шнура. Дождался, когда задымит, зашипит на конце шнура красная мушка. Подпалил два других заряда и, схватив мешок, проскользнул сквозь пустую караулку, выскочил на воздух.
Разведчики отволакивали сквозь заросли оглоушенных гвардейцев. Дворец сиял сквозь кусты. И Файзулин, глядя на окна Дворца, чувствовал, как укорачиваются окруженные дымками обрезки шнура, уголек проползает сквозь пепел к взрывчатке.
Три взрыва слились в один, грохнули длинно и тупо, выдувая из караулки жаркую вонь, ворох колючих щепок. Дворец погас, будто его срезало с горы. В пустоте, где только что сияло унесенное взрывом диво, раздались отдаленные выстрелы, крики, полетели трассеры.
Файзулин испытал ликование. Он безупречно совершил свое дело. Малым точным ударом, направив его в самую уязвимую точку трансформатора, ослепил Дворец, прихлопнул его золотые глазницы, смел с горы озаренный остов.
Теперь комбат в темноте, невидимый, поведет штурмовую группу, а он, начштаба, вернется на командный пункт и оттуда станет слушать позывные, готовя подмогу штурмующим.
– Давай бросай здесь эти мешки с костями! – приказал он солдатам, тащившим оглоушенных гвардейцев. – Вот какие вы звери полосатые! Людям чай не дали допить!
И вдруг Дворец загорелся. Вспыхнул ярко и чисто, возник на горе золотыми окнами, белыми колоннами. Файзулин испугался, не поверил. Подумал, что его зрачки, сотрясенные взрывом, вернули изображение Дворца и оно через секунду погаснет.
Но Дворец сиял, вокруг него разрасталась стрельба, и Файзулин понял, что подрыв не удался. Взрывчатка не разомкнула контакты, электричество поступает во Дворец. Задание командира не выполнено.
Он рылся в мешке, извлекая оставшиеся кубики тола. Торопился, проклинал себя. Кинулся к караулке, освещая путь фонарем.
Мелькнул опрокинутый стул, осколки пиалы, растоптанный сахар, растворенная задымленная дверь подстанции. Он направил в дым луч фонаря и увидел, как из дыма выступает ему навстречу ободранный человек с липким обрубком руки, с выбитым глазом, с кровавым шматком на усах.
Начштаба не знал, что энергопитание Дворца продублировано дизелями. Машины германского производства были упрятаны в бетонный бункер по другую сторону горы. Разрыв городской сети привел в движение автоматы и релейные группы, дизели заработали, и Дворец получил электричество.
Не знал майор и того, что начальник караула, услышав шум за стеной, бросился из караулки в помещение трансформаторной будки. Укрылся в сумраке среди шкафов и щитов.
Взрыв, разметавший трансформаторы, ранил офицера, оторвал ему руку по локоть. Еще не чувствуя боли, держа здоровой рукой автомат, он поднимался из дыма. И когда боль сквозь раздробленные кости и мышцы стала стремительно в него проникать, он увидел сноп фонаря, очертания идущего к нему убийцы. Он стал стрелять с одной руки, простреливая близкого врага, вырывая из него клочки одежды и плоти. Сам падал, пропадал, умирал от боли.
Файзулин выронил из рук фонарь. Он больше не видел бетонной стены, по которой скользнул луч падающего фонаря, разрушенных приборов, стрелявшего человека. В нем уже не было пугающей мысли о невыполненной задаче, гневе командира, о своей вине перед товарищами. Он видел лесное тихое озеро. Из озерного тумана появилось бестелесное существо, словно одетое в полупрозрачную рубаху. Протягивало к нему руки. Дотянулось до него, обняло, и они оба, бестелесные, полупрозрачные, закачались над озером, не касаясь воды.
Файзулин лежал бездыханно. Кругом метались лучи фонарей. Солдаты штыками кололи безрукого мертвого гвардейца. Сквозь распахнутые двери одиноко и ясно сиял Дворец.
Глава семнадцатаяГруппа капитана Расулова на шести «бэтээрах» притаилась в темной ложбине. Машины тесно, слитно, с погашенными огнями готовились к броску. Солдаты, почти невидимые, слились с броней. Группе надлежало ворваться в расположение зенитчиков, обезвредить расчеты, закрепиться в капонирах, развернуть четырехствольные установки в сторону Дворца, поддерживать огнем атакующих. «Бэтээры» на больших скоростях должны были одолеть простреливаемые участки, избежать минных полей и внезапным ударом сокрушить зенитчиков. Расулов, нервный, бодрый, чувствуя горячие переливы мышц, крепость и гибкость суставов, ходил вдоль машин, глотая студеный воздух, испытывал нетерпение, жадное ожидание боя.
Солдаты смотрели на своего командира, и он, не умещая в себе эту нервную горячую силу, делился ею с солдатами. Цеплял то одного, то другого бодрыми грубоватыми шутками.
– Ну вы, зверюги, что скукожились! Нахохлились, как вороны!.. Сержант, смотри в портки не надуй, лучше сейчас отлей!.. Старшина, давай постучи им кулаком по башке, а то спят, как сурки!.. Джигит, глаза протри, это тебе не по мишеням лупить!.. – Он дразнил солдат, отгонял от них страх, тревогу, направлял вперед, в темноту, в бой.
Поглядывая на фосфорный циферблат с мягкой дрожащей каплей, он заботился о том, чтобы головной «бэтээр» не въехал на минное поле, чтобы солдаты на крутых виражах не свалились с брони, и одновременно, в такт шагам, складывал слова и напев своей будущей песни, которую завтра же, после боя, прогремит на гитаре: «В холодную ночь унесли „бэтээры“ последнего света последнюю веру…»
Он чувствовал, как сокращается время, отделявшее его от атаки. Еще минута-другая, и он кинется в люк, нажмет тангенту, отдаст короткий приказ: «Вперед!» – и железная гибкая колонна с рокотом метнется на склон. В эти последние исчезающие секунды его страстные мысль и память вызвали мимолетное зрелище – недавнее свидание в госпитале. Полутемная пустая палата. Ее влажные шелковистые груди, открытый дышащий рот. Он целует ее подмышки с куделью, белое выпуклое бедро, горячие колени. Она слабо защищается, кладет руку на свой живот, не пускает его жадные губы. Он целует ее пальцы с серебряным перстеньком и сквозь пальцы темную ложбинку пупка, щекочущий мягкий лобок.
Это зрелище возбудило его. Сквозь грубую одежду, кожаные ремни и железо он почувствовал, как его пах наполняется горячей силой. Исчезающие перед атакой минуты были наполнены этой влекущей раздражающей силой.
– Ну вы, зверюги, прилипли к броне задами!.. Слушай сюда! Дворец возьмете – час ваш! Что хапнете – унесете! Сувениры домой!..
И снова в такт шагам складывался неясный струнно-гремящий напев: «И пусть сбережет твоего офицера последнего боя последняя вера…»
Солдаты на броне сжимали автоматы и гранатометы. Водители ждали приказ, чтобы включить стартеры. Пулеметчики приникли к прицелам ночного видения. Солдат Амиров прижался щекой к шершавой ледяной башне, и холод брони наполнял его тоской и страхом. Он боялся этой ветреной ночи, боялся боя, боялся своих товарищей и своего командира, ожидал близкой для себя боли и смерти. Ему хотелось спрыгнуть и убежать, без тропы, без дороги, в горы, через седловины и расселины, камнепады и хребты туда, где в маленьком узбекском поселке живут его мать и отец, бабушка и любимые сестры. На веревке перед домом развешаны пестрые одеяла. Сестра лупит по пыльному покрывалу палкой. Сквозь золотистую пыль видно близкое поле, цветущее деревце граната, которое цвело в те дни, когда его забирали в армию. Если броситься и побежать, не слушая окриков и погони, то можно добежать до дома, до цветущего пахучего деревца.
Чтобы не было так уныло и страшно, Амиров достал из кармана коробочку, где хранился зеленый, едко пахнущий порошок конопли, выменянный им у солдата-афганца. Осторожно, чтобы не заметил толстоплечий, в бронежилете, прапорщик, он отсыпал порошок на ладонь, быстро метнул пригоршню в рот. Разжевал, смачивая слюной, всасывал в себя горьковатые соки. Они согревали его, наполняли боящуюся слабую плоть бодростью, теплом и весельем. Глаза стали видеть зорче. В черной ночи расцветало перед ним все ярче розовое чудное деревце.
– Нуты, водила! – Расулов шмякнул ноги в люк. – Запускай!.. Держи колею!.. На минное поле не влезь!.. Вперед!.. – нажимал он тангенту рации.
Рванулась вся единая, стиснутая тесно колонна. Не зажигая огней, покатила распадком, огибая глыбы камней. Многолапо вскарабкалась на подъем. Процарапалась сквозь снег и заносы. Продралась сквозь хрустящие, полегшие на сторону кусты. И, вцепившись в асфальт, метнулась по трассе мимо деревьев, сквозь которые засиял, зажелтел Дворец.
– Держать интервалы!.. Расходимся каждый на свой объект!.. Мины смотрите!.. – командовал он, собирая в точку свою чуткость, ум, прозорливость. – Водила, бей впереди, что увидишь!
Хрустнул шлагбаум, проломленный тяжким ударом. Часовые, ошеломленные, с криком наставили штыки. И им на спины с брони по-кошачьи кидались разведчики, валили, глушили. «Бэтээры» веером, ломая колонну, расходились к позициям зениток. Расулов, хватая в раскрытый рот ком ветра, кричал:
– Звери, работаем!.. – Прыгнул вниз, пропуская над собой борт «бэтээра».
С разбегу, едва не упав, он ткнулся в землянку. Увидел, как открывается брезентовый полог. В слабом отсвете возник гвардеец – высокая офицерская фуражка, красный уголек кокарды. Рука с пистолетом протянулась, почти уткнулась в грудь Расулова, и тот поднырнул под выстрел, под рыжий шар пламени. Схватил стрелявшую руку, вывернул против изгиба, и человек с хрустнувшей переломленной рукой взвыл, а Расулов, бросая его, сорвал с гранаты кольцо, катанул ее под полог землянки. Отпрыгнул в сторону, слыша, как грохнуло в земле и кусочки стали, пробив полог, вылетели наружу.
– Сержант, к пушкам!.. – крикнул он, видя, как крутятся у орудия несколько неразличимых фигур, стягивают маскировочную сеть. – Не дай им орудие!..
Он пустил в темноту очередь, отгоняя от установки зенитчиков. Слышал, как пули рикошетят от стальных элементов орудия.
– Звери, работаем!..
В темноте, на батарее крутилось, хрипело, визжало. Под разными углами, вверх и вниз, летели трассеры. Падали, прыгали, катились черные комья. И вдруг ртутный слепящий свет ударил из близкой чаши прожектора. Из дыма, из лилово-белого котла прилетала на батарею шаровая молния, и каждая соринка, каждый камушек стали видны, отбрасывали тень. Люди, сцепившись в комки, боролись, махали руками вместе со своими длинными уродливыми тенями.
Расулов, заслонившись локтем от сверканья, видел четырехствольные установки под полусброшенной сеткой, ползущего по земле окровавленного артиллериста, своего сержанта, отбивавшегося ударами ног от двух цепких гвардейцев, серебряную обертку от сигарет, казавшуюся осколком зеркала. Видел бой, его завершение. Люди в пятне ярчайшего света боролись, как на арене. Казались погруженными в серебристое вещество, накрытыми стеклянным прозрачным колпаком.
Два зенитчика одолели сержанта, свалили его, били штык-ножами. Расулов, стреляя навскидку, отгонял обоих, отшвыривал вспышками, погружал очередь в лохматый мундир гвардейца, в блестящие пуговицы.
– Крути установки!.. – Расулов вился волчком, пригибался, пропуская над головой пули, кидался в сторону, уклонялся от взрыва гранаты. Успевал ударить, вонзить, хлестнуть очередью. Рычал, выдыхал, тонко взвизгивал.
Разведчики сволакивали маскировочную сеть, разворачивали зенитки, направляли их раструбы ко Дворцу. Обертка от сигарет валялась у него под ногами. Он сделал шаг, чтобы ее раздавить, и, шагая, наступил на фольгу, гася ее сверкание, увидел, как из-за бруствера поднялось узкое, с вдавленными щеками лицо, горбатый нос, черные усы, сбитые на лоб короткие черно-синие волосы. Ручной пулемет, пошарив рыльцем, уперся сошками в край бруствера, и оттуда дунуло, ударило жутким страшным ударом ему, Расулову, в пах, в промежность, отстреливая, отрывая всю его силу, свирепость и страсть. Лопнул тугой запаянный шар, и из него вместе с болью вырвались и унеслись все его песни и пьянки, и он сам, оскопленный, с выдранной сердцевиной, катался клубком и визжал, затыкая ладонями пах, схватив кулаками кровавые шматки и волокна, – на сверкающей круглой арене, в свете прожектора.
Рядовой Амиров, наглотавшись наркотика, вместе с группой захвата ворвался на батарею. Вместе со всеми прыгнул с брони, побежал в темноте. Ему не было страшно, он не видел взрывов и выстрелов. В его счастливых безумных глазах колыхались цветные одеяла, сестра палкой колотила пыльную цветастую ткань, хлопки и удары гулко отражались в ушах. Когда вспыхнул прожектор, осветил батарею, ему показалось, что он на танцплощадке, вокруг него, обнявшись, танцуют, играет громкая музыка.
Он пошел вместе с танцующими туда, где в открытой степи цвело его любимое деревце, желая вдохнуть аромат розовых, покрытых цветами веток. Он перелез через бруствер, пробрался сквозь путаницу бурьяна и колючую проволоку, пересек помойку, оставляя за спиной музыку и свет танцплощадки. Шел, протянув вперед руки, на ощупь, наугад находя дорогу, не зная, что ступает на заминированную землю. Минное поле защищало батарею, и он подорвался на первой же мине, чуть припорошенной снегом. Из-под ног его вырвался косой красный взрыв, раскалывая его кости и череп. И последним видением выбитых глаз было маленькое цветущее дерево, трепещущее среди синих пространств.
Глава восемнадцатаяКомандир четвертой роты Беляев сидел в головной «бээмдэ», ухватившись за холодную пушку. Чувствовал затылком застывшую колонну боевых гусеничных машин, их литую неподвижность, готовность к одновременному рывку, огневому удару. Но это чувство не рождало в нем уверенности и силы. Боевая мощь колонны была источником опасности для него самого. Ему, Беляеву, волей глупых и жестоких людей помещенному в железный люк, в черную азиатскую ночь, грозили боль, страдание, смерть.
Его группа из шести машин с десантом готовилась к штурму Дворца. По серпантину, сметая посты, гася пулеметные гнезда, они достигнут портала, соединятся с группой захвата, штурмующей резиденцию в лоб, с боем подымутся на этажи.
Беляев сидел, прислонившись лопатками к пушке, боялся и ненавидел. Он ненавидел комбата Калмыкова, всегда спокойного и уверенного, мнимопонимающего смысл и цель их появления в дикой и жестокой стране. Ненавидел саму страну из камней и грязи, из пыли и снега, отторгавшую цветом своего неба, вкусом воды и воздуха, запахом селений, формой деревьев, очертаниями лиц. Ненавидел обитателей страны, бестолковых, шумных и нищих, затеявших грязную, кровавую, бессмысленную усобицу, назвав ее революцией. Ненавидел лепной, как осиное гнездо, зловонный город с липкими ручьями нечистот, путаницей перекрестков, убогим подобием других городов. Ненавидел Дворец с жестоким и умным властителем, которого он, Беляев, должен сегодня убить, но перед этим охрана властителя изуродует его, Беляева, тело свинцом и сталью.
«Все дерьмо! – поносил он страну, город, мечети, рынки, мужчин в грязных перевязках, женщин в нечистых балахонах, размалеванные дымящиеся грузовики, бренчащие трескучие повозки, и эту ночь, и невидимые горы, и асфальтированный виток серпантина, по которому машины рванутся к порталу Дворца. – И сам я дерьмо!..»
Он думал, как бездарно и опрометчиво он согласился на этот афганский поход. Ему следовало, подобно другим, увильнуть, отказаться. Договориться с врачом и улечься в госпиталь. Сослаться на невроз, на обострившийся геморрой, устроить операцию аппендицита. Нужно было воспользоваться связями в округе, в Москве, в управлении, добиться протекции подобно блатным сынкам и племянникам, которые, узнав о походе, исчезли из батальона, перевелись в другие части.
«Как же, за меня похлопочут!.. Без волосатой руки!.. Без генеральской родни!.. Мы – рабоче-крестьянские!.. Сам дерьмо, чужое дерьмо разгребаю!..»
Он ненавидел своих беспомощных, бесполезных родителей, не сумевших оградить его своими влиянием, властью, достатком. Но больше всего ненавидел и боялся неотвратимой минуты, когда машины пойдут вперед, навстречу боли и смерти. Это ожидание боли и смерти вызывало спазм желудка. В кишечнике бурлило, и он чувствовал резь в животе.
В десантном отделении боевой машины рядовой Хакимов, стиснутый спинами, стволами и подсумками, ожидал своей доли. На него навалилась толстая спина сержанта Шарипова, его постоянного мучителя и обидчика. Хакимов, придавленный тяжестью, не смел пошевелиться. Представлял, как приставит к этой спине автомат, нажмет на спуск, прекратит нескончаемые издевательства и мучения, делавшие жизнь невыносимой.
После того как Хакимов чуть не взорвал казарму гранатой, для него наступила короткая передышка. От него отступились, испытывая брезгливый страх и презрение. Но потом постепенно стали преследовать и мучить с удвоенной силой, изобретая множество новых издевательств. Добивали, домучивали его как подранка, который своим затравленным видом причинял страдание здоровым и сильным людям.
Теперь, накануне боя, он надеялся, что будет убит и таким образом прекратятся страдания. Но перед тем как наступит его собственная смерть, он всадит пулю в ненавистную толстую спину, отомстит мучителю.
«Пусть, – думал он, мечтая о своей смерти, представляя, как гроб привезут домой, к матери и отцу, они станут убиваться над его худым, твердым, холодным телом, целовать его бело-синие, с въевшейся грязью пальцы, его бритую голову, заострившееся, в кровоподтеках лицо. – И пусть, и пусть!»
Едва не плача, он наслаждался мыслью о мучениях, которые испытают отец и мать, отдавшие его жестоким, беспощадным людям.
Ротный Беляев сквозь холодное ветреное пространство услышал одинокий выстрел. Ему откликнулась редкая очередь. Ахнул металлический, стонущий взрыв. И в этой ночи со всех сторон застучало, заколотилось, затрещало, разбрызгивая длинные брызги, фонтаны огня, дрожащие угли и всполохи. Беляев, чувствуя, как больно распирает живот, кляня свою участь, скомандовал сипло: «Вперед!»
Рыкнула боевая машина, высыпала из кормы огненную метлу. Вслед за ней с хриплым звоном задышала остальная колонна, вышвыривая красную гарь и перхоть.
– Твою мать!.. Пошел!.. – торопил колонну ротный, и стальная змея, цапая гусеницами камень, пошла резать ночь, извиваясь в распадке.
Выскочили на трассу, крутанув траками по асфальту. Кинулись вверх по серпантину, рокоча катками, с хрустом съедая наледь обочин. Отработали пулеметами по доту, погасив пузырек пламени. Прошибли стальные ворота, срезав очередью караульных. И мощно, с лязгом двинулись по серпантину ко Дворцу.
– Твою мать! – повторял Беляев, вцепившись в крышку люка, хватая ртом комья ветра.
Дворец возник внезапно, озаренный на черном небе, с белизной колонн, с янтарной лепниной карнизов, с шевелящимися лопастями света. Драгоценный, сияющий, окруженный черным плетением деревьев, он парил над горой, и Беляев, подняв глаза, сквозь ветер и рев моторов различил стаю испуганных, косо летящих птиц, сносимых за кровлю Дворца.
Ударило глухо и плоско, расщепляя воздух, словно сломалось сухое волокнистое дерево. Рванули над головой длинные белые проблески, улетая в ночь, в пустоту, впиваясь в невидимую небесную точку.
«Шилка»!» – подумал Беляев, узнавая трассы скорострельной самоходки. Видимо, установки вышли на позицию и с соседнего холма открыли огонь по Дворцу.
Снова просвистело, раздирая воздух вблизи виска. Молния вонзилась в дерево, раздробила его, и машина продралась сквозь ветки рухнувшей на дорогу вершины. Беляев, оглохнув, чувствовал виском пролетевший страшный снаряд.
Колонна, завершая вираж, поднималась по серпантину. Ливневые трассы впивались в фасад Дворца, высверливали боковой флигель, рубили каменные колонны, вытачивали овалы окон, и оттуда выплескивалось чадное пламя.
Машины поднялись на гору, открыв «Шилкам» глянцевитые стальные борта. Вошли в свистящие потоки огня. Беляев оказался среди растерзанного, ревущего воздуха, лопающихся металлических взрывов. Увидел, как ослепительно из черных пространств налетает, расширяется белый пучок. Окружил колонну огнем и ревом, поддел огромным белым гвоздем одну из машин, и та, пробитая ударом, крутанулась, дернулась, из нее саданул гулкий стонущий взрыв, повалил белый пар, словно вскипел металл.
– Суки!.. По своим!.. – прокричал, провизжал Беляев, проваливаясь в люк, ударяясь головой о железо. Внутренность желудка излилась из него, и он, упав на сиденье, в липком зловонии, повторял: – По своим!..
Колонна огибала подбитую машину, продолжала движение ко Дворцу.
Рядовой Хакимов втиснулся в металлическую нишу, чувствуя вибрацию брони, хруст гусениц, колыхание амортизаторов. На виражах толстая спина Шарипова наваливалась на него, так что трудно было дышать. Хакимов закрыл глаза, погасил в себе волю, отдаваясь железной вибрации, ожидая момента, когда оборвется мучительная и ненужная жизнь.
Он чувствовал повороты, плотность грунта. Слышал удары кормы о древесный ствол, короткий стук пулемета, запах пороха. За стальной оболочкой что-то свистело и выло, в бойницу залетали короткие ртутные вспышки, освещали матерчатые швы на спине Шарипова, цинки боекомплекта, трубу гранатомета.
Страшный треск и толчок проник в машину, прободал ее слепящей иглой, наполнил огромным тугим ударом. Хакимова вмяло в сталь, и он исчез. Не ведал, что идущая боевая машина попала под выстрел скорострельной «Шилки». Артиллерист, молотя по Дворцу, дрожанием пальца сместил траекторию, и снаряды коснулись колонны. Бронебойный сердечник, протаскивая за собой струю огня, прободил борт машины, растерзал механика-водителя, сдетонировал взрыв боекомплекта, выбивая экипаж и десант. Машина, искря и дымясь, застряла на трассе, ее на скорости огибали другие машины, устремлялись ко Дворцу.
Всего этого не ведал Хакимов. Он очнулся в горящей машине среди едкого зловония и дыма. Сквозь слезы и кровь разглядел истерзанную, наваленную груду людей, иссеченную в клочки одежду, чье-то безносое, с выбитыми глазами лицо. Перед ним тяжелой грудой лежал человек, на спине его горела лохматая суконная ткань, и сквозь выгоревшее пятно в обрамлении огня краснело и пузырилось мясо. Жареная спина шевелилась, и из нее раздавалось мычание.
Хакимов начал понимать случившееся, окруженный тлеющими обрывками кабеля, зловонием сгоревшего пластика и взорвавшейся кислой латуни. Его душил кашель, рвало грудь. Из спины с язычками огня раздавалось сиплое:
– Му-у-у!..
Хакимов освободил свои ноги, вытащил их из-под чужого вяленого тела.
Это неузнаваемое тело было дряблым, перемолотым, без внутренней жесткости, и Хакимов сквозь боль в груди, кашляющее дыхание успел изумиться этой безвольной, бесформенной дряблости.
И вдруг острое желание жить, уцелеть, выскочить из этой стальной машины, где все убито, мертво, страшное, из мольбы и ужаса чувство овладело им, и он стал карабкаться, ползти, переваливаться через недвижных дымящихся людей к корме, к дверям десантного отделения. Отталкивал от себя неживые тела, вялые руки и головы, железо гранатометов и автоматов.
– Му-у-у!.. – раздалось из дыма, и этот бычий неразумный звук остановил Хакимова.
Мычал Шарипов, его бессловесное туловище с медленно выгоравшей спиной. Хакимов хотел поскорей уползти от этого животного предсмертного мычания, оставить его здесь, в прокаленном чадном железе. Чтобы кончились навсегда нестерпимые издевательства, не дававшие жить унижения, – пусть сгорят и исчезнут в зловонии, а он, живой и свободный, останется жить.
Он открыл тяжелую половину дверей, выпал из машины, хватая морозный глоток воздуха. И вдруг вспомнил, как в первый день по прилете, ярким утром, Шарипов купался в арыке. Плотный, гладкий, с мускулистой спиной, плюхнулся в воду, плескался, похожий на сильного водяного зверя, гоготал, брызгал, и при взмахах на блестящей спине бугрились глянцевитые мышцы.
Теперь эта спина прогорала, и из нее раздавалось непрерывное:
– Му-у-у!..
Хакимов глотал свежий холодный ветер, тоскуя, плача, вновь повернул в копотное нутро машины. Перелез через неживые тела, ухватился за тяжелую тушу Шарипова и, хлюпая, плача, надрываясь, перетянул его через убитых, вывалил на дорогу, шмякнул, как куль.
Боевая машина горела. На снежной горе сквозь деревья сиял Дворец. Вдоль него, огибая, промахиваясь, летели трассы снарядов, пунктиры пулеметных трассеров. Громыхало и ахало. А здесь, под горой, одиноко искрила подбитая машина, белел снег, чернели деревья, и Хакимов, стоя на коленях, бросал горсти снега на тлеющую спину Шарипова, гасил угольки и плакал.