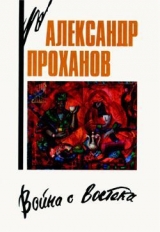
Текст книги "Кандагарская застава(авторский сборник)"
Автор книги: Александр Проханов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
– Просрали, шкура-мать, «эрэгэ»!.. Гранатометчик, змея, подкрался!.. Как они все, змеи, крадутся!.. Нам бы так уметь, шкура-мать!..
Он пытался обвязать бинт вокруг окровавленной, измызганной пятерни. Кологривко сумеречным, помутившимся взглядом смотрел на его усилия, слушая его бормотания:
– Вы, парни, свое дело сделали, а нам еще кое-что доделать надо!.. Вы все свое подобрали и лежите спокойно, а нам еще кое-что подобрать! Мы за собой подберем, чтоб нас потом не ругали, а уж потом посмотрим, как быть!.. А то скажут: кто здесь неаккуратно работал, не мог за собой подобрать!.. А мы аккуратно работаем, всегда за собой подбираем!..
Бинт его не завязывался, и он оставил его болтаться. Выплюнул нитку. Тяжело поднялся, подтянув за ремень автомат. Шагнул, пересек дверной проем, на мгновение заслонил свет. Наклонился над пленными.
– Это вам за Белоносова, шкура-мать!.. – Он приставил автомат в затылку лежащего. Нажал на спуск. И из-под ствола брызнуло грохотом, твердыми ломтями и жижей, словно раскололся горшок. Тело лежавшего дернулось, подскочило и замерло. Медленно поворачивалась стопа в черной калоше.
– Это вам за Птенчикова, шкура-мать!.. – Майор приставил ствол к другой голове и выстрелил. Брызнуло, шмякнуло в стену, и тело, подброшенное, ударилось костисто об пол. Соседний лежащий заворочался, задвигал гибкой спиной и затих. Только связанные руки его за спиной шевелились. Крайний, с бритой макушкой, смотрел, скосив голову, и его выпуклые глаза ярко, слезно блестели.
– Это вам за лейтенанта!.. – Грачев навел автомат на голову третьего пленного и в упор раздробил ее, разбрызгал красно-белую мякоть.
Бинт на его руке размотался, мешал, и он снова зубами пытался его завязать. Держал автомат над головой последнего пленного, и тот из-под ствола, почти касаясь его бритой чернявой макушкой, смотрел не мигая и плакал.
– А это вам за Варгана, шкура-мать!.. – Он сделал четвертый выстрел. Голова пленного, уменьшенная, без затылка, с откупоренной красной крышкой лежала на полу, смяв курчавую бородку. А вместо глаз выпучились огромные бело-красные пузыри.
Кологривко тупо, без сил, смотрел на убийство пленных. Майор, тяжелый, сутулый, стоял с опущенным стволом. Мушка была в жирном, горячем и липком. В проеме дверей серебрилось зимнее поле, далеко розовели сады.
Кологривко пил из фляги, чувствуя тупую боль в затылке, под лобной костью, на дне глазниц. В его оглушенном сознании, в сумерках тупого удара оставалась малая скважина, сквозь которую он видел свет, ощущал свою боль, понимал движение предметов. Но главная большая часть разума оставалась затемненной, и он не понимал полного значения слов и поступков. Дорожил малой скважиной света, прорубленной в жизнь, осторожно в нее протискивался.
Он видел – майор сидит на полу, привязывает кубики взрывчатки к своему ремню, к нагруднику, складывает их аккуратно в мешок. Приторачивает обрывком шнура. Надевает, навьючивает на себя. Становится тяжелым, бугристым. И при этом лицо его морщится от боли – мешает отстреленный палец, мешает охвостье бинта.
– Ладно, Кологривко, чего уж там, я виноват, а то кто ж?… Завел вас сюда, шкура-мать!.. Парней, сынков загубил!.. Видит бог, не думал, что влипнем!.. Думал, пошерстим их легонько, и – обратно, к заставе!.. А их тут как вшей недобитых!..
Он затягивал ремень, чтобы бруски взрывчатки были у него на спине. Его взлохмаченная голова заслоняла прямоугольник дверей, далекое поле, туманные сады. Кологривко из своей скважины света, увеличивая ее, раздвигая, вспомнил, что недавно, там, где находилась голова майора, была желтая луна и он, Кологривко, смотрел на нее сквозь черные сцепления ветвей.
– Ладно, я виноват!.. Орден хотел, врать не буду!.. Должность комбата хотел!.. Из-за этого вас подставил!.. Дерьмо я, а кто же еще!.. В жизни ничего не умел!.. Только воевал, шкура-мать!.. Пьяница, водку жрал!.. Бабник!.. А счастья своего не имел. Жена ушла, сын где растет – не знаю!.. Сюда, в Афган, пришел, думал: «Ну, мое началось! Дорвался! Повоюю!..» Не дали!.. Не война, а дерьмо!.. Дикари в дырявых портках нас лупят, а мы ничего не можем!.. Вертолеты имеем, броню имеем, армейскую артиллерию!.. А дикари с бородой нас лупят!.. Разве так воюют? «Дайте воевать!..» Не дают!.. Ни войны, ни мира!.. Армию губят, офицерский корпус гноят!.. Кто послал! Кто нас, русских, на позор вывел?… Могу я его сюда притащить, в этой «зеленке» поставить! «Смотри, гад! Вот мы какие! Этого хотел?…» Я бы его заставил нашу блевотину хлебать!.. Ненавижу!.. Была бы бомба, привязал бы к себе, всю землю взорвал, шкура-мать!.. Чтоб больше не смердила, очистила место под солнцем!..
Он натягивал лямки мешка, встряхивал ими, чтобы взрывчатка улеглась поудобнее. Заматывал грязный бинт.
– Ты меня прости, Кологривко!.. Я тебе больше ни командир, ни товарищ! Ничем тебя не спасу!.. Вот тебе автомат на пол-очереди! Куда хочешь ее пусти!.. Хочешь в небо, хочешь в себя!.. Ты меня не суди! Я себя сам сужу!.. Последняя просьба – бинт, шкура-мать, мешает! Завяжи мне его, Кологривко!..
Он подошел, протянул свою перебинтованную, с красным тампоном руку. Кологривко тупо, оглушенно поймал охвостье бинта. Разодрал надвое. Неловко, негнущимися пальцами, завязал узлом вокруг запястья, на котором часы гнали по кругу секундную стрелку. В оглушенном, полутемном сознании прапорщика что-то стучалось и билось. Он что-то хотел сказать майору, о чем-то его просить. Но не было мыслей и слов. Бессловесно припал своим лбом к забинтованной грязной руке. И майор не отнимал свою руку, а отнимая, вскользь, незаметно, провел рукой по его голове.
Встал, горбатый, раздутый в поясе от взрывчатки. Подошел к убитым душманам. Нагнулся. Поднял белую, скрученную чалму. Размотал ее в мятое полотнище. Достал из брезентового «лифчика» гранату. Выдрал кольцо. Намотал на гранату, на сжимавший ее кулак полотнище. И не оглядываясь на Кологривко, пошел к выходу.
Кологривко сидел у стены и видел, как он удаляется. Идет от него по прямой, уменьшаясь, как по невидимому, тончайшему лучу. Пересек двор, переступил убитого, не став его огибать. Перелез развалины стены, хотя можно было их обогнуть. Казалось, он идет по лучу наведения, нанизан на него, движется не своей волей, а чьей-то иной, уловившей его в невидимый точный луч.
Он вышел на поле, на белесую стерню с остатками несжатых колосьев. Шел тяжело, переваливался, держа над собой белое полотнище. Переступал обваловку, мелкие русла арыков – туда, к садам, к туманным, розовым зарослям.
Остановился посреди поля и стал вяло качать своим флагом. На белое колыхание осторожно вышли из зарослей двое. Кологривко видел сквозь светлый проем в стене – далекое серебристое поле, стоящего посреди майора, вялое колыхание тряпки. Двое чужих стрелков осторожно подходили к нему, все ближе и ближе.
Мелькнула короткая вспышка. В том месте, где стояли майор и стрелки, ударил взрыв. Из черной колонны земли и дыма, разрастаясь, увеличиваясь, поплыло над полем тусклое облако. Вьщелило из себя два рукава, рыхлое тулово, косматую голову дыма. И казалось, майор, превращенный в дым, увеличенный, бестелесный, плывет над садами, над разрушенными, пустыми селениями.
Раздвинулся, просветлел полным объемом боли и ужаса его сотрясенный контузией ум. Он – один, живой, среди убитых, растерзанных пулей и взрывчаткой друзей, среди умерщвленных его оружием врагов. Один в окровавленных тесных развалинах. Скоро придут враги и его уничтожат. Смерть, летавшая рядом, рубившая тьму огненными штырями и лезвиями, протыкавшая чужие тела, – эта смерть промахнулась, ударила его тупо в затылок. Но теперь, обойдя других, на каждом оставив остывавшую рану, догнав на поле удалявшегося майора, смерть снова вернется в развалины и коснется его. Из садов через поле придут осторожные, в белых повязках люди, просунут в дверной проем стволы автоматов, и он будет изрублен у грязной глинобитной стены.
Убитые майором пленные лежали, связанные, окровавив пол и стены. Полоса солнца освещала ноги в чувяках. В темном углу недвижно бугрились другие мертвецы. Казалось, в доме над убитыми еще носились их души, схватывались, давили друг друга в рукопашной. Кологривко чувствовал эту бестелесную, беззвучную схватку.
Взял автомат с полупустым магазином. Выбрался на солнце. Растерянно озирался.
Среди глиняных запекшихся глыб в колючем бурьяне лежали убитые. Маленькими, красноватыми россыпями блестели гильзы. Под ногами стеклянной чешуйчатой змейкой блеснули мусульманские четки. За развалинами, удаляясь в разные стороны, тянулись сыпучие холмики кяриза. На поле среди стерни темнели неживые бугорки, оставшиеся после атаки. Туманились в зимнем солнце сады, горчично желтел обвалившийся, похожий на отпечаток ракушки кишлак. И над всем было белесое, пустое, без облака, без птицы, небо чужой стороны, где ему суждено умереть.
Он метался взглядом, искал, где бы спрятаться, во что превратиться, чтобы те, в легких накидках, идущие сквозь сады, не нашли его. Может, в малую красную гильзу, смятую тяжелым ботинком? Или в стеклянные, с золотистой кисточкой четки? Или в убитого с голубоватой чалмой? Может, в убитого ему превратиться?
Эта мысль, показавшаяся на мгновение спасительной, тут же превратилась в панику, в ужас. Стала темнить, сжимать сотрясенное сознание. «Зеленка» была готова двинуться с места, пойти на него своими пнями, развалинами, сжать и расплющить. Он сидел, озираясь по сторонам, и крылатая Дева несла над ним смертоносную розу.
И он стал молиться. В его испуганной, ожидающей смерти душе отворились запечатанные долгие годы двери. Словно открылись другие глаза, другие мысли и чувства. Он обращался к пустому небу, умолял не его, а летящий, белесый, рассеянный над всякой жизнью свет, не имевший конца и начала.
– Ну спаси, ну спаси!.. Чего тебе стоит, спаси!..
Он искал в этом свете небесном присутствие любящего, дорогого лица. То ли матери на речном берегу. То ли первой своей любимой, с которой целовался в копне. То ли тетки Труни, полоскавшей белье у мостков. Эта женственность присутствовала в мире, была тем светом небесным, которому он молился.
– Мама, ну спаси, ну приди!..
Он услышал металлический звук, наполняющий белесое небо. Его слух, привыкший различать основные звуки войны, узнал в этом дальнем звоне приближение боевых вертолетов. Пара «двадцатьчетверок» шла высоко над «зеленкой», проныривала белесое небо узкими, оперенными блеском телами. Прошла в стороне, свысока поглядывая на руины, на него, Кологривко, притаившегося в сонных развалинах. Своей мольбой о спасении он тянул к себе вертолеты, затягивал их в воронку своих страданий. И они, словно на тонких, натянутых нитях, начали поворачивать. Описывали плавную, мерцающую дугу. На мгновение пропали на солнце, оставив металлический, ровный звук. Снова возникли, теряя высоту, снижались, вытягивались в длинную, нацеленную траекторию.
Из «зеленки» взлетели две малиновые ракеты. Покачались, погасли, оставив белые, курчавые хвостики. Кологривко подумал, что Абрамчук, живой, не убитый, указывает на себя вертолетам.
Передняя машина пошла над садами, и навстречу ей бледными огненными пузырями полетели трассы. Будто выдували легкий огонь, и множество мелких, тонких, паутинных пунктиров замелькало вокруг вертолета, и он отшатнулся, завалился в вираж, показав Кологривко сплошной, наполненный солнцем, круг винта.
Вторая машина заняла место первой. Поднырнула под огненные, взлетающие пузырьки. Выпустила черные, косматые вихри, вонзила их в сады. Поддержалась на них, как на ходулях, и отпрянула, оставляя под собой густые черные хлопья.
Гул прошел над «зеленкой». Дым разрастался, и из него, преследуя вертолеты, мчались, настигали друг друга оранжевые бледные угли.
Кологривко видел – там, в садах, работала спаренная зенитная установка, водила пульсирующими стволами, стараясь поджечь вертолеты. А те уходили, относили в сторону свой звук, свои туманные фюзеляжи. Кологривко, боясь, что они исчезнут, молил:
– Куда же вы, братцы!.. Я же вот он!.. Присядьте вы хоть на секунду!..
Вертолеты возникли внезапно со стороны кишлака, прошли один за другим, прессуя развалины пятнистыми плоскими днищами. Пронесли кронштейны с подвесками, на которых висели барабаны. Накрыли свистом и грохотом. Выдираемый из развалин их винтами, когтистыми подвесками, он вскочил вслед за ними, перескакивая глыбы глины, по полю, по стерне, крыжей куче кяриза. Перепрыгнул спекшийся, изъеденный ветром песок. Упал в глухую воронку, задыхаясь, глядя вслед вертолетам.
Они наносили удар, вспарывая сады длинными, черными зубьями. Поднимали ошметки земли и деревьев, долбили «зеленку» ревущими пушками. Пульсирующий огонь зенитки, перед тем как погаснуть, чиркнул по передней машине. Она задымила бледно, прозрачно, вытягивая за собой легкую бахрому, наполняя ее перьями копоти, мелкими каплями света. Подбитый вертолет ушел к бетонке, торопясь приземлиться в соседстве с заставой, под защитой ее пулеметов. Вторая машина следовала за подбитой, вписываясь в прозрачную гарь.
Небо опустело и стихло. Из «зеленки» продолжали редко излетать трассеры. Валил вялый дым. Кологривко лежал в воронке кяриза, в засыпанной, закупоренной горловине. Автомат его остался в развалинах. И он не знал, что это было – явившееся из неба спасение или просто отсрочка перед тем, как ему погибнуть?
Он лежал в воронке кяриза посреди одичалого поля со следами атаки и бойни. В тощей несжатой пшенице темнели убитые. Горбился разоренный кишлак. Измочаленные сады источали вялую гарь. Природа, среди которой он находился, была пробита его пулями, прострелена его вертолетами, изрезана его гусеницами, посыпана сталью и пеплом его снарядов и бомб. Она, эта земля, природа, скрывала его в своей малой рытвине, и он просил у нее спасения. Взывал к ее милосердию, чтобы она его сохранила в малой, наполненной солнцем лунке. Не выдавила его на поверхность, не выдала на муки и истребление. Беззвучно, без слов, он просил ее о помиловании. Если же нет, если так угодно земле, он смирялся с тем, что будет ею отвергнут. Пусть прогонит его из укрытия, пусть погубит его. Без сил, без воли, без последней надежды, он покорно лежал и ждал.
Услышал невнятный шум, не тот, недавний, небесный, похожий на металлический купол, а земной, шуршащий, стучащий, доносившийся из бурьянов и зарослей.
На поле осторожно, оглядываясь, ожидая выстрелов, готовясь ответить, выскользнула цепочка стрелков. Крадучись, хоронясь за деревьями, перебежала открытое поле. Вторая цепь, легко, почти не касаясь земли, огибала поле с другой стороны. Они окружали, брали под прицел пустое пространство. Одни ложились, другие прятались, стоя за деревьями. Группа моджахедов прошла совсем близко, погрузилась в развалины дома, и в развалинах мелькали их стволы и накидки.
На поле из садов выступили верховые. Не выскочили, а появились осторожно, удерживая лошадей, заставляя их переступать на месте. Их руки, сжимавшие уздечки, сжимали одновременно оружие. Кологривко, распластавшись в воронке, с колотящимся сердцем, видел появление врагов. Ждал, что они станут рыскать по полю, наткнутся на рытвину, обнаружат его. Нависнут над ним беспощадные лица с подковами черных усов, приблизятся дула. Но всадники и цепи стрелков его не искали. Верховые пришпорили лошадей, быстро поскакали вперед, через поле, поднимая легкую пыль.
И следом за ними, выплывая тяжело из садов, ступая на открытое поле, показались верблюды. Выходили один за другим, одинаковые, с длинными шеями, с вытянутыми вперед головами. Колыхали поклажей. Серые тюки бугрились на верблюжьих боках. На горбы были навьючены переметные сумы. Качались короба и попоны. На некоторых верблюдах поместились погонщики, и в руках у них было оружие.
Караван выходил из садов, тягучий, огромный, отягченный поклажей. Обгоняя его, вдоль верблюжьих связок скакали всадники. Останавливались. Поворачивали обратно. Снова скакали вперед, подгоняя, понукая караван, торопясь прогнать его сквозь пустое пространство.
Кологривко машинально считал. Насчитал три десятка верблюдов. А они все выходили, ревели, многоного, мягко ступали. Караван в поднятой пыли был как видение. Мелькали полосатые мешковины, долгополые накидки, мохнатые верблюжьи бока. На одном верблюде, голубоватый, с золотистой бахромой, проплыл балдахин, и под ним сидел человек в чалме и с винтовкой.
Кологривко перестал считать, смотрел на тягучие вереницы верблюдов, понимая случившееся. Их группа, выходя на засаду, не ведая того, преградила путь каравану. Огромный караван с оружием, охраняемый многочисленной стражей, шел сквозь «зеленку», и их малая группа встала у него на пути.
Караван прошел, растворился на другом конце поля, в других прозрачных садах. Охрана покидала позиции на опушке, выскользнула из развалин дома, собралась в цепь. Стрелки легким скоком последовали за караваном. Клубилась на солнце поднятая пыль. Затихли вдали шум и шуршание.
Он услышал слабый, дребезжащий звон. Мелкое, унылое побрякиванье. На поле вышел верблюд, одинокий, без поклажи, с кожаным, съехавшим на бок седлом, с клочком цветной, разукрашенной шерсти, вплетенной в челку. Верблюд ковылял на трех ногах, поджимал переднюю, перебитую. В боку темнело пятно крови. Верблюд был ранен, истекал кровью, влачился, ковылял вслед за ушедшим караваном. Не мог его догнать, останавливался. Медный бубенец жалобно, дрябло звенел на его выгнутой шее.
Кологривко узнал его. На этом рыжем верблюде с пучком разукрашенной шерсти проехал разведчик, когда их грузовик, зачехленный брезентом, стоял у обочины. Тот же медный, унылый звон. Та же красно-зеленая кисточка шерсти. Тот же рыжий мохнатый бок.
Быть может, животное было ранено его, Кологривко, пулей. А хозяин верблюда, в белой чалме, в просторных шароварах, черкнувший веткой по брезенту, лежит сейчас на этом усохшем поле, убитый его, Кологривко, выстрелом. И он, Кологривко, слышит погребальный звон бубенца. Верблюд явился сюда, чтобы найти его, Кологривко, указать бубенцом его место в глубокой яме.
Он вжимался в засыпанную горловину колодца. Смотрел, как медленно ковыляет раненый верблюд. Исчезает в далеких садах. Оглашает «зеленку» унылым, затухающим звоном.
Звон бубенца растворился, и на смену ему на дороге возник новый звук. Появились две длинные, скрипучие подводы, запряженные быками. Быки мерно, тяжело покачивали рогами, колыхали глянцевитыми боками. Обода деревянных колес утопали в пыли. На подводах сидели моджахеды, держали на коленях оружие. Другие быстрым шагом шли за телегами, покрикивали, подгоняли животных.
Подводы встали у развалин. Люди соскочили, исчезли в руинах. Было слышно, как взревел один бык, вытянув вперед толстогубую морду. Другой стал громко мочиться.
Из развалин, из-за разрушенной глинобитной стены, стали выносить убитых. Несли их под руки, под щиколотки, укладывали на подводу. Кологривко казалось, он различает того, с черной, курчавой бородкой, которого последним застрелил майор. И того, худого и хрупкого, почти мальчика, кто был первым сбит на дороге. И того, кто убил Птенчикова и сам был срезан им, Кологривко.
Мертвых сложили на одну из подвод, накрыли кошмой. Вторая подвода двинулась по полю, сопровождаемая возницами. Колеса ее с зелеными, линялыми спицами проскрипели совсем близко. Кологривко видел, как пузырятся шаровары и мелькает накидка у стрелка в голубой чалме.
Они кружили по полю, подбирали убитых, накладывали их на арбу. Возвратились к дому. Две арбы, покрытые шерстяными дерюгами, стояли у дома. Быки качали рогами. У одного на губах висела стеклянная слюна.
Люди сошлись к подводам. Один из них, неотличимый от прочих, в таких же шароварах, в рыхлой, мятой чалме, стал читать молитву. Поднимал ладони к небу. Туда же воздевал свое бородатое лицо. Его голос, негромкий, вибрирующий, напоминал песнопение. Остальные повторяли его движения, поднимали вверх длани, покачивались. Быки, и убитые на подводах, и он, Кологривко, слушали молитву. В нем все замирало, тосковало от этих чужих песнопений.
Перестали молиться. Двое подсели на подводы, тронули быков. И обе телеги тяжело проскрипели мимо, вдавливая в дорожную пыль окованные, тускло блестевшие обода.
Оставшиеся исчезли в развалинах. Было слышно, как удаляются, скрипят телеги, ревет в постромках бык.
На пороге возник человек. Он пятился, что-то тянул, переволакивал через комья стены. Кологривко увидел, что он тащит труп Белоносова, держит его двумя руками за ворот, и убитый прапорщик чертит по земле ногами, спиной, опущенными руками. На голом животе белеет, краснеет бинт, голова вжата в плечи, словно ожидает удара. Душман тяжело упирался, переступал ногами, оглядывался, чтобы не упасть. Выволок труп на открытое место и бросил. Охлопывал ладони, отирал их себе о бока.
Следом выволокли Птенчикова. Двое моджахедов тянули его за ноги. Голова его колотилась о землю, шевелила бурьян. Вытянутые руки, казалось, цеплялись за редкие стебли. Его подволокли к Белоносову, отпустили ноги, и Кологривко слышал, как стукнули о землю его каблуки.
Потом подтащили Варгана. Кологривко видел его развороченную, с черной дырой грудь. Казалось, по земле тянется за ним липкий след. Что-то бесформенное, вялое на колючках бурьяна.
Один из стрелков зашагал от дома в поле. Кологривко знал, куда он идет. Туда, где, почти невидимый в колосьях, лежал лейтенант. Душман нагнулся, дернул вверх. Показалась голова лейтенанта. Душман вцепился в волосы, поволок Молдованова к дому, и колосья шевелились от невидимого, их колыхавшего тела. Торчала голова с волосами, вставшими дыбом, в которые вцепилась рука душмана.
Душманские стрелки склонились над четырьмя трупами, Кологривко видел, как один из них качнул ногой у ударил чью-то мертвую голову.
Они нагибались над мертвыми, взмахивали руками, что-то выкрикивали. Стали сдирать с них одежду. Отшвыривали комья и ворохи, отбрасывали ботинки. Ножами вспарывали шнурки, рассекали ремни и застежки. Было видно, как отлетел в сторону чей-то ботинок, и следом за ним пустой брезентовый «лифчик».
Мертвые тела, лишенные одежд, светлели в бурьяне. Бугрились мускулы. А стрелки топтались вокруг, словно вели хоровод, возбуждали себя, и в руках у них блестели ножи.
То ли зычный, похожий на вскрик приказ. То ли вопль, полный нетерпения и ненависти. Все, кто стоял с ножами, набросились на убитых. Стали сечь, ударять и вспарывать. Мелькали тонкие лезвия. Летели лоскутья плоти. Чмокало, хрустело и хлюпало. Урчали, визжали, оглашая окрестность.
Кологривко в ужасе слышал удары ножей, разрезающих хрящи, сухожилия. Кто-то поднял отсеченную голову Птенчикова, держал на весу, поворачивая в разные стороны, чтобы она оглядела неживыми глазами все поле. Откинул ее далеко.
Взлетела отрубленная по локоть рука, залитая красным, с растопыренной пятерней.
Лезвие ножа летало, скользило по лицу Белоносова, отсекало губы, выковыривало, выскребало глаза, и, ободранная, в подтеках крови, безглазая, с липкими красными дырами, голова хохотала, скалила безгубый рот, и душман высекал в ней надрезы, визжал и стонал.
Кологривко не мог оторваться. Как бред, мелькнула мысль: где-то в Союзе, не зная об этом поле, ждут их матери, жены и дети, а в эти минуты их голые, неживые тела рассекают по жилкам, по косточкам.
Душманы навели автоматы и в упор, длинными, разбрызгивающими очередями стали исстреливать, рассеивать бесформенные останки. Казнили их после смерти. Мстили им. Истребляли пулями и криками ненависти.
Кологривко чувствовал, как приближается обморок. Теряя рассудок, стал ввинчиваться, зарываться в рыхлую глину воронки. Превращался в сухое корневище, в прах, в ничто, лишь бы скрыться из-под этого неба, исчезнуть с этого поля, где и после смерти продолжают убивать и расстреливать.
Ноги его углубились в грунт. Руками он отталкивался, вдавливал себя вглубь. Земля под ним вдруг распалась, и он вместе с комьями глины рухнул вниз. Провалился во тьму. Плюхнулся в холодную воду, и сверху сквозь дыру со столбом света обваливались, били по голове, булькали в воду комья глины.
Он провалился в кяриз, и холодная, медленно текущая вода остудила его, омыла, сняла с глаз кровавую пелену. Рубаха его осталась наверху в горловине, зацепившись за комья глины. На мокрую грудь падал сверху серебристо-синий свет, блестели на коже капли.
Он поднялся и, держась за холодные стены, пошел прочь от светового пятна в сумерки глубокой пещеры. Глаза его, привыкая, различали отесанные плотные стены, нависшие своды. Ноги выше щиколоток утонули в холодном потоке. Подземный канал, вырубленный в глубине, питался грунтовыми водами, собирал их в себя, защищая от солнца и пыли, проводил невидимый подземный ручей к полям и колодцам.
Кологривко опустился на четвереньки, окунул лицо и пил долго, жадно, наполняя себя холодом, чистотой, темной влагой. Чувствовал, как она ледяными шлепками бьет его в голую грудь. Поднялся и побрел по кяризу, слушая звонкую капель, подальше, поглубже от страшного места, прячась от надземной, ищущей его смерти.
Дно кяриза было плотным, похожим на каменный желоб. Вдали сквозь следующий проруб падал свет. Приближаясь к голубоватому, туманному снопу, Кологривко испугался – не затмит ли прогал наклоненная бородатая голова, не блеснет ли опущенный ствол винтовки.
Он ступил в струящийся, отражавший небо овал воды, и у него из-под ног вырвалась, напугала, брызнула тусклым серебром рыбина. Ушла вверх по потоку, во тьму, оставляя ртутный след. Под отверстием другого колодца, в зеленоватом колпаке света, мелькнула бесшумная птица, унеслась в темноту туннеля. И он, как ни был измучен и сокрушен, удивился этой подземной, летящей к центру земли птице, этой подземной рыбе.
Тут же, держась за стену, разглядывая свои исцарапанные пальцы, он обнаружил на глиняных, со старыми зарубками кетменя сводах висящих, сложивших крылья бабочек. Их красноватые мохнатые тельца, недвижные узорные крылья слабо переливались в подземных, долетавших сверху лучах. И это удивило его. Казалось, земная жизнь, созданная для неба, реки, травы, была изгнана с лика земли, пряталась от снарядов и пуль, избиений и смерти. Ушла в глубину, притаилась. Ждала, когда наверху кончится истребление.
Он двигался по кяризу от колодца к колодцу, каждый раз напрягаясь, когда приближался к вертикальному падению лучей. Туннель раздвоился, ответвил от себя темную, без просветов пещеру. Он ступил в ее тьму, сделал несколько шагов в глубину, натолкнулся на глухую преграду. Это был тупик. Видно, строители начали рыть и бросили, изменили направление кяриза.
Он стоял в темноте по колено в воде, слыша, как отдается под сводами его сиплое дыхание. Подумал: неужели гибель его миновала и он укрылся от лика мусульманской крылатой Девы, которая носится там, над полем, яростная, пернатая, ищет его, не находит? Неужели он спасся? Услышала его через годы и огромные пространства земли его мать, занавесила белыми простынями?
Он услышал подземные гулы и шлепанье. Голоса, звук металла. В световом пятне по кяризу, по главному желобу, минуя его затемненный тупик, возникли люди. Быстро, ловко пробегали, попадая на миг в лучи. Озарялись их мокрые, прилипшие шаровары, бородатые лица. Вспыхивали автоматы, буруны воды у колен. Они проскользнули, но один задержался, быстро взглянул в темноту, где стоял Кологривко. И ему показалось, что тот углядел своими черными огненными глазами его, полуголого, жалкого, прижавшегося к стене.
Моджахеды исчезли. Растаяли под землей их шаги. А он нащупал в кармане маленький ножичек с пластмассовой усатой головкой – подарок Варгана, чье тело, изрезанное, изуродованное, лежало над его головой, – он, в последнем страдании и страхе, был готов себе взрезать вены. Изойти в этом хладном потоке кровью. Выпустить ее из себя в подземную реку. Лишь бы не попасть в руки этих быстрых, вездесущих стрелков.
Это был их край, их пространство. Их небо с зимним негреющим солнцем. Их земля в разрушенных кишлаках и арыках. Их подземелье, вырытое руками их отцов и дедов. Все было их и – за них.
Он стоял, держа на весу свою руку, приближая к запястью лезвие.
Он услышал трясение земли, глухие удары, толкавшие своды кяриза. Гулы прокатывались по поверхности, рушились в световые горловины, разносились в подземелье. Он слышал взрывы над головой, понимая, что ведет огонь артиллерия. Снаряды гвоздили «зеленку», и он ждал, что отломится свод, накроет тяжким холодным пластом.
Ему показалось, что он слышит наверху металлический скрежет, дрожь прокатившегося танка, скрипы гусениц. Шагнул из своей темной ниши, потянулся к свету, к удалявшемуся громыханию танка.
Почувствовал острый запах бензина. По воде в пятне света заструились радужные масляные пятна. Он услышал проникшую под землю автоматную очередь, два плотных хлопка, за которыми рвануло воздух огнем и жаром, продернуло под землей душную струю. По воде с гулом помчалось красное, рваное пламя, и он отпрянул, отскочил в свой глухой тупик. Мимо него по огню, расплескивая красные брызги, с воем и визгом промчались люди. Одежда на них горела. Их оскаленные, кричащие, опаленные лица мелькнули перед ним на мгновение. И один, как факел, срывал на бегу пылающую накидку, бросал ее в воду, и она плыла и горела. Крики и визги затихли вдали вместе с красной, чадящей копотью.
Он кашлял, задыхался, стоя на берегу огненного подземного ручья. Знал: с прошедшего танка опрокинули в кяриз бочку солярки, солдаты метнули гранату, и выжигающий огонь промчался под землей, истребляя душманскую группу. Он и сам во время рейдов в «зеленку» опрокидывал в колодцы солярку, кидал в глубину гранату, вытравливал засевший дозор моджахедов.
Он хлюпал по воде, задыхаясь от едкого, раздирающего горло зловония. Тянулся навстречу дымным, падающим сверху лучам. Вновь услышал хлопок и очередь. Новая тугая, сгибающая волна света и жара ударила в него, и он оказался по плечи в ревущем пламени. Почувствовал страшную боль, отшатнулся. Весь горел, пузырился. Горели его волосы, лицо, штаны. Сдирал с себя горящие, пропитанные маслянистым огнем шаровары, ботинки, носки, дымящие, обжигающие бедра трусы. Стоял голый, ошпаренный, глядя, как пролетают по воде оранжевые язычки.
Он потерял свой нож, потерял вместе с шароварами образок Белоносова. Был наг, обожжен, оглушен. Погибал под землей без крика, без вопля о помощи. Из последних сил, хватаясь за стены, двинулся в дым, раздвигая ногами нефтяную вонючую воду.
Он увидел в сумраке: от стены отделился тощий человек с остатками усов, бороды. Такой же, как и он, голый, обгорелый, в клочьях пепла, в кроваво-нефтяных пузырях. Пошел к нему, держа впереди руки с растопыренными пальцами. Кологривко, теряя рассудок, с бессловесным хрипом, отыскивая в себе последний ком ужаса, боли, кинулся на человека. И оба они, визжа, хрипя, кусая друг друга, стали бороться, соскабливая лоскутья кожи. Бились в подземной пещере, не имея другого оружия, кроме ногтей и зубов. Кологривко свалил врага с ног, окунул его булькающую голову в поток воды и солярки, навалился на эту голову, чувствуя, как пружинит, пульсирует задыхающаяся голова, и по телу пробегает последняя конвульсия. Встал, продолжая урчать и кашлять. И в тусклом свечении воды медленно всплыло неживое лицо, синее, с оскаленным ртом, с выпученными, в красных белках, глазами.








