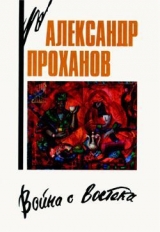
Текст книги "Кандагарская застава(авторский сборник)"
Автор книги: Александр Проханов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
– Вот также неразлучны наши замечательные командиры, товарищи прапорщики Кологривко и Белоносов, хотя их регулярно «стригут» командиры роты, батальона, полка!
Он ловко, несколько раз подряд, повторил свой фокус, рассекая ножницами газетные ленты. И они чудотворно оказывались всякий раз соединенными воедино. Солдаты ликовали, хлопали, довольные не только фокусом, но и смелой насмешкой над вошедшим прапорщиком.
– Птенчиков, подойди ко мне! – позвал Кологривко.
Солдат бойко, весело спрыгнул с эстрады. Подскочил, щелкнул каблуками. Но не вытянулся перед прапорщиком, а длинным взмахом пустой, открытой ладони провел вокруг головы Кологривко, задержал свой взмах около его уха.
– Товарищ прапорщик, разрешите я вам помогу! А то торчит, неудобно! – И он вынул их уха прапорщика, показал всем присутствующим пуговицу со звездой. Солдаты гоготали, хлопали, стучали ногами. – И еще, товарищ прапорщик, извините, вот здесь у вас торчит! Наверное, мешает! – Он снова провел ладонью у самого лица Кологривко, задержался немного у другого уха, извлек из него стреляную автоматную гильзу. – Товарищ прапорщик ведет огонь из всех огневых точек! – сказал Птенчиков, показывая гильзу солдатам. – Этим достигается высокая плотность огня!.. И еще вот здесь! – Он хлопнул ладонями над головой Кологривко, осыпая его бог весть откуда взявшимся пестрым конфетти.
– Птенчиков, – устало улыбнулся Кологривко, – да погоди ты цирк разводить. Сегодня со мной в «зеленку». Отдохни, ночь спать не будешь. На стрельбище – после обеда. Там и покажешь фокус! Понял, Птенчиков?
– Так точно! – ответил солдат. Сиял круглыми, птичьими глазами, крутил заостренным носом. – Это не вы потеряли, товарищ прапорщик? – И он протянул Кологривко ножичек с пластмассовой усатой головкой.
Кологривко не мог понять, когда этот ловкач вытянул ножичек у него из кармана.
Кологривко вернулся в свою комнатушку, достал из тумбочки ворох азиатских одежд. Длинные жеваные шаровары. Долгополую рубаху. Жилетку. Свитую, сложенную гнездом, чалму. Шерстяную накидку. Афганский наряд, в который облачался, отправляясь на разведку, в засаду. Желтоватая, линялая рубаха была порвана. Прапорщик достал иголку и нитку, стал аккуратно сшивать прореху, делая длинный рубец на ткани, выдергивая прелые, расползавшиеся волокна.
Это облачение, «духовский» костюм, он добыл у пленного. Душманы, привезенные в полк на броне, испуганные, потрясенные, пережившие обстрел и побои, жались к саманной стене. Солдаты, покуривая, поплевывая, смотрели на них из люков. И он, Кологривко, выбрал из пленных того, что был одного с ним роста, заставил раздеться, сгреб пыльный ворох одежд. Уходя оглянулся: пленный, голый, худой, с костистыми плечами и ребрами, ежился, топтался у стальной гусеницы.
С тех пор он не раз облачался в чалму и пузырящиеся шаровары. В засадах, когда зарывался в бархан и вел наблюдение за красноватой, волнистой пустыней, не мелькнет ли где вялый дымок «тойоты», не затуманится ли пылью верблюжья караванная тропа. Укутывался накидкой, пряча под нее автомат и гранаты, когда провожал командира на тайные встречи с разведчиком: пока они говорили о чем-то, он вглядывался чутко в сумерки, на тропу, на мостик у ручья, сжимая под накидкой готовый к стрельбе «акаэс». В последний раз, во время ночного налета на придорожный дукан, где пряталась душманская группа, он порвал рубаху. Подкатили без огней на двух «бэтээрах», вломились в дукан, забросали «духов» гранатами и во тьме, среди вспышек и трасс, он зацепился рубахой за крюк, вырвал клок.
Теперь он сшивал ветхую ткань, протыкал ее иглой, готовился к ночному рейду. Чувствовал запахи, исходящие из поношенных материй. Они источали слабые дуновения дыма, полыни, домашней скотины, крестьянского двора, очага, пахли чужим человеческим телом, передававшим холсту и сукну свое тепло и дыхание во время трудов и хождений, полевых работ и молений. В матерчатые складки и швы залетел и держался запах железа и пороха, бензиновой гари и смазки. Испарения хлебного поля смешались с едкими дымами войны. Прапорщик улавливал легчайшие токи, исходящие от азиатской одежды. Думал: кто еще после него накинет на плечи желтоватую, линялую ткань, водрузит на голову пышную, как капустный кочан, чалму?
Впервые в жизни он взял в руки иглу в детском доме, после встречи с женщиной, которую принял за мать. Он увидел ее на другом берегу ручья, в белом платье. Такая мука, любовь, вина были на ее блеклом лице, что он тотчас узнал свою мать. С криком кинулся к мостику, на тот берег, чтобы скорее ее обнять. Но когда добежал – никого. Только лежала на траве белая ленточка. Он поднял ее, долго рыдал. Знал, что это мать приходила на него посмотреть. Ленточку он пришил изнутри к своей детской куртке, долго и неумело орудуя иглой.
Сейчас он чинил прореху, испытывая неясную нежность и вину перед этими поношенными одеяниями. Они были созданы человеком по образу своему и подобию. Бессловесно и преданно служили ему, сопутствуя в страдании и радости. Умирали, исчезали, изнашивались вместе с человеком.
После обеда на стрельбище сошлись обе группы – майора Грачева, в которую входил Кологривко, и вторая, возглавляемая капитаном Абрамчуком. Капитан, высокий, чернявый, жилистый, с красным шрамом через все лицо, доложил майору о готовности групп.
Стрельбище размещалось за гарнизоном, в сорной пустыне, с маленькими вихрями пыли, с далекими, разрушенными временем глинобитными крепостями. Свалка отходов, накопленная за десятилетие, ржавела грудами банок. Над ними, не боясь людей, медленно всплывая на потоках горячего ветра, кружили грифы. Иные из них, хлопая крыльями, отталкивались от гремящих банок, взлетали. Другие высоко парили, растопырив маховые перья, похожие на черные алебарды.
– Группы к стрельбе построены!.. Постановка мишеней закончена! – доложил Абрамчук, небрежно касаясь виска кончиками изогнутых пальцев.
– Покажи, как твои «звери» стреляют, шкура-мать! – Майор, довольный, поглядывал на выстроенных стрелков, на далекие, установленные вместо мишеней консервные банки, на позиции, отмеченные рытвинами, лежащими на земле автоматами, вскрытыми патронными цинками. – После вчерашнего руки не дрожат, Абрамчук?
– Никак нет, – ухмыльнулся капитан.
– Чего здесь человеку осталось, в этой дыре? Женщин хороших нет, шкура-мать! Спирт соляркой воняет! Одна радость – пострелять! Давай, покажи, чьи «звери» лучше стреляют – твои или мои? А то штабные умники хотят войну без выстрелов сделать! И чтоб победа в кармане, и патроны все целы! Нет, товарищ генерал, так не бывает!.. Давай, Абрамчук, командуй!
Стрелки ложились на теплую землю, били в мишени. Прочеркивали хлысты очередей. Дырявили банки, гоняли их пулями по пустыне. Трещали автоматы и пулеметы, рассылая бледные трассы. Солдаты, отстреляв, бежали к опрокинутым мишеням, водворяли их на место. Снова стреляли. Над стрельбищем, в горчично-рыжем небе, кружили грифы, делали плавные, однообразные круги.
Справа от Кологривко стрелял Белоносов, спокойно и точно, короткими очередями, окружал банку солнечной пылью, сбивал ее и гвоздил.
– Вернусь домой – убей, ни в жисть не возьмусь за это дело! – сказал он, завершая стрельбу. Отсоединил магазин, передернул затвор автомата. – Охотничье ружье дома есть, и то заброшу. Чтоб уши мои больше не слышали, глаза не глядели и нос не нюхал! Он отстранил лицо от оружия, источавшего запах горелого пороха. – Пропади оно пропадом, чтоб его мухи съели!
Слева от Кологривко стрелял сержант Варгин. Удобно расставив ноги, выцеливал далекую банку. Оружие в его руках казалось игрушечным. Цевье исчезло в шершавой, огромной ладони. Приклад казался хрупким, соприкасаясь с могучим плечом.
– Я бы этого насекомого рядом с собой уложил и дал бы ему магазин расстрелять. Поразишь мишени, тогда и говори со мной. А нет – ну и вали отсюда статейки писать! Да я ему, товарищ прапорщик, руки не подам, если на его руке мозоли от спускового крючка не увижу! А карандашные мозоли не в счет! – Он завершил стрельбу, отшвырнув далеко ударом пули консервную банку. Дожидался, когда отстреляются другие и можно будет пойти и поднять, рассмотреть продырявленную теплую жесть.
Лейтенант Молдованов нервничал. Стрелял и – промахивался. Косился на лежащего рядом Птенчикова. Раздражался своими промахами, тем, что солдат, казалось ему, ухмыляется. Снова стрелял. Очереди ложились перед банкой, занавешивая ее полоской пыли.
– Да вы, товарищ лейтенант, не топите мушку! Чуть выше берите! Или планочку выставьте поточнее! – посоветовал ему Птенчиков.
Но это сочувствие вызвало в лейтенанте ярость.
– Заткни «варежку»! – грубо оборвал он солдата. – Под руку не ори! А то отскочить может!
Снова нажал на спуск. Пули прошили землю, не достав мишени. Лейтенант в гневе, стыдясь своей неудачи, виня в ней Птенчикова, резко отложил автомат.
– Эх вы, звери косолапые, вот как надо стрелять! – Майор вскочил, воздел автомат в небо.
Низко, черпая воздух растрепанными окончаниями крыльев, летел гриф. Майор навскидку ударил, проводя бледно-розовой трассой по грифу, настигая его в пустоте. Было слышно, как пули пробили высоко парящее тело. Гриф споткнулся, сложил черные крылья и растрепанным комом рухнул. Тяжело, как куль, ударил о землю. Все, кто лежал на позиции, повскакали, помчались к птице.
Окружили раненого, умиравшего грифа. Пуля пробила ему грудную клетку. Торчала белая кость, окруженная мокрыми, липкими перьями. Крылья, обломанные, широко распростерлись в пыли. Голова на лохматой шее приподнималась. Клюв был раскрыт. С желтых, костяных пластин, с острого, дрожащего языка капала кровь. Глазки, ненавидящие, тоскливо смотрели, мерцали на людей последним, из боли и ненависти, отрицанием.
Кологривко чувствовал исходящее от грифа зловоние. Птица пахла падалью, кровью. Сама превращалась в падаль. Солнце иссушало птичью жизнь, испаряло кровь, и эти испарения смерти касались их лиц и губ.
– Зря! – тихо сказал Варгин. – Зряшная смерть!
Все смотрели на умиравшего грифа. Другие птицы высоко и плавно кружили. Кологривко подумал: стоит им разойтись, как другие грифы опустятся, добьют, расклюют умирающего подранка. И назавтра здесь будет горстка окровавленных белых костей, высыхающих на солнце пустыни. Как сгоревшие сучья в потухшем костровище.
Колонна КамАЗов протянулась у КПП на бетонке. Грузовики под брезентом, доставившие снаряды, авиационные ракеты и бомбы. «Наливники» с цистернами, пахнущие бензином, в подтеках солярки. Колонна оставила груз в расположении части, порожняя возвращалась в Союз, за следующей порцией груза. Отдохнувшие за сутки водители готовились к изнурительному и опасному рейду. В последний раз осматривали скаты. Навешивали на боковые стекла кабин бронежилеты. Укладывали рядом с ручками скоростей автоматы. Колонна, выйдя на трассу, к вечеру достигнет отдаленной, в открытой степи, заставы. Под охраной «бэтээров» заночуют в пустыне, чтобы утром продолжить путь.
В колонне, среди КамАЗов стоял полковой «газон» с зачехленным верхом. Две их группы, готовые уйти на засаду, стояли у кузова.
– Итак, повторяю! – Майор Грачев расхаживал перед строем, где стояли солдаты, увешанные тяжелой амуницией – автоматами, боекомплектом, взрывчаткой. Топорщились за спиной рюкзаки, качались усы антенн. Жеваная форма «мапуту» была стянута ремнями и «лифчиками». Двое – Белоносов и Кологривко – были в «духовской» форме. – Повторяю!.. Выходим в район сто первой заставы!.. Имитация ремонта!.. Стоим до ночи!.. Ночью двумя отделениями по двум параллельным тропам идем в Гуляхану! Взаимодействие по рации и подачей световых сигналов!.. Держать дистанцию, чтобы не оторваться на фланге!.. Капитан Абрамчук основными силами прикрывает действие моей группы!.. Вопросы есть? – Майор набычил красную шею, похлопывал металл автомата. – Вопросы?
– Товарищ майор! – Варган колыхнулся в строю. – Разрешите сбегать письма отдать. Дружок-водитель в Союз доставит! – Он извлек из-под брезентового, набитого магазинами «лифчика» несколько белых конвертов.
Майор подумал, сердито шевеля рыжими бровями:
– Быстро туда-обратно, шкура-мать!
Варган с неожиданной для его огромного роста быстротой и ловкостью помчался вдоль колонны. Кологривко видел, как он остановился у дальнего грузовика, говорит с водителем, сует ему белые конверты.
У Кологривко не было никого, кому бы он мог посылать письма, – ни матери, ни сестры, ни жены. Не было женщины, которая ждала бы его с войны.
Сейчас, стоя у колонны, он вспомнил мимолетно давнишнюю, другую колонну, целинных грузовиков, куда садилась, махала ему студенточка в белесой косынке. Она была его первая в жизни любовь. Оказались в колючей ночной копне, в шуршащей пещере. Светилась вдали лампочка на току. Стучали движки. А он ее целовал, торопливо и неумело. Обещала снова прийти под вечер, но бригада студентов уехала, и больше он ее не встречал. Позже в скитаниях было у него много женщин, равнодушных к нему и любящих, дурнушек и красавиц, тех, что мучили его, и тех, кого мучил он. Но ее, безымянную, первую, он не мог никогда забыть. Сейчас, стоя у военных машин, в бесчисленный раз вспомнил о ней. Она жила в одном с ним мире. Где-то растила детей, любила мужа. Не знала, что он, Кологривко, вспомнил о ней, стоя у грузовика на афганской дороге.
– По машинам! – понеслось вдоль колонны.
Они вспрыгивали, цепляясь за борт, укладывались под брезент на мягкие, кинутые в кузов матрасы.
– Давай шнуруйся! – приказал майор.
Кологривко туго натянул шнур, притягивая брезент к бортовинам, плотно зачехляя кузов. Они оказались в сумерках, под брезентовым пологом. Располагались поудобнее на матрасах, укладывая рядом рюкзаки и оружие, привыкая к полутьме, испещренной длинными, пыльными лучами.
Загремели моторы. Дрогнул воздух. В щели просочился едкий дым. Грузовик колыхнулся и двинулся вместе с колонной. Кологривко, сняв чалму, привалился затылком к плечу Белоносова, и тот старался не двигаться, не потревожить друга.
Они въехали в город, шумный, пестрый, глиняно-коричневый, золотистый. Солнце отсвечивало от желтых стен, бирюзовых куполов, разномастных размалеванных вывесок, проникало под брезент. Колонна с зажженными фарами катила сквозь город, выдавливая с проезжей части осликов, велосипедистов, коляски с лошадьми, блестящих, с разноцветными висюльками моторикш.
Кологривко прижимался к тенту, отогнув драный лоскут. Смотрел на город, слушал его звоны, вопли, выкрики. Рыжая, огненная гора апельсинов, и над ней – черноликий дуканщик. Двуколка с белой грудой стеклянного риса, и двое мальчишек впряглись в двуколку и тянут. Шарахнулась, прозвенела бубенцами лошадка, и в коляске, под балдахином, мелькнула маленькая, как цветочная чашечка, головка в парандже. Город, по которому проезжали, всегда волновал Кологривко, привлекал своими рынками, лавками, изразцовыми куполками мечетей. Дразнил своими пряными запахами – вянущих цветов, бродящего фруктового сока, жареного мяса, соснового, сладкого дыма.
Он видел много раз этот город, его центральную многолюдную часть, когда, оседлав «бэтээр», проезжал на боевое задание. Или устраивался на плоской крыше в бронежилете и каске, охраняя колонны машин. Или мчался на санитарной «таблетке» с гудящей сиреной, разрезая толпу, и на днище, в кровавых бинтах, корчился раненый. Город обращался к нему своей внешней, глиняной, глазурованной стороной. Скрывал свои очаги, потаенные покои, сокровенную, недоступную созерцанию суть. Кологривко думал, что когда-нибудь, вернувшись домой, он расскажет кому-то, внимательному и серьезному, свою жизнь, свои скитания и мыканья, и про эту войну, про этот восточный город.
Птенчиков оперся на свою железную рацию, приблизил глаз к брезенту, к маленькой рваной дырочке. В его голубом глазу текли, переливались разноцветные отражения улиц. Видно, и он чувствовал загадочность, недоступность азиатского города, от которого их отделяло то военным брезентом, то броней транспортера, то стальной пластиной жилета.
– Здесь, говорят, фокусники есть отличные! Все хотел фокусников здесь отыскать, фокусам их научиться. Теперь уж не придется! – произнес с сожалением Птенчиков, примиряясь с тем, что в его будущем цирковом ремесле не найдется места азиатским затеям и фокусам.
– В башке одни «тритатушки»! – недовольно проворчал лейтенант, все еще сердясь на Птенчикова, не прощая ему свою неудачу на стрельбище. – Идет на боевое задание, а в башке одни фокусы!
Молдованов лежал на матрасе лицом вверх, и было видно, что он тревожится. Это был его первый выход на «боевые». Он, держа руку на автомате, был готов в любую минуту бить сквозь брезент в этот гомонящий, стоцветный, враждебный город, угрожавший взрывом и выстрелом.
– Смотри-ка! – воскликнул Птенчиков. – Видно, ночью «эрэс» упал! – Они переезжали перекресток с обвалившимся, рухнувшим домом. Среди пестрых черепков стоял дуканщик. Разгребал сор, оставшийся от его богатства. – Ничего, будет у них передышка! Пошерстим «зеленку» – «эрэсы» летать перестанут!
– Сами должны разобраться, – буркнул Белоносов. – Чего их шерстить! Мы уйдем, а им меж собой разбираться!
Они умолкли, лежали на матрасах. Город сквозь дырки в брезенте забрасывал в сумрачный кузов перламутровые лучи.
Миновали окраину, выехали на бетонку. Раскрылась, расступилась зимняя, просторная степь, окруженная по горизонту волнистыми голубыми горами. Закудрявились, заклубились ржаво-черные сады, красно-желтые виноградники. «Зеленка» от города, от окраинных кишлаков покатила к далеким горам свои спутанные из веток и лоз клубки, безлистые древесные кущи. Там, в «зеленке», среди разгромленных кишлаков, перерытых артиллерией арыков, пролегали бессчетные военные тропы. Моджахеды пробирались по тропам к бетонке, минировали дорогу, били из гранатометов по проезжим колоннам. Заставы на обочине огрызались огнем минометов, наводили на «зеленку» удары самолетов и гаубиц.
Застава промелькнула на взгорье. Рытвины окопов. Бетонный капонир. Пулеметчики над бруствером. Пыльный «бэтээр» у шлагбаума. Грузовик замедлил движение, съехал на обочину, замер, пропуская мимо шуршащие ветром машины.
– Приехали, шкура-мать! – встрепенулся майор. – Здрасьте, кого не видел!.. Сто первая гостей принимает!
Колонна, огибая грузовик, пылая водянистыми фарами, прошла, затихая вдали.
В тишине было слышно, как стукнули дверцы кабины. Солдаты-водители подошли к кузову. Постучали ногами по скату. Раздался свист: видно, они отвинтили ниппель. И все, кто сидел под брезентом, почувствовали, как осело заднее колесо.
– Давай домкрат! – раздался голос водителя.
Прозвякало, простучало. Кузов стал медленно приподниматься, выравниваться. Они чувствовали медленные, упругие толчки домкрата.
Знали: за одиноким, застрявшим у обочины грузовиком наблюдает часовой на соседней заставе, солдаты на отдаленном «бэтээре». И чьи-то зоркие, невидимые глаза из «зеленки», проследившие движение колонны, отметившие отставший грузовик, следящие за действиями водителей.
Отлетело, хлопнулось о землю колесо. На дороге раздался рокот. Подкатил, остановился рядом «бэтээр». Нетерпеливый, раздраженный голос офицера произнес:
– Да вы постучите погромче, чтоб слышно было!.. И крутитесь, крутитесь ловчее!..
Солдаты стучали кувалдой. Унылый металлический звук уносился в «зеленку». Затем они побросали кувалду и инструменты в кабину, закинули колесо на «бэтээр», и их умчал фыркающий рокот машины. Все стихло. Майор, прислушиваясь к удалявшемуся «бэтээру», сказал:
– Ну вот и театр!.. Художественная самодеятельность!..
Ему не ответили. Слушали сквозь брезент. Знали: за оставленной, потерявшей колесо машиной наблюдают невидимые зоркие глаза моджахедов из красноватых безлистых садов. Грузовик одиноко маячил на пустынной дороге, на ничейной земле, в перекрестьях зрачков и прицелов.
И он снова подумал: в чем смысл его пребывания здесь, под этим пыльным, нагретым брезентом? Кто тот неведомый – ни майор, ни полковник, ни безвестные удаленные начальство и власть, – кто задумал его жизнь и судьбу, провел сквозь скитания и мыканья, посадил под тесный, набитый солдатами полог и что-то ждет от него? Что? Что должен он совершить?
Сначала они лежали, тревожно и чутко вслушивались, ожидая немедленных событий. Сжимали оружие, готовые к броску, к удару и выстрелу. Но понемногу их тревога и возбуждение проходили. Никто не нападал, не стрелял. И они снова вытягивались на матрасе, отпускали автоматы, смотрели, как просвечивают белесые, бледные лучи сквозь брезент.
Дребезжа разболтанным кузовом, проехала мимо афганская «борбухайка». Мелькнул в прореху ее разукрашенный борт, тусклые стекла кабины. Проплыли, протарахтели две моторикши, послышались детские голоса, хлопки маломощного двигателя. И снова ничего не случилось – тишина, бледные лучи под брезентом, их неясные в сумраке лица.
– Сейчас оглядятся немного и пошлют разведчика, – сказал капитан Абрамчук, трогая на лице свой багровый рубец. – Обязательно разведчик придет вынюхивать!
– Сейчас едва ли! – сказал Белоносов. – Стемнеет, тогда подойдут.
– Подойдут и влупят из гранатомета, – сказал Варгин спокойно и убежденно, словно этот исход и был запланирован операцией.
– Зачем им бить по пустому? – попытался возразить ему лейтенант Молдованов. Он волновался и нервничал, словно хотел убедить душ-манских гранатометчиков в бессмысленности удара по одинокому грузовику.
– Луны нет ночью – хорошо! Только под утро встает, – сказал солдат из второй группы, чьи руки попадали под тонкий луч, зажигавший на замызганном кулаке зайчик света.
– Ты пойдешь по тропе, держись арыка. Не отклоняйся, а то потеряешься, – сказал Грачев капитану. – На связь выходи в крайнем случае. У них тут радиоперехват налажен.
– Помочиться бы! Отлить немного! – сказал Варгин.
– Я те отолью! – цыкнул на него майор, грозно вылупив глаза. – Терпи, пока не лопнешь!
– Сейчас чихну! – жалобно сказал Птенчиков. Зажал нос ладонями и сдавленно, тонко чихнул.
– Лошак проклятый! – ругнул его Белоносов.
И этот сдавленный, похожий на писк чих, беспомощные, умоляющие глаза Птенчикова, окрик Белоносова, обозвавшего его лошаком, рассмешили всех. Так велико было общее напряжение, нервное ожидание, что оно разрешилось всеобщим, тихим, из дыханий и хрипов, смехом. Этот невыявленный, беззвучный смех, прижатые ко рту кулаки, вытаращенные глаза рассмешили всех еще больше. Люди падали на спину, катались на матрасах, сталкивались плечами. Хохотали со стоном, задыхались, дергали ногами. И даже майор, готовый вначале дубасить их кулаками, не выдержал и прыснул. Затыкая себе рот рукавом, фыркал, хмыкал:
– Молчать, шкура-мать!.. Идиоты!.. Зверье!.. – А сам продолжал хохотать.
Кологривко смеялся со всеми. Корчился в своих долгополых одеждах, чувствуя, как взрывается в нем смех, душит, рвется наружу горячее дыхание. Но в глубине этого веселья и хохота вился, утончался, дрожал невидимый шнур. Больная незримая жила, натянутая до предела, готовая вот-вот разорваться.
– Слушай ты, Птенчик, лошак! – сказал Варгин, весь в слезах, когда смех пошел на убыль и можно было вставить членораздельное слово. – Давай покажи нам фокус! Коронный!.. А мы посмотрим! Давай покажи!
Все умолкли, уставились на Птенчиков, ожидая новой забавы. Радовались, что здесь, под брезентовым пологом, на глазах наблюдателей, под прицелом крупнокалиберных пулеметов, способных в секунду раздробить на щепы дощатый кузов, они – все вместе, рядом. Бесстрашно издеваются и глумятся над близкой опасностью, презирают смерть.
Птенчиков обвел всех круглыми, внимательными глазами. Обдумывал, какой бы фокус им показать. Надумал.
– Внимание! – сказал он, показывая свои пустые, выставленные вперед ладони. – Фокус коронный, восточная школа!.. Описан в книге фокусов мусульманского пророка Махмута!
– Трепач! – сказал Варган, предвкушая забаву.
– У кого есть платок? Только чистый прошу, без соплей! Лучше новый, поглаженный!
Все заерзали, стали рыться под своими ремнями и «лифчиками». Но то немногое, что они извлекли, были несвежие тряпицы, скомканные, многократно использованные, в саже, ружейной смазке и ваксе. Явно не годились для фокуса.
Лейтенант Молдованов неохотно, недоверчиво, не любя Птенчикова, повинуясь лишь общему, побуждавшему его настроению, достал белый, сложенный аккуратно платок. Протянул солдату. Кологривко уловил слабый, нежный запах одеколона, пахнувший от платка среди душного, потного, железного воздуха под брезентом.
– Фокус Востока! – продолжал Птенчиков, расправляя платок, натягивая его белый квадрат. – Имеющие глаза да увидят!.. Целый!.. Чистый!.. Ни дырочки!.. Ни помарочки!.. Фокус пророка Махмута!
Он свернул платок в трубочку. Извлек зажигалку. Запалил. Поднес к платку огонек. Лейтенант потянулся было к платку, но ему не дали, все жадно, молча смотрели, как огонь начинает поедать ткань платка, морщит, чернит. От горящей материи разнеслось едкое зловоние.
Птенчиков погасил зажигалку. Дождался, когда потухнет платок. Схватил тлеющий дымный лоскут, стал комкать, дуть в него, присвистывал, приговаривал:
– Пророк Махмут, сшей лоскут!.. Пророк Махмут, сшей лоскут!..
Скрывая в ладони скомканный невидимый платок, обвел всех счастливым, всеведающим взглядом. Остановил его на лейтенанте, готовясь его изумить, осчастливить. Раскрыл ладони, повесил в воздухе двумя пальцами мятый, обгорелый, в саже и копоти, платок.
– Ой! – воскликнул он огорченно. – Не вышло!.. Фокус не удался!.. Все молча, обалдело глядели на сгоревший платок, на изумленное, обманутое, непонимающее лицо лейтенанта. А потом загоготали сдавленно, задышали, засипели от смеха пуще прежнего, опрокидываясь на спины, суча ногами.
– Ох, Птенец!.. Ну, дает!.. – хрипло постанывал Варган, заталкивая себе в рот кулак. – Ну, «Махмут, сшей лоскут»!..
Кологривко видел, как задрожали у лейтенанта губы. Он потянулся и ударил Птенчикова в лицо наотмашь. Солдат откинулся, вдавливая голову в брезент.
Все умолкли.
– За что, товарищ лейтенант? – тихо, держась за щеку, сказал Птенчиков.
– Сука!.. Я тебе не салага! – произнес лейтенант. Было видно, как он бледен, как не понимает случившегося, как бешенство мешается в нем со стыдом, а стыд усиливает и питает бешенство. – Я тебе сейчас такого «пророка» врежу!
– Отставить! – шепотом гаркнул майор, хватая лейтенанта за руку, перехватывая его новый удар. – Отставить, лейтенант, шкура-мать! Черт бы вас обоих побрал!
– Зря вы, товарищ лейтенант! – сказал угрюмо Варгин, отворачиваясь от офицера, обнимая лапищей острое плечо Птенчикова.
Все сидели молча под сумрачным брезентом. Тонкие лучи пятнали брошенное на матрасы оружие.
Снаружи, на дороге, раздался легкий, мерный перезвон. Приближался, наполняя окрестность медным, гулким звучанием.
– Ложись!.. Ни звука! – прошипел майор, опрокидывая, вдавливая в матрас лейтенанта, прополз к заднему борту, прижался лицом к брезенту.
Кологривко сквозь тонкий прокол в материи видел солнечную пустую дорогу, горы с притулившейся отдаленной заставой, ржавые короба сгоревших, сдвинутых к обочине грузовиков и фургонов. По дороге приближался верблюд с наездником. Мерно колыхалась горбатая спина. Белела чалма всадника. Пестрела попона. Клок яркой малиновой шерсти, пересыпанной бисером, украшал верблюжье чело. Уныло дребезжал притороченный к ремешку бубенец.
Верблюд и погонщик поравнялись с машиной. Кологривко видел проплывавший мимо мохнатый звериный бок, полосатый, замызганный войлок попоны, грязный, загнутый чувяк. Прутик погонщика, прошелестев по брезенту, на мгновение вонзился в дырочку, погасив лучик света.
Разведчик проехал мимо, унося с собой мягкое чавканье верблюжьих копыт, унылый звон бубенца.
– Не заметил? – неуверенно произнес Грачев.
Все лежали, вдавившись в матрасы, слушали затихающий звон.
Мерно тянулось время. Лучи сквозь дырки брезента меняли угол падения. Солнце клонилось к вечеру, приближалось к туманным горам. Кологривко лежал и думал.
Однажды, еще до армии, задолго до Афганистана, во время работы на трассе, когда ушел в болото под лед бульдозер и он, Кологривко, поддавшись на уговоры начальства, нырнул в ледяную воду, закрепил трос лебедки, а после метался в жару в продуваемом железном вагончике, – ему вдруг открылось: он, Кологривко, постоянно послушно выполняет чью-то волю, чье-то хотение. Служит своей жизнью чьим-то другим, ему неведомым замыслам. Меняя занятия, мотаясь по земле, не имея угла и дома, он словно выпущен в этот мир для того, чтобы им, Кологривко, проверили, испытали все самые угрюмые и неверные проявления жизни. Кто-то иной, не он, воспользуется добытым опытом.
Так было, когда отдал себя в руки врачей, поставивших на нем эксперимент. Заставили долго, недвижно лежать, пока не омертвели жилы и мускулы, говоря, что опыт необходим для долгих полетов в космос. Он вышел из госпиталя больной. Деньги, что достались ему, отослал в свой родной детдом.
Так было, когда завербовали его на лесоповал и упавшая сосна перебила ему ключицу.
Так было, когда пригласили его в мастерскую натурщиком. Он сидел и позировал милым, талантливым людям. Приняли его в свой круг, обласкали, а потом отвернулись, забыли, почти выгнали, когда кончился срок обучения.
Так было всегда, всю жизнь.
И когда поманили его в армию, в прапорщики, он тут же согласился, пошел. Откликнулся на зов незнакомых, случайных людей. Но за всеми этими зовами ему чудилось: последует главный, самый важный, призовет его к делу, ради которого родился и жил.
Он дремал, забывался, прислонившись к плечу Белоносова. И сны его были клубящиеся видения, в которых в беспорядке, путаясь, проносились зрелища его скитаний, встречавшиеся ему мужчины и женщины, города, картины природы, и он плыл среди них, пытаясь удержаться на месте, на одной, возносящей его кверху волне. Но набегала другая волна, другие города и пространства, и его накрывало, несло, перевертывало в этом кружении.
Он проснулся во тьме: кто-то тряс его за плечо. Грачев будил уснувших. Во тьме зеленел и светился циферблат его наручных часов.
– Давай, Кологривко, расшнуровывайся!
Прапорщик очнулся. Быстро, по-звериному, движением плеч, головы стряхнул остатки сна, как воду с загривка. Натыкаясь в темноте на тела, автоматы, подсумки, пробрался к борту. Вынул ножичек с пластмассовой головкой душмана и в двух местах перерезал шнурок, освобождая брезент.
– По одному!.. Аккуратно!.. Без звука!.. – командовал майор, выпуская из-под брезента сильные, гибкие тела солдат. Слышались шорохи, шлепки тяжелых подметок о землю. Птенчиков зацепился автоматом за полог, задержался на мгновение, неловко спрыгнул. Солдаты подхватывали оружие, тенями проскальзывали обочину, залегали у жухлых, недвижных трав, окружавших сухой арык.








