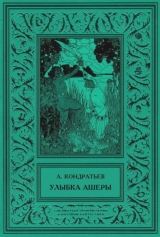
Текст книги "Улыбка Ашеры
Избранные рассказы. Том 2"
Автор книги: Александр Кондратьев
Жанры:
Русская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц)
Расчесала царевна золотым гребнем свои шелковые косы светло-русые; сама села у окошечка косящата на скамейке, крытой алым киндяком, и запела грустным голосом:
«Ты приди ко мне, мил желанный друг,
Припади ко мне на белую грудь,
Поцелуй меня сладко в горячие уста,
Обними крепко мое нежное тело!..»
Но и эту ночь не бывал к ней царевич Светел-месяц. Тяжко вздохнула, много слез пролила у окошка косящата царевна прекрасная.
Совсем грустная улетела на рассвете Жар-птица.
Бледню, бледно светилась в то утро заря.
Прилетела днем к терему Черногар-птица, зацепилась когтями за расписной подоконник, на меня посмотрела и спрашивает:
– Приплывал ли в эти ночи Светел-месяц, приходил ли в терем к царевне Жар-птице?
– Вовсе не бывал, Черногар-птица. Так теперь тоскует царевна, что и сказать трудно. Кличет она, кличет своего мила друга, ждет-подождет его – и все по-напрасному.
И куда бы это мог он сгинуть-пропасть?
И отвечала мне Черногар-птица:
– Для того и сгинул он, чтобы тебе спастись… Только лишь вечером прилетит Жар-птица, ты скажи ей, что знаешь, где царевич спрятан и проси, чтобы вернула твой человеческий лик. Но до утра ей ничего не открывай.
А когда Жар-птице время будет с острова улетать, ей скажи ты, что схватили Светла-месяца и прячут его в темной пещере за семью замками железными, три сестры лиходейки – полуптицы.
Заторопится тогда спасать его царевна твоя. А как она улетит – ты меня к себе жди… Летала я позавчера к Стратим-птице и на царевича Светла-месяца ей жаловалась. Ездит-де он невозбранно по синему морю и не воздает чести ей, Стратим-птице.
И так отвечала мне Стратим-птица:
– Как будет царевич мимо плыть, я одно крыло в воду опущу и крылом тем челнок Светла-месяца вместо славного острова царевича к чернозубым скалам трех сестер пригоню. Пускай его Жар-птица сама выручает.
Как сказала, так и сделала.
Только приплыл Светел-месяц к чернозубым скалам, лиходейки-сестры ему и рады. Хватали царевича за белые руки. Уводили его в темные пещеры. Запирались с ним за семью замками. Что теперь с ним сталось – не ведаю… А пока прощай, добрый молодец! Утром к тебе я вновь прилечу.
Прилетела вечером с моря Жар-птица, покружилась над кровлею терема, обернулась прекрасной царевною, скорой поступью вошла в свою горницу.
– Здравствуй, попугай-добрый молодец! Не бывало ли днем ко мне весточки от моего мила друга, царевича Светла-месяца?
– Ой, была, – говорю, – весточка, красавица, но ее тебе лишь тогда расскажу, если ты мне вернешь человеческий лик.
И ответила мне царевна Жар-птица:
– Быть, ин, добрый молодец, по-твоему!
Спускала меня царевна с золоченой цепи, ударяла меня наотмашь правой рукой, и принял я вновь человеческий вид. И стала она тут меня расспрашивать:
– Ты скажи мне, мил добрый молодец, ты поведай, удалый, мне весточку, что прислал мне мой любезный друг, возлюбленный царевич Светел-месяц!
Отвечал я царевне Жар-птице:
– Сидел я, царевна, у окошечка, смотрел я, царевна, в синее небо, ждал-гадал, когда ты вернешься. Смотрю, летит по небу мелкая пташка. Села она ко мне на косящато окно и говорит мне таковы слова: «Ты поведай, попугай, царевне Жар-птице, чтобы прилетала меня спасать-выручать… А куда и как, царевна, – о том я тебе поутру скажу».
Распалилась тут гневом царевна Жар-птица:
– Говори сейчас, деревенщина! А не скажешь – выну ленту из русой косы, оберну тебе вокруг белой шеи и той лентой удавлю тебя до смерти; тело же твое зверью скормлю!
– И некому будет, – говорю в ответ, – рассказать тебе, распрекрасная, куда скрылся-пропал твой любезный друг.
Видит царевна, не боюсь ее гнева. Задумала взять меня ласковым словом – хитер и лукав род женский.
Подошла ко мне она белой лебедью. Положила мне руки на плечи, – говорит, улыбаясь, таковы слова:
– Полно тебе шутить, добрый молодец, не томи моего пылкого сердца; ты скажи мне, куда скрылся-пропал разлюбезный мой царевич Светел-месяц!
– О том тебе, царевна, поутру скажу.
И начала она тут лаской и шуткою от меня мою тайну выпытывать. Обвила мне шею легкой ручкою; в глаза мне умильно заглядывает, а сама смеется, приговаривает:
– Говори сейчас, куда царевича девал?!
Дальше – больше. Все смеялась да смеялась, а потом вдруг завалила на пуховую кровать и ну меня под силки щекотать.
– Защекочу, – говорит, – тебя до смерти, коль не скажешь, где царевич Светел-месяц!
Вижу, тут пришел мне конец. Коли правду сказать ей – в ту же ночь его царевна вернет, поутру же вновь меня птицей обернет. Ничего не сказать – как русалка защекочет. Решил я тут, все равно пропадать, и начал с царевной бороться-возиться. Охватил ее крепко обеими руками и щекотать себя не даю под силки. А она разыгралась и не унимается.
Так мы с ней и провозились всю ночь.
Поутру же, как пришло ей время с острова лететь, говорю я царевне таковы слова:
– Ты ищи своего царевича у трех сестер-лиходеек, в глубокой пещере среди чернозубых скал.
– Так вот он где, мой желанный друг, – вскрикнула царевна, ударилась оземь, вспорхнула огненной птицей, да так опять закричала, что все небо кровью окрасилось. А сама, улетая, мне молвила:
– Погоди, добрый молодец, до вечера! А там я с тобою за все разочтусь: за досаду твою и за стыдобушку!.. Дай только царевича вызволить!
«Ну, – думаю, – плохо мне вечером будет, коли не прилетит Черногар-птица».
И не так сильно ждала Светла-месяца царевна моя, как я поджидал Черногар-птицу.
А когда та в небе показалася и на землю ко мне начала спускаться, то от всей души я взмолился к ей:
– Ты возьми меня скорее, Черногар-птица! Уноси меня отсюда ради птенцов твоих малых. А не то вернется на остров царевна и дурной мне здесь конец будет.
Послушала меня Черногар-птица, брала меня в когти железные, полетела со мною по небу. Летим мы и видим над островом трех сестер-лиходеек стоит полымя.
– Это, – слышу, – уронила Жар-птица с синего неба на черные скалы свои огненные перья и от сестер-лиходеек Светла-месяца выручает.
– Лети, – говорю, – скорее, Черногар-птица! А то она меня издали заметит и от тебя насильно отымет!
– Не заметит, – отвечала мне Черногар-птица, – не до нас теперь царевне-ведунье.
Пролетели мы стороной от острова Стратим-птицы. Спала она, верно. Спокойно море было. И понеслись над Окияном-морем полуденным.
С высоты поднебесной лазоревой глубоко видать море зеленое.
Видел я на дне серебряный терем водяного царя; вокруг терема растут красные дерева; плавают средь них чуда-юда морские; ловят чуда-юда мелку рыбу…
Долго ли, коротко ли несла меня Черногар-птица, – завидели мы вдали белопарусный корабль. Было то суденышко венецейское. Плыло дубовое от аравитской земля к славному Гданскому городу.
Садилась Черногар-птица на высокую корму, опускала меня на палубу тесовую, такову корабельщикам речь держала, громким голосом им наказывала:
– Вы свезите, гости-корабельщики, добра молодца безданно-беспошлинно до самого Гданского города, а оттуда домой сам он путь найдет.
Опустила и со мной распрощалася. Довезли меня в Гданск корабельщики. А оттуда в Нов-Город – рукой подать…
Вот и вся моя сказочка, честные бояре. Не судите строго, именитые гости.
Статуя по заказу Береники
Был тихий час июльского вечера. В загородном доме делосского жреца Аполлона, на террасе, откуда так хорошо была видна безбрежная гладь фиолетового спокойного моря, собралось несколько человек, приглашенных на ужин. С венками на вспрыснутых благовониями волосах, гости возлежали уже на разостланных вкруг низенького стола, туго набитых сушеною морскою травою, пурпурно-красных подстилках. Общее внимание было обращено на виновника пира, знаменитого скульптора Архиппа. Хозяин дома, Зенодот, пригласивший ваятеля сделать для храма, взамен нескольких пришедших в ветхость статуй богов, новые их изображения, очень ухаживал за Архиппом и всячески старался, чтобы ему не было скучно.
Две делосских красавицы, жены городских архонтов, Феодора и Лаодика, пришедшие на ужин вместе с мужьями, наперерыв старались занимать почетного гостя, показывая ему, что он нравится им не только как знаменитый художник.
Каждая из молодых женщин втайне надеялась, что черты ее останутся увековеченными в лице одной из богинь, статуи которых Архипп будет работать для храма, а может быть, и муж согласится заказать ваятелю за сходную цену ее собственный мраморный бюст.
Разговор не успел еще сделаться общим. Один из архонтов, любезно улыбаясь окружающим, думал в то же время о беспокоившем его земельном процессе; другой, шутя с женой сотоварища, Лаодикой, ревниво и незаметно следил за каждым взглядом своей собственной супруги, Феодоры, а состоящий при храме поэт, обязанность которого была перекладывать в стихи записанные жрецами откровения бога в шелесте священных деревьев, делил свое внимание поочередно между знаменитым художником, хорошенькою племянницею Зенодота и слегка разбавленным горячей водою пряным душистым вином.
Зенодот поддерживал тем временем с ваятелем разговор об искусстве.
– Мне более или менее известны, Архипп, все твои главные произведения, но мне хотелось бы также знать, которое из них ты любишь больше всего. Не всегда ведь самые красивые дети пользуются наибольшей любовью родителей.
Отхлебнув из серебряной чаши вина, Архипп отвечал:
– Самые любимые наши произведения, – это те, которые потеряны для нас невозвратно.
Предполагая, что за этою фразою кроется что-то интересное, быть может трогательная история о первой любви молодого художника, Феодора, как бы поощряя его. произнесла:
– Какая красивая и вместе с тем верная мысль!
Но скульптор уже продолжал:
– Как порою хочется нам вернуть себе то или другое, доставившее некогда успех нам произведение! Если бы я был уверен, что мне удастся отыскать мою первую работу, – не колеблясь поехал бы я в далекую Сирию и там, за какую угодно цену, купил бы сделанную по моему слепку, сам не знаю даже, из бронзы или из мрамора, статую.
– Неужели, о Архипп, ты не дорожил в юные годы твоей славой и не интересовался судьбой твоих произведений, – спросила жена другого архонта.
– Нет, Лаодика, именно потому, что я в те годы слишком стремился к славе и горел желанием научиться искусству, я бросил первую свою статую исполненной в глине и умчался в Пергам, едва получив за нее первые в жизни золотые монеты.
– В истории с этим моим изваянием до сих пор есть для меня много загадочного, а может быть, – прибавил Архипп, отхлебнув еще раз из кубка, – не обошлось там и без волшебства.
Жены архонтов и племянница Зенодота стали горячо просить знаменитого мастера рассказать им эту историю. Скрыв любезной улыбкой скептический взор старческих глаз, к ним присоединился и сам верховный жрец:
– О, Архипп, не скрывай от потомства своих первых шагов к завоеванию славы! Я уверен, что еще в ранней юности сопутствовало тебе благоволение богов.
– Я предоставляю тебе, Зенодот, решить, кто из бессмертных помогал мне в моем первом труде. Я же охотно вам всем расскажу об этой работе, давшей мне возможность поехать потом учиться к пергамским и александрийским мастерам…
– Я родился в далекой знойной Гадаре, и могу поэтому вместе со славным поэтом Мелеагром воскликнуть:
«Свет я впервые узрел в Гадаре,
Сирийских Афинах».
– Называться Афинами город этот имеет впрочем довольно сомнительное право. Действительно, там не переводятся поэты, хотя не из крупных, но старательно подражающие александрийским образцам.
Есть театр, есть и два-три скульптора, изображающие в виде богинь Олимпа жен римских чиновников и местных купцов, хотя наиболее богатые из последних, вследствие религиозного суеверия, враждебно относятся к изобразительным искусствам. Да и сами скульпторы представляют там скорее ремесленников, занимающихся украшеньем домов и изготовлением каменных саркофагов для усопших.
– В одну из таких мастерских, выделывавших капители для колонн и мраморные гробницы, отдан был я дядей моим после того, как повальная болезнь унесла у меня родителей и братьев. Отдав меня туда, дядя счел себя исполнившим родственный долг и больше обо мне не беспокоился. Я же был предоставлен всецело на милость своего хозяина.
– Не могу однако пожаловаться на последнего. Это был человек хотя и требовательный, строгий, но справедливый и не жестокий. Видя, что у меня есть способности и прилежание, он старался меня научить всему, что умел. А его бездетная жена, которой я всегда старался угодить, помогая ей по хозяйству, благоволила ко мне и относилась почти как к члену семьи.
– Другие работники, большая часть которых были рабы, тоже любили меня за мой веселый характер и не сердились, когда я в часы отдыха, лепил из глины небольшие фигурки с очень похожими на них смешными человеческими лицами.
– Со временем я усовершенствовался, поскольку это возможно было без художника-руководителя, в уловлении сходства и технике лепки, и даже на память ухитрялся более или менее удачно изобразить того или другого посетителя мастерской. Хозяина это забавляло, но он не придавал способности моей особого значения. «Наш хлеб, – говорил он, – это гробницы. Если ты сумеешь красиво переплести по бокам саркофага гирлянды виноградных лоз и колосьев, это тебе пригодится гораздо более, чем раз в три года исполненная статуя, за которую заказчица еще тебе не заплатит. А гробницы – дело верное, да и расплата по ним скорая»…
– Тем более я был удивлен, когда однажды в час обеденного перерыва, меня позвала к себе хозяйка и сказала:
– «Послушай, Архипп, я хочу доставить тебе заказ, который, если ты его исполнишь как следует, сможет тебя вывести в люди… Ко мне приходила вчера одна моя знакомая, Береника. Она расплачивалась за надгробную стелу своего второго мужа, которого недавно похоронила. Хоть тот и недолго с ней прожил, но оставил все-таки ей большое наследство. Теперь эта женщина очень богата и может, не боясь никого, исполнять все свои прихоти… Так эта Береника мне говорила, что хотела бы иметь бюст или статую одного странствующего по здешним местам галилейского мага. Иошуа бен Иозеф заходил года два тому назад в Гадару и исцелил здесь несколько человек, в том числе и Беренику, страдавшую тогда изнурительною тяжкою болезнью. Оправившись после этой болезни, она в скором времени вторично вышла замуж и теперь стала богатой наследницей. Из чувства признательности к тому, кто ее исцелил, она хочет в настоящее время послать кого-нибудь из здешних скульпторов посмотреть на этого мага и вылепить с него бюст, но только непременно похожий… Едва она мне об этом сказала, я тотчас сняла со стены и показала ей сделанный тобою из ценного воска мой барельефный портрет. Барельеф Беренике очень понравился и она предлагает тебе отправиться в Иерусалим, где теперь скоро праздники, на которые обыкновенно приходить этот пророк. Она даст тебе и денег на дорогу. Я попрошу мужа, и он наверно тебя отпустит. Если же ты успешно справишься, в чем я уверена, то Береника щедро заплатит тебе, а хорошо исполненная работа привлечет к тебе новые заказы… Мы с мужем не завистливы и рады будем, если тебе повезет… Сегодня же вечером сходи к ней повидаться. Я обещала это Беренике».
– Повинуясь желанию хозяйки, я побывал у ее знакомой. Эта высокая, тонкая, еще красивая женщина, быстро сговорилась со мною, научила как отыскать в Иерусалиме галилейского чудотворца и снабдила меня достаточной суммой на путевые расходы. Так как времени до иудейских праздников оставалось немного, то на следующий день я уже бодро шагал по дороге, ведущей левым берегом быстро текущего Иордана почти до самого Моавитского соленого моря. Дорога эта ведет большею частью по равнинным, хорошо орошенным небольшими потоками, красивым местам, и порой обсажена даже тенистыми рядами индийских смоковниц. После нескольких дней пути мимо почти непрерывно цветущих садов, добрался я до иерихонского брода. Там перешел я на другой берег и вступил в каменистую Иудею. Заночевав в Иерихоне, я на следующий день, еще засветло, был в Иерусалиме.
– С утра я направился на поиски галилейского мага.
– Но меня ждало большое разочарование. Люди, к которым меня направила Береника, видимо напуганные происшедшими незадолго до того событиями, шепотом сообщили мне, что отыскиваемый мною ессейский пророк и чудотворец, не поладив в чем-то с местным влиятельным советом жрецов, санхедрином, был обвинен в попытках провозгласить себя царем иудеян и отложиться от римлян, за что и был несколько дней тому назад распят на кресте за городскою стеною.
– Это известие очень меня огорчило, но не окончательно лишило бодрости. Если хищные птицы не выклевали казненному глаз, и лицо его не слишком изменилось, можно было, разглядев его хорошенько, попытаться изобразить что-либо схожее. И, расспросив о месте казни, я отправился посмотреть на распятого.
– Но какова же была моя досада, когда я, еще по дороге, узнал, что выданное для погребения тело казненного было, еще накануне, украдено из запечатанной гробницы, несмотря на приставленную около римскую стражу. Мне приходилось неоднократно ранее слышать, что родственники воруют тела казненных с крестов, для того, чтобы похоронить их, но я никак не мог понять, кому могло понадобиться уже погребенное тело. Такими делами занимаются повсюду только колдуньи, которые нуждаются, как известно, в человеческом жире, глазах и кистях рук для приготовления запрещенных законами всех стран волшебных мазей и прочего чародейства.
– Поэтому я решил отправиться к колдуньям. Так как и они неравнодушны к серебряным монетам, то я рассчитывал, что при содействии их мне, может быть, удастся напасть на след похищенного тела.
– Но колдуний в этом городе, ввиду очень сурово карающих за волшебство местных законов, не оказалось почти вовсе. Единственная, которую мне удалось найти, принадлежавшая к кочевому племени моавитян гадалка-волшебница, хотя и не знала ничего, где тело казненного, но за три серебряных монеты согласилась попытаться вызвать для меня на короткое время тень или призрак отыскиваемого мною ессейского пророка. Мы сговорились, что встретимся в полночь неподалеку от места казни, за городскою стеною, и она почти ручалась мне за успех своих заклинаний.
– Еще до вечернего закрытия ворот вышел я за городские стены и долго бродил среди разбросанных вокруг загородных садов. При свете молодого месяца пришел я наконец к тому пригорку, у которого ждала меня моавитянка.
– Когда по голосам сменяемой неподалеку, у ворот, стражи мы узнали, что наступила полночь, чародейка очертила большой круг для себя и меня, предупредила, чтобы я ни в каком случае не выходил за черту, разделась донага, натерлась пахучею мазью из глиняной баночки, попрыскала на все четыре стороны света, а затем и на нас обоих из стеклянного флакона и заунывным голосом начала читать на незнакомом для меня языке заклинания. При свете то появлявшегося из-за туч, то прятавшегося месяца, я мог разглядеть, какой страх был написан на лице кривлявшейся колдуньи. Страх этот мало-помалу стал передаваться и мне. Порой мне слышалось щелканье чьих то незримых зубов, а выкрикам ведьмы как будто вторили страшные, подобные эху голоса. Я стал опасаться, что, вызвав каких либо местных злых демонов, заклинательница отдаст меня им, в качестве умилостивительной жертвы, на растерзание. Эта мысль все более и более овладевала мною. Когда же пришедшей в исступление колдунье что-то почудилось, и она с криком вцепилась в меня крепко и больно костлявою рукою, я, в свою очередь, дико вскрикнув от ужаса, вырвался от нее, перескочил за черту волшебного круга и без оглядки пустился бежать, не разбирая дороги.
– Как теперь помню, что кто-то стремился меня догнать в темноте и кричал завывающим голосом. Тогда мне казалось, что за мной гонятся по крайней мере Эмпуза с ламиями, но теперь я склонен думать, что меня догоняла сама заклинательница, которой я не заплатил еще денег, и она, не желая их лишаться, старалась меня воротить. Но я не узнавал ее голоса и мчался, словно меня подгоняли бичи эвменид.
– Перескакивая в темноте через невысокую стену какого-то виноградника, я повредил себе ногу и свалился без сил на недавно взрытую мотыгами землю. Там я пролежал до утра.
– Когда взошло солнце и отворены были городские ворота, я поднялся на ноги, страдая от боли, кое как приковылял в Иерусалим и добрался до нанятой мною каморки. Там я должен был пролежать несколько дней, прикладывая к ушибленной ноге мокрые тряпки, пока боль несколько не утихла и ко мне не вернулась способность ходить.
– Деньги у меня были уже на исходе, дальнейшее пребывание в городе иудеян ничего не могло сулить мне приятного, а потому, расплатившись за постой и не пожелав даже осмотреть поближе знаменитый храм на Сионе, я в одно прекрасное утро вышел из Иерусалима и направился обратно по иерихонской дороге.
– Вероятно, повреждение в ноге недостаточно зажило, так как спускаясь с гор, я скоро вновь почувствовал боль и начал хромать.
– Опираясь на палку, добрел я до Иерихона и отдыхал там гораздо дольше, чем это обыкновенно делают путники. Собравшись затем с духом, пошел я по прииорданской равнине к пешеходному броду. Это место очень оживленное, так как за ним дорога разветвляется: направо – в земли кочевых арабов, а налево – на Перею и Галаад. Меня то и дело обгоняли всадники на ослах, конях и верблюдах, иногда чей-нибудь роскошный паланкин, несомый шестью или восемью дюжими рабами, я же, грустно и не без зависти смотрел им вслед. Пешеходы тоже, порой не без шуток, перегоняли меня, и я шел, страдая от боли в ноге, одинокий и грустный.
– Как теперь помню, мысли мои вертелись около казненного галилейского пророка. Я искренно жалел, что не имел возможности повидать Иошуа бен Иозефа и вылепить его статую, и мысленно пенял ему за то, что он допустил себя преждевременно казнить… Прощай теперь и выгодный заказ, и мечты об учении у какого-нибудь хорошего скульптора, искусство и слава!..
– Эти грустные мысли мои развлек несколько пешеход, догнавший меня, но не пожелавший почему-то, подобно другим, обогнать. Он даже замедлил несколько шаг свой, глядя в лицо мне, словно стараясь внимательнее меня рассмотреть.
– «Ты принимаешь меня верно за своего знакомого, приятель», – сказал я ему по-сирийски: – «или, может быть, я напоминаю тебе должника, обещавшего тебе вернуть десять мин? Знай же, что я ни от кого не брал еще в долг».
– «Пусть так», – ответил он приветливым голосом, – «но я заметил у тебя на лице помимо ощущения боли еще и заботу, вроде той, что бывает как раз у людей, которым не удалось уплатить вовремя долг».
– «Ты почти отгадал, мой друг», – сказал я, – «но если я и должен кому-нибудь, то отнюдь не золото и не серебро».
– «Ты думаешь верно о неисполненной работе»?
– Я внимательно посмотрел на своего спутника. Это был человек несколько выше среднего роста, со светло-каштановыми, до плеч, вьющимися волосами и странно золотистым цветом липа. Черные брови, почти соприкасались в своих основаниях, казались распахнувшимися крыльями птицы. Широкие поля дорожной шляпы бросали тень на молодое, участливо ко мне обращенное лицо незнакомца.
– «Ты прав, товарищ. Мне, по-видимому, придется лишиться очень выгодного заказа», – отвечал я ему и рассказал затем про поручение Береники, которого я не мог исполнить из-за того, что иудеяне совсем некстати казнили своего пророка.
– «Судьба каждого пророка у иудеян – рано или поздно быть казненным», – задумчиво сказал мой попутчик. «Тебе конечно жаль тех удовольствий, почестей и награды, которых ты лишился вместе с заказом из-за преждевременной, по твоему мнению, смерти Иошуа бен Иозефа»?
– «Ты не упомянул еще об одном, тебе, вероятно, незнакомом наслаждении – творить и радоваться, видя успешно исполненным свое произведение», – возразил я.
– «Почему ты так думаешь, юноша?.. Впрочем, что такое искусство смертных?!.. Люди выцарапывают из мрамора на боковой части гробницы виноградную лозу, стараются уловить сходство с чертами живого лица в сочетаниях окрашенного воска на картине, выкладывают узоры из разноцветного сплава на стенах дворцов и храмов, и называют себя творцами… Но разве настоящая лилия, из тех, что растут по берегам вот этой реки, не красивее и не нежнее той, которую вы довольно неуклюже высекаете из камня, а виноградная лоза, впитывающая в себя живительный луч солнца, разве не прекраснее во сто крат изображенной на известке стены эллинским художником»?
– «Пусть так, но и создаваемые смертными вещи порой бывают прекрасны и доставляют радость как работающему так и зрителю»…
– Разговаривая таким образом, мы брели под сенью индийских смоковниц прямою широкою дорогой вдоль берегов Иордана. Видя мою хромоту и юношеское стремление не обнаружить страдания, собеседник мой замедлял шаги и время от времени сам предлагал отдохнуть. Он, видимо, не очень торопился.
– Почувствовав к нему неизъяснимое расположение и доверие, я более подробно рассказал незнакомцу о своих разбитых мечтах и надеждах.
– «Не грусти, ты еще молод. Может быть, сделавшись стар и пресытившись славой, ты сам познаешь, что она делает людей своими рабами»…
– Мы остановились с ним на ночлег в укромном месте, на берегу впадающего в Иордан серебристого притока. Из сухих сучьев прибрежных кустарников сложили мы костер и сидели, глядя, как одна за другою загораются звезды. Но еще засветло незнакомец осмотрел мою ногу и тонкими пальцами красивой руки несколько раз погладил ушибленное место. От этих поглаживаний боль заметно уменьшилась. Я поделился со своим собеседником взятыми мною из Иерихона хлебом и сыром. Когда же я хотел спуститься к потоку, чтобы напиться, то мой спутник не позволил мне сделать этого, сказав, что он сам принесет мне воды, и принес… в собственной пригоршне.
– «Ну, этого мне, пожалуй, будет маловато», – подумал я с улыбкой, глядя на столь небольшое количество влаги.
– «Пей», – властно произнес, как бы в ответ на мысли мои, принесший мне воду.
– Я послушно нагнулся и – хотите верьте, хотите, нет, – пил до тех пор, пока не перестал чувствовать жажду. Помню лишь, что внимание мое привлекло небольшое красное пятно на ладони, из которой я пил. Этою же мокрой ладонью притронулся он к больному месту на ноге моей и произнес:
– «Боль прекратилась»?
– «Вполне», – ответил я, с наслаждением вытягиваясь на прибрежной траве. Меня клонило ко сну. Довольный полученным облегчением, я вскоре заснул как убитый.
– Когда я проснулся, попутчика моего уже не было. Я мог бы даже подумать, что видел его во сне, если бы не исчезновение боли в ноге, а также крошек хлеба и корочки сыра, оставшихся на том месте, где сидел незнакомец.
– Я встал и, благодаря судьбу за ниспосланную мне накануне встречу, бодро пошел своей дорогой. Через несколько дней я добрался до Гадары.
– Явясь в мастерскую, я рассказал вкратце хозяину и его жене о постигшей меня неудаче. Мне так неприятно было еще раз передавать подробности этой неудачи, что я не решился идти в тот же день к Беренике и тотчас же принялся за работу – изображение плачущих амуров на вновь заказанном саркофаге.
– Во время обеденного перерыва я по привычке, взял в руки большой кусок воска, предназначенный на лепку маски для портретного медальона на том же саркофаге, и бессознательно стал мять этот воск и что-то лепить.
– Когда же я потом поприсмотрелся к своей работе, то был просто изумлен, до того похоже было вылепленное мною лицо на моего дорожного спутника.
– Тогда я уже сознательно, призывая на помощь память и все мое уменье, стал увеличивать это сходство.
– И довольно скоро под пальцами моими обрисовалось так недавно еще смотревшее на меня продолговатое, несколько женственное, обрамленное слегка вьющимися волосами лицо, прямой, как у статуй античных художников, нос и властное очертание великолепно срифмованных губ…
– В это время мне сказали, что к жене хозяина пришла Береника. Я отложил работу и хотел было идти в гинекейон, но Береника сама явилась, желая из моих собственных уст услышать, что мне было известно об обстоятельствах смерти Иошуа бен Иозефа.
– Я, как умел, удовлетворил ее любознательность.
– «Итак, тебе не пришлось даже его повидать», – печально вздыхая, спросила она, когда я окончил мой рассказ.
– «Нет, госпожа, иначе я вылепил бы его для тебя. Мне самому грустно, что я пришел с пустыми руками».
– Собираясь уходить, Береника обвела глазами нашу мастерскую. Взор ее случайно упал на мою неоконченную работу.
– «А это что»?!.. – изменившимся голосом вскричала она, кидаясь к вылепленной мною голове. – «Это он!.. Мальчик, зачем ты мне говоришь, что его нет, если ты его видел?!.. Это он! Только лет на десять моложе, чем я его помню. Когда Иошуа приходил к нам в Гадару, он был с бородою»…
– «Госпожа, ты ошибаешься. Это не Иошуа бен Иозеф. Это лицо моего случайного путника на Иордане».
– «Ты не лги! Ты видел его самого! Я чувствую, что это был Иошуа! Ты изобразил его моложе, без бороды, но таким он еще более нравится мне. Сделай теперь для меня его статую во весь рост».
– «Госпожа, я не владею еще достаточно искусно резцом, чтобы исполнить это в мраморе, не говоря уже о бронзе».
– «Ничего, ты только окончи ее в воске и глине, остальное довершат за тебя другие, а я дам тебе столько золота, что ты в состоянии будешь ехать как хотел, в Пергам, или Афины, усовершенствоваться в своем мастерстве».
– Расспросив меня затем во всех подробностях об исцелившем мне ногу попутчике, Береника с уверенностью продолжала утверждать, что это был сам Иошуа бен Иозеф. – «Его не могли казнить! Это сошедший на землю бог… или сын бога», – задумчиво прибавила она. – «Мне известно, что у него в Галилее есть мать… Так исполни же то, о чем я тебя прошу», – сказала она уходя.
– Добрые мои хозяева от души поздравили меня с удачей. Старик просил лишь слепить ему на память из воска такой же барельефный портрет, как и тот, что я сделал для его жены и подписать под этой работой мое имя.
– «Я уверен теперь», – сказал он, – «что ты завоюешь себе большую славу и мне лестно будет лежать в гробнице из собственной мастерской, чувствуя, что мое лицо на стенке этой гробницы перейдет в другие века».
– Береника осталась довольна исполненным мной изваянием и сдержала свое слово. В скором времени я уехал на полученные от нее деньги в Пергам.
– С тех пор прошло много лет и сбылось предсказание моего таинственного спутника. Мне надоело гоняться за славой. Порою мне мучительно хочется вновь стать скромным, застенчивым юношей, идти под прохладною сенью смоковниц вдоль берегов сверкающего здесь и там сквозь зелень садов Иордана и вновь слушать проникавшие некогда в сердце мое речи того, кто так чудесно помог мне стать тем, чем я стал…








