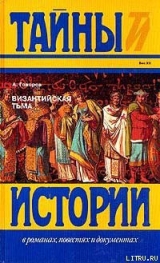
Текст книги "Византийская тьма"
Автор книги: Александр Говоров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
На главную площадь выезжает какой-то храмовник или иоаннит, закован в металл, словно надгробный памятник. А меж ног у него целый гиппопотам, не лошадь. А вернее, даже адский единорог. И перед диковинной мощью этого всадника почтительно стихает рев толпы.
– Эгей, Андроник! – шепчет другу царевич. Он чувствует, что некая волна решимости его подхватила и нет ему более спасенья. – Послушай, дружище, где твой латинский доспех, который ты купил по дороге сюда, в Алеппо?
– Он неподалеку, в обозе, а что?
– Прикажи его быстренько сюда доставить. Мы ведь с тобою одного роста…
– Как? – Андроник с удивлением и завистью смотрит на товарища и соперника детских игр. – Неужели ты с этим монументом… Но ты же сын царя, императорский посол, имеешь ли ты, наконец, право…
– Я так хочу, – упрямо говорит Мануил, и не подозревая тогда еще, что эти слова ( «Я так хочу!») станут девизом всего последующего тридцативосьмилетнегр его царствования.
И вот он, напялив на себя гремучие жестянки (так презрительно они, византийцы, обычно отзывались о крестоносном вооружении), украсившись белой как снег полотняной мантией, выезжает навстречу спесивому противнику, как какой-нибудь новый граф Роберт Парижский или Ричард Львиное Сердце.
Опускаем дальнейшие подробности – увы, лавры Вальтера Скотта нам не по плечу! – Скажем, что в конце концов, крепко зажмурившись от всей этой передряги и творя молитву Господню, царевич мчится на врага, сжимая копье, толстое, словно бревно. И Господь своему верному помогает. В решительный момент у страшного бегемота лопается подпруга, и он, как железная бочка, с позором валится на песок.
И от этих воспоминаний, от этой юности веселой жизнь словно бы вновь вскипает, возрождается по капле… Столь мерзко кругом, столь погано, что не хочется и глаз открывать – пусть считают мертвым. Откроешь – а они все тут, шелестят хитиновой чешуей!
– Ты уходишь, величайший, непостижимейший, а нас, рабов твоих, оставляешь? Пенсию синклитикам твоим ты так и не повысил, зато наоборот – иностранцев мерзких обещал налогом обложить, так и не подумал, они теперь и станут богатеть твоею милостию!
А был он щедрым, незлобивым, всегда приветлив, ясен душою. Придворные подхалимы восславили царствование его как Золотой Век Второго Рима.
В порфировой зале он не родился, потому и не считался багрянородным. По происхождению второстепенный царевич сбоку династии. Сколько же стоило ему непотопляемости и ориентировки, чтобы в конечном счете оттолкнуть других и сесть на Высокий Престол!
Историк позднее напишет: мужая, стал груб, нетерпим. Деньги утекали, как в море. Был влюбчив, обожал пировать с разгульными товарищами. Суеверен, однажды задержал отплытие целого флота из-за неблагоприятного гороскопа и потерпел поражение. Впрочем, поражений в его царствование было больше, чем побед, но блеск и сияние его престола были так велики, что вся его эпоха казалась беспрерывной победой.
О Господи! Но он же первым не щадил себя во имя дела! В походе спал с солдатами на земле. При осаде Дорилей, словно простой ратник, таскал на собственных плечах метательные камни.
Когда же из Палестины доставили ему в подарок подлинную плиту от Гроба Господня, он сам поднял эту махину и отнес во дворец. А было ему тогда уже куда как больше шестидесяти лет! Теперь завещал положить ее на могилу себе самому.
Слабого усиливал, сильного ослаблял. Фридриха Барбароссу, германского короля, довел до хронической неврастении, не пуская его в Рим. Папа, сам трусливый без меры, сильно опасался этого грубияна Барбароссу. Мануил растравливал его воображение двусмысленными письмами, и папа, пока был жив, так и не пустил всемогущего короля за стены Вечного Города! Всяк, кому угодно, входил в Рим и выходил, но не Фридрих, хотя его рыцари наводняли Италию. А ведь без посещения Вечного Города Барбаросса не мог принять титула «император». Впрочем, как и череда его властолюбивых предшественников, Мануил твердо полагал, что император во вселенной может быть только один – в Византии!
Да и вообще недолюбливал западных людей – нетонкие они, неделикатные, высокомерные, вечно кровожадные.
Да, был без меры добродушен, отдавался разным цирковым плясуньям, подчинялся дворцовым евнухам, делая их богачами. Грешен – любил роскошь, яства, игру на цитре (кифаре, гитаре). Но трудился без устали, ничего не передоверял фаворитам, сам до полуночи перелистывал все бумаги. Встретит в поле пахаря, спешится, просит позволения хоть за рукоятку плуг подержать.
И теперь жизнь долгая и бурливая приближалась к концу. Ворчливый патриарх Феодосии, который, кстати, и держался-то только на личном благоволении императора, пенял ему, что еретикам послабляет, разным павликианам, манихеям. А когда учредил Мануил монастырь, где все монахи обязаны были трудиться, ибо сказано: не трудящийся да не ест, он же, Феодосии, первым обвинил императора в искажении апостольского догмата.
Но вот постепенно лежащий с закрытыми глазами император сквозь свои видения или сны стал ощущать какой-то неприятный запах. Более того – просто непереносимый запах. И без того в пространстве, где разлит елей, густой, как мед, дышать было нечем, а тут еще вонь несусветная, какая бывает на рыбных рынках или пристанях, где скапливаются остатки улова, только еще гаже. Человек военный нашел бы сходство с неубранными трупами на полях сражений. Действительно, так может пахнуть покойник, которого не хоронят много дней.
И гнев его охватил – что же это? Нет больше, что ли, в столице бань и ванных заведений? Как смеет этот дурно пахнущий входить к нему, ощупывать его зачем-то, склоняться над ним так, что его тень ползала по сомкнутым векам лежащего императора? Мануилу стало себя жалко, захотелось плакать и жаловаться кому-нибудь, что умереть спокойно не дают. И хотя он твердо знал, что может встать и пойти, решил назло: лежать и лежать, продолжая изображать покойника.
Вдруг раздался яростный звон разбитого стекла и крик ужаса всего придворного синклита. Мануил, не открывая глаз, понял: это центральное окно абсиды, которое он сам же украшал драгоценным витражом, привезенным из похода. Хозяйственная душа царя затрепетала. Да что же это у них тут творится? А вот и боковой витраж зазвенел стеклянным водопадом. На Мануила обрушился свежий прохладный воздух как живительный поток, ничего больше, ни елея, ни рыбной, ни трупной вони – ничего!
Но кто же смел разбить чудеснейшие эти витражи?
Царь в гневе сел на ложе, сотни лиц, обращенных к нему в ожидании вести о его кончине, исказились в страхе и сотни глоток вскричали:
– Зооэроте! Зооэроте! Смотрите, он воскрес!
Византийца, с малых лет приучаемого к возможности чуда, внезапным чудом не удивишь. Все тотчас приняли воскрешение царя как должное, и двинулось шествие с поклонением к его царственным стопам. Первыми это были, конечно, царица Ксения-Мария и ее любимец паракимомен, торжествующие, ибо вернуть царя к жизни удалось все же их партии, лжеврачей прогнать, а праведника из Львиной ямы привезти.
Склонилась несколько сконфуженная кесарисса Маруха, а с нею красавчик Райнер Монферратский, затем, по очередности рангов, и другие. Народ могуче кричал «Цито!» (то есть «ура») и разбегался по своим делам и заботам.
Воскресший пасмурным взглядом глядел на жизнь, куда его заставили вернуться. Смотрел поверх раззолоченных шапок и тиар, фигурных лампад и паникадил. И видел человека, совершенно несхожего с тем, что привык видеть каждый день в течение тридцати восьми лет. Не просто отличного от всех, а принципиально несовместимого с каждым по отдельности и со всеми вместе. Людям, занятым своими делишками и страстишками, он показался бы совершенно обыденным – как дети рисуют? Точка, точка, два крючочка, носик, ротик, оборотик… Император же, самый компетентный человек в государстве, да еще заглянувший по ту сторону жизни, увидел в нем иное.
И он сделал первый в своей новой жизни активный жест. Он поднял ладонь ребром и пошевелил ею, как бы желая сказать: разойдитесь же в стороны, не мешайте мне смотреть на этого человека! И все в ужасе поняли, что про главное-то действующее лицо в этой истории они забыли!
Внешне это был обыкновенный юродивый – толпы их шатаются в поисках милостыни. Нагота его еле прикрыта случайной дерюжкой. Уже когда вводили его во дворец, офицеры прикрыли от срама коротким варяжским плащом. Ноги и все другое в разводах гнилого рыбьего сока.
Но лицо, лицо – без всякого подобия зависимости! Гордое, но простое. Умное, но без выкрутас. В империи таких нет, так и хотелось спросить: а где, голубчик, в какой стране вас выращивают, такой народ?
8
Привели императорских врачей и поставили на колени. В нелепых одеяниях, присвоенных их сословию, были они похожи на диковинных птиц – с хохолками, пышными воротниками, декоративными перьями. С надеждой врачи взирали на воскресшего повелителя.
Но повелителю было не до них, потому что он сидел уставясь на юродивого, который его исцелил. Тогда за дело взялся верховный паракимомен.
– Слуги дьявольские! – сказал он тихим голосом, так как тихий голос увеличивал силу гнева. – Чуть было вы не погубили высочайшего! Если бы Господь не послал нам праведника сего…
Однако от гнева пора было переходить к новым триумфам.
– Продать их всех на рынке! – приказал он. – Да не с Гиппократовых мостков, где лекарями торгуют, а с землекопских, пусть попадут на общие работы!
Эскулапы затрепетали, стали рвать на себе остатки волос. Кесарисса Маруха, на правах любимицы отца, вывела из строя обреченных тощего носатого человечка в шляпке лопушком, заявив, что это ее личный раб, да к тому же он и не врач, а Фармацевт.
Верховный же паракимомен, не желая терять инициативу, обратился к Денису (надеемся, понятно: Мануила исцелил именно он):
– Пожалуй, святой человек, осмотри еще раз высочайшего. Назначь лекарства, процедуры. И мы заберем его в опочивальню.
Денис в замешательстве стоял перед императорским ложем. До сих пор все как-то шло само собой, катилось – эргастирий в Бореаде, пираты, великий дука флота, наконец, Львиный ров. Доставили его сюда, и он сделал то, что подсказывал ему здравый смысл. Но он же все-таки не врач! И он стоял перед исцеленным, и оба не могли оторваться друг от друга.
Страшный калейдоскоп не переставал крутиться в памяти Дениса. Как швырнули его, накануне, на залитые кровью и блевотиной торцы Зверинца и львы подошли лениво, протянули к живой пище волосатые морды. Отворачивались, потому что были сыты, к тому же цари зверей не едят падаль.
Денис был в полуобморочном состоянии тогда и все же понимал, что зрители Зверинца как раз и хотят, чтобы львы немедленно растерзали жертву. Из-за каменных зубцов цирка они свистели, и чмокали, и кидали куски тростника, который возбуждает жажду у зверей. Но львы хоть и злобно рычали, но отворачивались от запаха падали, отходили прочь.
Так прошли кошмарные сумерки, а может быть, целая ночь. И тут Денис понял внезапную перемену в отношении к себе. Ему стали свистеть подбодряюще, махать руками, даже бросили булку, но гастрономы-львы подобрали ее и съели.
Полилась струя воды у колоды, львы, довольно рыкая, отправились на водопой. Но и Денису хотелось пить нестерпимо, а к опасности он уже притерпелся, отупел, что ли. Львы, по своему звериному обычаю, не могли начать водопоя без взаимных церемоний. Денис растолкал их и стал пить. А цари зверей ждали, пока утолит жажду царь природы.
Но тут стража Зверинца стала загонять львов в клетки, и они, кружа на вкрадчивых лапах, уступали ее бичам. Только один гордый лев долго не подчинялся, пока не просвистела арбалетная стрела. Бедный хищник даже присел и заплакал, вместо того чтобы зареветь во всю царскую мочь. Хлестнула вторая стрела сквозь его шею, и лев умер.
Тогда сверху спустились люди, не то палачи, не то укротители, и со всем возможным бережением забрали Дениса в священный дворец.
А теперь – чего ожидает этот старик, свесив с роскошного ложа склеротические ноги? Денис, едва только понял, что от него ожидают, знал, что вся беда в чудовищной духоте и средневековой антисанитарии. Выбив окна, он обеспечил кислород и каким-то образом поднял старца.
Император взирал на него с тоской и надеждой, сонм царедворцев ожидал его дальнейших действий, а ему легче было угадать, чего каждый из них ожидает от перемены царствования, чем предлагать, как лечить дальше.
«Гигиос, гигиос», – крутилось у него на языке единственное греческое слово. Для начала решил осмотреть пациента и предложил ему лечь на спину. Мануил послушно лег, но оказалось, что высокородная публика с этим несогласна – как? Только что воскрешенного императора вновь укладывать на смертное ложе?
Денис растерялся и вдруг услышал где-то у себя под мышкой чей-то ободряющий лепет. Это оказался тот маленький носатый Фармацевт, которого кесарисса спасла от продажи на рабских мостках. Схватив Дениса за край плаща, он энергично его убеждал в чем-то, даже пальцами показывал, как льется струя воды. Ну что ж тут убеждать! Действительно, старика надо выкупать. От эскулапских здешних мазей у него, вероятно, забиты поры кожи. Денис помнил по книгам, что для лечения персон царского рода в мазь клался фунт порошка из чистого золота, а для герцогов или князей – унция серебра.
Но придворная клика осмелела и буквально выла, требуя отстранения Дениса. Некоторые так и заявляли: праведника назад ко львам! Схоласты принялись рассуждать, может ли лицо, уже отпетое и соборованное, вновь занимать престол? Не благоугоднее ли здесь пострижение и схима?
Тогда порфирородная Маруха продемонстрировала, что именно в ней струится кровь неукротимых Комнинов. Она схватила посох, который патриарх прислонил к колонне, присев отдохнуть на скамеечке.
– Цыц! – совершенно по-русски закричала она, замахиваясь посохом. – Он мне отец, и я не позволю, чтобы вы его уморили!
И тяжеленным посохом стукнула о мраморный пол так, что высекла искры.
И царедворцы, кланяясь и пряча глаза (кто еще знает, как повернется руль истории), стали исчезать, бормоча славословия. Уж очень они непостижимы – сумбурная царевна, а рядом с ней праведник из Львиного рва…
А в порфировую залу вступали банные евнухи, розовые и мускулистые. Они приступили к высокородному клиенту, переложили его на носилки из слоновой кости, правда уже пожелтевшие от древности, но зато служившие, утверждают, блаженной Феофано. Переложили, получили благословение патриарха и унесли с собой.
9
Не без робости кандидат Никита вступил под гостеприимный кров Манефы Ангелиссы. Окончив философскую школу, он некоторое время служил регистратором на привозе, дело, конечно, хлебное, но без особенных перспектив. Люди разъясняли: для молодого провинциала первое дело в столице – найти покровителя. Даже прямо указывали на вдову Манефу. Во-первых, не спесива, подобно другим Комниниссам или Ангелиссам, во-вторых – неравнодушна к философам, равным скромнику Никите.
Старший брат его, Михаил Акоминат, был во всем удачливее. Вовремя постригся и уже был рукоположен в епископы Афинские. Перед отъездом к месту своего служения сумел младшего братца к этой покровительнице, как говорится, внедрить. В тот миг, когда восторженная толпа царедворцев, восприяв известие о чудесном оживлении царя, разбегалась по домам, Никита представился Манефе Ангелиссе и получил от нее приглашение заходить. Да что там заходить! Сегодня же и пожаловать на малый семейный ужин.
Никита поделился со своим бывшим однокашником по имени Мисси (то есть Михаил) и по прозвищу Ангелочек.
– О! – воскликнул бывший питомец философской школы. – О, Манефа!
И он несколько раз повторил «о, Манефа!», хотя, несмотря на все осторожные выспрашивания Никиты, так и не смог внятно растолковать, что означает это «о, Манефа!».
Мисси, великовозрастный младенец, как и провинциал Никита, ожидал назначения на выгодную должность. Но так как являлся столичным жителем, да еще и сыном аристократических родителей, никуда не торопился, а заботился только о полировании подошвами Золотой Площадки в центре столицы, где фланировала юная Византия.
– О, дивная Манефа! – еще раз повторил он, затем рассказал, что у Манефы есть племянница по имени Теотоки, о которой он выразился еще более неопределенно:
«Весьма незамужняя брюнетка!» Впрочем, загадочно выражаться это была черта характера Мисси и о той самой Теотоки он прибавил только: «Умопомрачительная особа!»
– Вот что, – сказал он. – Ты приглашен к ним на вечер? Решено: я пойду с тобой. Ведь я им родственник, ты знаешь? А откуда же тогда мое прозвище – Ангелочек?
За ужином у Манефы только и разговоров было, что о происшедшем сегодня у царского одра. Казалось бы, разговоры должны были вертеться вокруг страшных сюжетов, например, кто же этот загадочный исцелитель, пророк из Львиной ямы. По городу ходили слухи, что он вообще с того света, не человек – оживший покойник.
Ничего подобного. Гости Манефы чинно орудовали салфетками, вытирая жирные пальцы (вилок в те времена еще не изобрели), то и дело спрашивали у слуг горчицы или соусу и шелестели в разговорах, подобно каким-нибудь гусеницам у капустного листа.
– Ах, ах, всепресветлейшая Ксения-Мария, не говорите мне о ней! Ах, как должна быть счастлива она – ведь ей удастся хоть на несколько дней возвратиться в свой новый, только что выстроенный особняк во Влахернах…
Византийцы славились уменьем говорить так, чтобы ничего не говорить. И эта выспренняя тирада означала только, что где-то глубоко под спудом идет подвижка власти. Царица молодая со своим паракимоменом поторопилась похоронить мужа и теперь может угодить в почетную ссылку. А у руля может встать другая пара – порфирородная кесарисса и ее зубастый крокодил красавчик Райнер.
– Особенно если им удастся перехватить такого чудотворца, как этот из Львиной ямы, – глубокомысленно заметил светлый старец Феодорит, запивая крепким хиосским жареную дичь.
Гости на него замахали: всем ведь известно, что праведника из Львиного рва изобрел не кто иной, как верховный паракимомен.
– Изобрел! – воскликнул Феодорит. – А использует Маруха. Вот увидите, она позубастее будет, чем те самые львы!
Никита из-за пышных рододендронов и хризантем, украшавших Манефин стол, внимательно разглядывал гостей, особенно тех, кто сообщал что-нибудь – в Византии же не было газет, а поток информации не уступал и современному. Вот длинный, лысый и старый Феодорит, о котором – знал Никита – смеялись, что он светел, как печная дверца. Мисси Ангелочек звал его просто – дворцовый верблюд, утверждал, что он потому такой смелый, что сам из стражей уха.
Манефа тоже его побаивалась, пододвигала ему рябчиков в винном соусе, сокрушалась, что подопрели.
– Не подо-пре-ли они, нет. – Феодорит, увлекшись крепким хиосским, уже плохо действовал языком. – Вкуснейшие, дьяволята!
Теперь пришлось хозяйке сокрушаться по поводу того, что гость за ее столом нечистого помянул. А другой ее почетнейший гость – глава рода молодой Исаак Ангел, тоже несколько перебравший, захохотал при словах Феодорита о Марухе.
– Порфирородная кесарисса, священноцарственная василисса. – стал перечислять он высокородных персон и неожиданно закончил: – А, все они мазаны одним миром!
Гости перестали звенеть посудой и стучать ножами – уж очень это было дерзко. Один шаг до оскорбления величества. Впрочем, Исаак Ангел, как вождь клана, всегда отвертится. А из остальных могут, увы, сделать козлов отпущения. Исаак Ангел, пьянея, пытался неверною рукой налить себе еще хиосского, расплескивал на себя и на соседей, пока суровый раб Иконом, домоправитель Манефы, не отобрал у него кувшин, налил и преподнес с поклоном.
Манефа подумала, уж не вызвать ли его, Исаака Ангела, челядь, толпящуюся за порогом? Но суперангел не сделал последнего шага, ведущего к оскорблению величества.
– А знаете, ангелы, – спросил он гостей, – почему на нашем гербе у херувима шесть крыльев? Двумя крылами закроет глаза, двумя уши, а двумя рот. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу.
Умеренно посмеялись, главное, тому, как ловко этот молодой царедворец прошелся по лезвию ножа.
Чтобы переменить тему, Манефа стала сокрушаться, что родственник ее куда-то запропал, тот самый, акрит из Пафлагонии. Днем она отослала его сюда обедать, слуги говорят, он ушел в город, сказал: искать правду. Один, печалилась Манефа, человека у него нет.
Светлый старец Феодорит пытался ее утешить: э, матушка, наши ведомства что темный лес, искать там правду все равно что иголку.
Несколько протрезвевший Исаак Ангел стал развлекаться тем, что дразнил хозяйкину моську, покоившуюся в ее могучих объятиях. Собачка сначала сверлила рыжего обидчика недовольным глазом, а потом стала хрипло на него тявкать.
А тут на кухне что-то вдруг хлопнуло, зашипело, запахло горелым. Манефа нервно вскочила, сунула моську на руки племяннице, помчалась наводить порядок, по дороге раздавая подзатыльники.
Это и была та самая Теотоки, которую так выразительно аттестовал Ангелочек. Ничего умопомрачительного в ней не было, кроме того, что это была одна из перспективнейших невест империи. Наверное, это и имел в виду Ангелочек, когда говорил «весьма незамужняя». Действительно, нелегко найти себе мужа, если и по отцу и по матери родственница царям. А в остальном это была самая обыкновенная тоненькая, чернявая смешливая девушка с нежными усиками над чувственным ртом.
– Глупая ты, – гладила она трясущуюся в гневе моську. – Ты не знаешь разве поговорки? На дураков и господ собаки не лают!
– Ого! – комически воскликнул Исаак Ангел. – Это что, бунт?
– Хуже, господин Ангел, – в тон ему отвечала Теотоки. – Это война династий. Я выхожу из вашего подчинения, любезный генарх.
– Как! – вскричал Исаак Ангел, а все остальные перестали есть и выглядывали из-за рододендронов и хризантем. – Вы выходите замуж?
– Да, и притом за Комнина… Вот со мною пришла моя будущая родственница, вы не узнаете ее? Правда, она давно в высшем обществе не бывала…
Исаак Ангел, конечно, тотчас узнал новую гостью. Даже разрумянился от волнения, хотя трудно было стать еще более румяным при его рыжей комплекции. Вскочил, стал улыбаться и кланяться, отгибая ветви рододендронов.
– О, блистательная Ира, Эйрини, дочь славнейшего Андроника!
Теотоки, смеясь, грозила пальчиком. Не промахнитесь, господин дипломат, принц Андроник еще не получил официального прощения.
Мисси встрепенулся и ткнул в бок своего однокашника.
– Глянь, глянь, эта белобрысая, худосочная, рядом с Манефиной племянницей! Это и есть принцесса Ира, дочь Андроника. Знаешь, что я подумал? Ведь ее за меня сватают. Давай-ка пересядем за их конец стола, я тебя познакомлю.
Пересели, но без ощутимых результатов. Обе высокородные девицы в ответ на изысканное представление Ангелочка только наклонили высокие прически, потому что были целиком поглощены фокусами, которые учинял вконец развеселившийся глава рода Исаак Ангел.
Он взял две деревянные ложки и браво отстукивал ими по столу пафлагонский марш, а верблюд Феодорит, тоже любитель застольных представлений, ухал и свистел, подражая оркестру.
Шагай, шагай, Андроник,
На остров на буян,
Круши, круши, Андроник,
Неверных агарян!
Это был давнишний марш пафлагонской фемы, когда она с принцем Андроником ходила на султана Араслана. Теперь марш стал народным куплетом и распевался слепцами на рынках. Девушки смеясь глядели из-за цветов на паясничающего Исаака Ангела.
Никита тоже стал смотреть на него. Он учился в их философской школе в Студийском монастыре на год-два старше Никиты Акомината и его дружка Ангелочка. Никита почти его не знал, слышал только о его выходках и склонности к шутовству, о том, что ректорат школы вынужденно его терпел – уж очень близкое родство с императорской фамилией! Будто бы в традиционной выпускной процессии, где школяры изображают «пещное действо», нечестивого вавилонского царя играл этот самый Исаак Ангел, очень талантливо играл, говорят. Но по традиции исполнитель роли царя Навуходоносора должен был быть по-настоящему высечен перед народом, и правило это сохранялось в философской школе полтысячи лет! А Исаак Ангел будто бы отказался лечь под розги.
Кто-то тогда даже предсказал – носить ему настоящую корону! Всевозможные претенденты на римский престол как только появляются где бы то ни было, вызывают пристальный интерес стражей уха и вскорости же исчезают. А Исаака Ангела никто пальцем тронуть не посмел.
Шумно выпили за принца Андроника, хотя это носило несколько диссидентский оттенок. Гости, разглядывая миниатюрную беляночку Иру, удивлялись, как она не похожа на отца, который в юные годы был могучий брюнет, великан! Теперь, правда, голова сделалась лысой, как булыжник, – увы, все проходит!
Некоторые вспомнили, что мать этой Иры, изумительно красивая женщина, хотя столь же белесая и худосочная, как ночная бабочка мотылек, была когда-то насильно уведена принцем Андроником из дома живого мужа. Как будто женщин ему в целой империи не хватало!
– А вот эта, – сказал несколько уязвленный невниманием к себе Ангелочек, – и есть знаменитая Манефина племянница, Теотоки… Почему все-таки знаменитая? О! О-хмо-хмо…
Никите все же удалось вытрясти из своего однокашника, что он подразумевает под словами «о-хмо-хмо». Теотоки, оказывается, в цирке по канату ходит, она и наездница, она и голая пляшет… Так говорят! Никто, правда, не может сказать, что он своими глазами видел…
– Как же… – удивился Никита. – Как же всесильная Манефа терпит? Как же весь ваш род Ангелов…
– Э, брат! – Ангелочек налил себе и однокашнику по новой. – Сразу видать, что ты провинциал!
Никита не обиделся, он озирался, разглядывая убранство пиршественной залы, «триклиния» в древнеримском стиле, высокие торшеры, скамьи со спинками из резной слоновой кости, стены, сплошь обитые золотыми обоями, где было оставлено место для двух картин – «Пир олимпийцев» и «Брак в Кане Галилейской». Персонажи там, правда, были похожи на лягушек, а разные мытари и фарисеи – на пиявок с ножками, но все было как в царских дворцах.
Гости злоупотребили хиосским и ливадийским, хотя туда и подливали обильно подогретую ключевую воду. Слуги понесли к некоторым гостям облегчительные амфоры и перышки, чтобы глотку пощекотать, а иных гостей прямо под руки повели отдохнуть.
– Пойдем, Ира, – сказала, вставая, племянница Манефы. – Терпеть не могу перепивших мужиков. Пойдем ко мне наверх, ты мне расскажешь про чудотворца из Львиного рва, ты же была сегодня в свите у Марухи. А я покажу тебе новые па из танца майюмы.
Услышав о танцах, Ангелочек с трудом поднялся и стал просить, чтобы и его взяли наверх, и его однокашника…
– Вашего однокашника я еще не знаю, – ответила Теотоки, с любопытством взглянув на учтиво склонившегося Никиту. – Но думаю, что, как воспитанный человек, он не станет набиваться к девушке в покой. Что же касается вас, всещедрейший Михаил, вы просто не взойдете ко мне по лестнице. Там восемнадцать ступеней!
Мисси принялся уверять, что взойдет, но смеющаяся Теотоки мизинчиком толкнула его в грудь, и доблестный отпрыск фамилии Ангелов повалился на руки своему однокашнику. А к Теотоки подбежал толстенький комнатный евнух, взял ее шаль, сумочку, веер, и обе красавицы скрылись вслед за ним.
10
Когда Манефин малый ужин перевалил за пятый час, сама она успела сбегать в свою опочивальню – передохнуть. Гости – кто облегчился безо всяких церемоний от излишков выпитого и съеденного, кто, наоборот, подзаправился. Искусные слуги, не выдворяя гостей, произвели уборку триклиния. Явилось много новых приглашенных.
Во-первых, это был великий судия Иоанн Каматир, про которого говорили, что глаза у него не выражают ничего, кроме честности. Юрист он был никакой, судейская мантия его угнетала. Он и не скрывал, что ходит к Манефе в чаянии получить более выгодный чин.
– Хочу быть патриархом, – с надеждой заявлял он.
– Да как же, мой отец, – возражала достойная матрона. – Надо предварительно пройти много монашеских степеней. А ты человек сугубо светский, у тебя и жена молоденькая.
– У! – не сдавался Каматир, выпучивая предельно честные глаза. – А как же исторический патриарх Фотий? Тот, когда императору это было угодно, утром был рукоположен во диакона, в обед стал священником, затем епископом, а к ужину достиг и патриарха.
– Что ты мелешь! – Манефа даже отстранилась от великого судии. – Послушай, что ты мелешь?
– Не мелю, – обиделся Каматир. – А моя бы жена, в качестве компенсации, приняла какую-нибудь столичную обитель, небольшую. Стала бы там игуменьей. Я с нею уже говорил…
Но Манефу это удручило еще больше.
– Что ж, по-твоему, у нас монастырями торгуют? А куда ж глядишь ты, великий ты судия? Да и чему вас в той философской школе у студитов тогда учили? У вас получается что ни слово, то грех!
И окончательно сразила своего протеже:
– Ну, допустим, было это с Фотием, было. Но ты же сам сказал, что Фотий был исторический патриарх. А теперь история кончилась!
Акоминат, старавшийся все наматывать на свой кандидатский ус, понял: благочестивая Манефа хотела сказать: прошли, мол, те исторические времена. По простоте же души выразилась куда как философичнее – кончается сама история Второго Рима!
А великий судия, расстроенный вконец, обратился к пиршественному столу; поминутно вздыхая и повторяя: кончилась история! – он подцеплял острием ножа то маринованный лимончик, то засахаренный гриб. Разговоры же шли все о том же: что теперь будет с теми, кто в ожидании успения монарха самочинно захватил всякие теплые местечки.
– А правда ли, был заготовлен указ о возведении верховного паракимомена в ранг протосеваста?
– Что вы, что вы! Вас просто плохо информировали. Не протосеваста, а сразу на два ранга выше. В кесари!
– Ox! – вздохнула впечатлительная публика, и все стали смотреть на великого судию, ведь это именно он находился тогда близ императорского ложа. Каматир ощутил, что он нужен обществу. Не торопясь осушил свой фиал, выпростал руки из-под мантии, огладил внушительную бороду.
– Истинно так, – склонил он свой судейский взор. – Указ о возведении первого министра в ранг протосеваста был высочайше оклепан, или освящен, золотой императорской печатью еще накануне. Но не опубликован из-за известных вам событий…
– Это все козни Марухи! – завизжал кто-то. Болельщики (если применить тут спортивный термин) царицы Ксении-Марии и ее команды готовы были сцепиться с болельщиками порфирородной.
– Боже! – опечалился Никита Акоминат, которому дворцовые нравы были непривычны. – Что ж они грызутся, как собаки?
Великий судия хотел еще вдобавок разъяснить, что, если бы даже верховный паракимомен был сразу возведен в кесари, это было бы законно, потому что по рождению он царевич. Но его уже никто и не слушал, каждый спешил доказать свое. Расстроенный Каматир обратился к экзотической закуске. А всеобщий разговор, вернее, крик крутился вокруг появления праведника из Львиной ямы.








