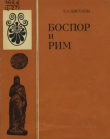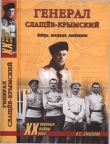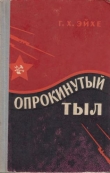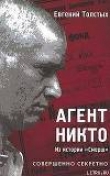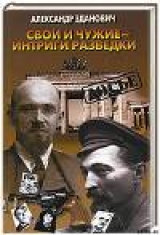
Текст книги "Свои и чужие - интриги разведки"
Автор книги: Александр Зданович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц)
Реакции МВД не последовало, и проект военных властей остался только на бумаге.
Клембовский предпринял также попытку побудить своих коллег в Главном управлении Генштаба к созданию специальной комиссии по выработке новых инструкций по контрразведке, а также программ обучения будущих сотрудников КРО.
В ГУГШ он нашел поддержку и понимание. Более того, в отделе генерала-квартирмейстера предложили комиссионно разработать такие базовые документы, как положение о контрразведке на театре военных действий и аналогичное для тыловых военных округов.
О своих намерениях руководство ГУГШ проинформировало военного министра и настаивало на скорейшем утверждении им решения о формировании комиссии.
Комиссия начала свою работу 7 апреля 1917 года. К этому времени проекты всех необходимых документов уже имелись, и предстояло их обсудить постатейно. Поскольку серьезных изменений никто из присутствовавших на заседаниях не внес, то с незначительными поправками проекты и были единогласно приняты.
Согласно новым документам, учреждалась контрразведывательная часть (КРЧ) штаба Верховного главнокомандующего.
Определяя ее в качестве головного органа на всем театре военных действий, Верховный главнокомандующий, однако, не обеспечил ее необходимым кадровым потенциалом. Как справедливо замечено исследователями истории отечественной контрразведки, при штате КРЧ, состоящем из двух офицеров и такого же числа служащих, говорить о реальном и эффективном управлении аппаратами КРО пяти фронтов говорить не приходится.
В таких условиях многое зависело от личных качеств руководителей контрразведки действующей армии. Генерал Алексеев всемерно поддерживал вновь назначенного инициативного и профессионально подготовленного начальника КРЧ Генерального штаба полковника Терехова.
До начала мировой войны Терехов несколько лет работал по линии разведки и контрразведки в штабе Варшавского военного округа под руководством генерала Батюшина. Когда же начались боевые действия, он возглавил борьбу со шпионажем во 2-й армии. Это ему принадлежала идея создания диверсионных групп для работы в тылу противника. Перейдя на службу в Ставку, Терехов сконцентрировался на развитии зафронтовой контрразведки.
С Владимиром Орловым они были знакомы еще по Варшаве, а затем встретились в Ставке, где вместе занимались раскрытием германских и австрийских агентов.
Упомянутый нами ранее историограф высшего полевого командования русской армии Михаил Лемке писал: «О Николае Васильевиче Терехове, который, собственно, и ввел в дело Орлова, последний отзывался, как о человеке, фанатично преданном своему делу».
Полковник оставался руководителем контрразведки действующей армии до февраля 1918 года, вплоть до расформирования Ставки. Затем следы его теряются. По крайней мере, в спецслужбах белых армий он не проявился, нет также сведений, что он работал по линии контрразведки и в эмиграции.
Однако вернемся к маю 1917 года. Мы уже говорили, что штат контрразведки в Ставке был мизерным и Терехов с особой тщательностью отбирал себе кадры. Многие офицеры откровенно побаивались переходить на службу в КРЧ, видя неустойчивость власти Временного правительства. Они насмотрелись в предыдущие месяцы, как разного рода комиссары (и петроградские, и местные) устраивали охоту за контрразведчиками царской армии. Повторить их печальный опыт мало кто желал. Лишь несколько человек удалось отобрать Терехову, а заместителем к себе он предложил пойти Владимиру Орлову.
Таким образом, с лета 1917 года наш герой официально становится сотрудником спецслужбы и получает возможность реализовать некоторые свои идеи в сфере борьбы со шпионажем.
Находясь на ответственной должности, он получил доступ ко всем, в том числе самым секретным делам контрразведки. Ему же доставлялись обзоры зарубежной и российской печати. Надо полагать, он прочитал все, что писалось о деятельности комиссии генерала Батюшина и о нем самом. Фальсифицированные данные, приводимые в газетах, возможно, и натолкнули его на мысль о допустимости и даже целесообразности использовать метод порочащих противника документов и организацию публикаций в прессе в борьбе с ним. В борьбе не на жизнь, а на смерть, в борьбе за ту Россию, какой он себе представлял, исходя из своих монархических воззрений.
В годы эмиграции активные мероприятия стали для Орлова ключевыми в его деятельности. Но об этом мы еще расскажем.
На службе у большевиков
Период между двумя революциями менее всего отражен в биографии Орлова. Нам удалось найти в Государственном военно-историческом архиве небольшое дело с перепиской о нем между Генеральным штабом и Ставкой. Судя по сохранившимся документам, военные чины и правительственные комиссары не забыли его успехов. За свою добросовестную службу и вклад в борьбу с неприятельским шпионажем во время войны Владимир Григорьевич удостоился высоких наград: орденов Св. Анны, Св. Станислава, Св. Анны и Св. Владимира с мечами и с бантом. Но помнили также и об участии Орлова в комиссии генерала Батюшина, поэтому конкретных дел заместителю начальника контрразведки из Петрограда не поручали, а на фронте, в основном, проходили организационно-кадровые мероприятия. По крайней мере, о разоблачениях Орловым шпионов в ходе боевых действий в период нахождения у власти Временного правительства ничего не известно. Не обремененный особо служебной нагрузкой, бывший следователь имел возможность привести в надлежащий порядок значительно разросшийся за военные годы архив.
Как не раз заявлял сам Владимир Григорьевич, он придерживался монархической идеи и готов был бороться за нее до конца. Перед царем Орлов преклонялся, но ненавидел отдельных лиц из его окружения.
Вот как, к примеру, он описал свою последнюю встречу с российским самодержцем: «Я никогда не забуду этот день – 8 марта 1917 года, ознаменовавший начало крушения монархии. Мы все были с царем в Могилеве. Он уже отрекся от престола… Начальник штаба направил курьеров к нам на квартиры с распоряжением собраться в зале генеральского дома. Очень скоро зал был переполнен: там были все офицеры штаба, строевики и мы, сотрудники разведки… Я видел, как закаленные, испытанные воины предавались горю, и сам плакал. В печальных глазах царя тоже стояли слезы».
Монарх ушел – да здравствует монарх, или, что казалось более реальным, военный диктатор!
В опубликованных у нас в стране и за рубежом исследованиях о деятельности враждебных Временному правительству организаций, таких, как «Военный отдел Республиканского центра», «Военная лига», «Союз офицеров армии и флота», по преимуществу также монархической направленности, фамилии Орлова мы не находим. И это при том, что основные силы указанных организаций находились в Могилеве, в Ставке ВГК, где он и служил.
Можно допустить, однако, что Орлов умело зашифровал свою принадлежность к различным «союзам» и «лигам». До сих пор неизвестен, к примеру, состав особой конспиративной группы внутри «Союза офицеров», основной целью которой, как утверждал позднее Александр Керенский, было установление военной диктатуры путем переворота. Подтверждение наличия такой группы мы находим на страницах «Очерков русской смуты», написанных Антоном Ивановичем Деникиным. Однако даже он не назвал ни одной фамилии. Известно, что «конспиративная группа» готовила почву для того, чтобы генерал Алексеев, не раз протежировавший Орлову, мог стать диктатором. Но в мае 1917 года Алексеева снимают с поста главкома, и он уезжает в Петроград, где находится вплоть до большевистской революции. Скорее всего, уход генерала заставил Орлова затаиться, а в декабре перебраться в Петроград.
Орлов навестил своего патрона в столице за несколько дней до отъезда последнего на Дон и получил от него последнее поручение – создать в Петрограде, Москве и некоторых других городах подпольную разведывательную организацию, способную обеспечить формирующуюся Белую армию необходимой военной и политической информацией, а также перебрасывать в донские районы и на Север, где возможно было ожидать интервенционистские войска, готовых продолжать борьбу офицеров. С благословения генерала Алексеева подпольщикам предоставлялось право установить и поддерживать связи с представителями союзнических разведывательных служб в России, прежде всего с англичанами и французами, и сообщать им добытые сведения о замыслах и реальных действиях советских властей. Выработать же план деятельности организации, подобрать необходимые кадры и наладить устойчивую связь с генералом Алексеевым предстояло самому Орлову.
Итак, начало 1918 года – это и начало нового этапа в жизни профессионального юриста. Никогда ранее ему не приходилось быть на нелегальном положении, пользоваться поддельным паспортом на вымышленную фамилию, заниматься агентурной работой, не защищать закон, а проводить акции, за которые по декретам советской власти полагалось суровое наказание, вплоть до расстрела.
После отъезда генерала Алексеева руководящая роль в подпольной офицерской организации перешла к бывшему главнокомандующему Кавказским фронтом генералу от инфантерии Николаю Николаевичу Юденичу. Ему-то Орлов и представил первоначальную схему возможной организации работы. Генерал одобрил предложение, однако с одним принципиально важным добавлением. Он порекомендовал встретиться с офицерами английской и французской армий, которые занимались вопросами разведки и контрразведки в военных миссиях союзников России. Некоторых из них начинающий подпольщик знал еще по работе в контрразведке Ставки, о других слышал как о профессионалах своего дела. Без контакта с представителями Антанты затеваемая организация совершенно не мыслилась. Война с Германией и Австро-Венгрией продолжалась, а пришедшие к власти большевики, по крайне мере их вожди, рассматривались не иначе, как исполнители планов врага по развалу России и, следовательно, поражению стран «сердечного согласия» в целом.
Итак, в тесной связке с разведкой союзников Орлов начал действовать.
Первый шаг – легализация. К январю 1918 года этот вопрос удалось решить. В Петрограде появился польский революционер Болеслав Иванович Орлинский, а следователь по особо важным делам при Ставке ВГК бесследно исчез. Тем же, кто вздумал бы его искать, предусмотрительно запущенный слух подсказывал – уехал, мол, на Украину навестить больную жену и детей. Пришлось, однако, на всякий случай изменить внешность – отпустить бороду и усы.
Главной задачей Орлова было устроиться на службу в какое-либо советское учреждение и обеспечить себе тем самым легальный статус, гарантирующий от случайных арестов, обысков и прочих массовых мероприятий, проводившихся в эту смутную пору в целях борьбы с контрреволюционерами. Одновременно солидное должностное положение давало возможность получить доступ к нужной информации, завести полезные знакомства в среде чиновников из властных и партийных структур.
В своей книге Орлов рассказывает, что начал внедрение в советский аппарат с получения рекомендательных писем от своего старого друга Б. «Я не осмеливаюсь, – писал он, – назвать его фамилию, чтобы не скомпрометировать его, учитывая то положение, которое он занимает теперь в Москве».
Эта ремарка – не более чем попытка автора продемонстрировать читателям, прежде всего соотечественникам-эмигрантам, свое отношение к канонам офицерской чести (мол, друзей, даже ставших по другую сторону баррикад, не продаю).
Для советских органов безопасности никакого труда не составило бы «вычислить» таинственного друга Орлова. Достаточно было провести небольшой поиск в архиве Совета народных комиссаров (СНК) или, еще проще, – допросить управделами Совнаркома Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича, задав единственный вопрос: «Кто рекомендовал вам товарища Орлинского?
Почему это не было сделано по горячим следам, сразу после бегства Орлова из Петрограда в 1918 году, точно неизвестно. Возможно, что ВЧК не досмотрела. Но, скорее всего, не хотели поднимать излишний шум, поскольку беглец был в близких отношениях с Николаем Николаевичем Крестинским, комиссаром юстиции Союза коммун Северной области, и даже с Феликсом Эдмундовичем Дзержинским, который к моменту ухода Орлова в Финляндию лишь два с небольшим месяца как вновь вернулся на должность председателя Всероссийской ЧК после отставки в связи с прямым участием чекистов, пусть и левых эсеров, в убийстве германского посла. К тому же финские газеты сообщили, что Орлов убит нашими пограничниками при попытке нелегально пересечь охраняемую прикардонную зону.
А вот почему не провели расследование после появления книги Орлова в 1929 году, остается загадкой. Ведь Владимир Бонч-Бруевич после кончины Ленина фактически отошел от активной государственной и партийной работы и мог быть допрошен без особого ущерба для имиджа политической элиты.
Анализ сохранившихся документов из знаменитого архива Орлова и других материалов позволяет нам почти со стопроцентной уверенностью утверждать, что отрекомендовал Орлова-Орлинского для устройства на советскую службу родной брат тогдашнего управделами СНК генерал Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич, неутомимый борец с немецкой агентурой в годы Первой мировой войны, всячески способствовавший деятельности следователя по особо важным делам и комиссии Батюшина. В своих воспоминаниях под заголовком «Вся власть Советам», напечатанных в 1958 году, генерал, естественно, не упомянул Орлова ни разу, а свои контакты с известным агентом английской разведки Сиднеем Рейли (о котором речь впереди) существенным образом исказил, поскольку отрицать их было невозможно после того, как британский шпион опубликовал свои воспоминания. При этом следует иметь в виду, что литературную запись воспоминаний М. Д. Бонч-Бревича осуществлял известный писатель-идеолог Илья Кремлев, выправивший текст в нужном плане.
Но вернемся к В. Г. Орлову. Из аппарата Совнаркома он был направлен в распоряжение первого наркома юстиции Петра Ивановича Стучки и встречен последним, что называется, с распростертыми объятиями. У наркома с кадрами, тем более имеющими университетское юридическое образование, было туго, и назначение Орлова-Орлинского состоялось без всякой оттяжки, связанной с проверкой нового сотрудника. Да и что проверять – звонка из Совнаркома по тем временам хватало с лихвой.
И вот Орлов во главе 6-й уголовно-следственной комиссии. В первые месяцы советской власти различных следственных органов в столице существовало почти десяток. Работали они независимо друг от друга, зачастую параллельно, без четкого разграничения предмета ведения. Совнарком даже вынужден был принять специальное решение по данному поводу, в котором говорилось следующее: «Ознакомившись с положением дел в разных следственных комиссиях, СНК в целях упорядочения борьбы с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией постановляет: «В Чрезвычайной комиссии концентрируется вся работа розыска, пресечения и предупреждения преступлений, все же дальнейшее ведение дел, ведение следствий и постановка дела на суд предоставляется следственной комиссии при трибунале».
Однако на практике выполнить это решение в первое время не удавалось. Данное обстоятельство здорово помогало Орлову – он мог, не работая официально в ВЧК (а после ее переезда в Москву в Петроградской ЧК), быть в курсе отдельных проводимых ею оперативных и следственных действий, добиваться передачи некоторых дел из Чрезвычайной комиссии в свою Комиссию, спасая тем самым попавших под подозрение своих соратников от возможного расстрела.
Чтобы еще более приблизиться к чекистам, Орлов в различных докладных записках старался поднять в глазах начальников значимость для молодой Республики Советов своей работы. Для примера приведем выдержку из одного составленного им документа: «Производя следствие по этого рода делам (спекулятивным и мошенническим. – А. 3.) – я все время обнаруживал систематическую утечку банковских ценностей за границу и устанавливал лиц – обычно крупных капиталистов и банкиров, кои принимали все меры к сокрытию своих капиталов за границу. Заграничные капиталисты шли им в этом отношении широко навстречу и покупали у русских банкиров аннулированные процентные бумаги и другие банковские ценности задним числом, чтобы своевременно от имени своих правительств предъявить их к оплате России. Считая, что подобного рода деяния являются преступлением государственным, я же вправе обследовать только преступления уголовные, все сведения по этого рода делам направлял по принадлежности Чрезвычайным комиссиям по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией». В ВЧК должны были по достоинству оценить уровень понимания проблем опытным следователям.
Но пока чекистов удовлетворяла работа на поприще борьбы со шпионажем, контрабандой и утечкой валютных ценностей за границу созданного в январе 1918 года Контрразведывательного бюро ВЧК. История возникновения бюро, конкурирующего с руководимой Орловым уголовно-следственной комиссией, была такова.
По мысли ее создателей, изложенной в постановлении Совнаркома от 7 (20) декабря 1917 года, Всероссийская Чрезвычайная комиссия учреждалась с целью борьбы с контрреволюционными проявлениями и, прежде всего, саботажем. Функция контрразведки на Комиссию не возлагалась. По сравнению с другими угрозами для новой власти шпионаж был далеко не на первом месте.
У председателя ВЧК Феликса Дзержинского, как, впрочем, и у других большевистских руководителей, видимо не сложилось понимание того, что враждебные проявления могут инспирироваться, финансироваться и даже непосредственно организовываться иностранными агентами, включая и сотрудников разведслужб тогдашних союзников России в войне.
Кроме того, принимая постановление, в СНК исходили из того, что органы военной контрразведки в стране имелись, хотя особого доверия к ним большевики и не испытывали. Всем была очень памятна развернутая контрразведкой в июле 1917 года кампания по обвинению большевиков в агентурной деятельности в пользу немцев.
Как бывший руководитель Военно-революционного комитета, установившего через своих комиссаров контроль за всеми контрразведывательными подразделениями, Дзержинский имел в виду их скорую реорганизацию или полную ликвидацию вместе со старой армией. Но это должно было произойти только после заключения мира и демобилизации армии.
А пока продолжалась война. Газеты пестрели сообщениями о происках германских шпионов и в Совнаркоме посчитали целесообразным не трогать систему контрразведки. Однако разговоры на эту тему ходили, и кое-какие сведения даже просачивались на страницы периодических изданий.
В начале января 1918 года, прочитав сообщение корреспондента о якобы намечаемом создании при СНК отделения разведки и контрразведки, на Гороховую, 2, где помещалась тогда ВЧК, явился неизвестный охране человек, который настаивал на личной встрече с председателем.
Предполагая, что беседа может и не состояться, посетитель предусмотрительно имел при себе запечатанное в конверт письмо на имя Дзержинского, помеченное грифом «Совершенно секретно».
Сейчас нет возможности точно установить, принял ли визитера в тот день перегруженный срочными делами Феликс Эдмундович, но письмо оказалось в его руках и сохранилось в архиве Федеральной службы безопасности.
Автором письма был некий Константин Шевара, крупный агент царской разведки и контрразведки. В первой половине своего послания Шевара подробнейшим образом изложил свою оперативную биографию, чем, вероятно, надеялся заинтересовать главу набирающей силу ВЧК.
Оказалось, что он начал действовать на поприще спецслужб еще за пять лет до Первой мировой войны. В качестве секретного агента Шевару завербовал начальник разведывательного отделения штаба Варшавского военного округа генерального штаба полковник Николай Батюшин и использовал его для работы за границей. В период войны Шевара активно трудился над подготовкой и заброской в немецкий тыл русской агентуры, неоднократно сам выполнял рискованные задания за линией фронта по приказанию того же Батюшина. В предреволюционный период руководство переориентировало его борьбу с немецким шпионажем. Так что Шевара был достаточно подготовленным профессионалом с почти десятилетним стажем секретной деятельности.
Отдавая себе отчет в том, что адресует письмо не просто председателю ВЧК, а одному из виднейших большевистских деятелей, Шевара не преминул упомянуть, что свои политические воззрения считает схожими с марксистскими.
После таких заверений Шевара предложил Дзержинскому свои услуги, указав, что может «принести несомненную пользу не только внутри Советской Республики, но и вовне…»
Письмо с грифом «Совершенно секретно» и личность его автора, несомненно, заинтересовали председателя ВЧК. Привлекло внимание и место последней службы Шевары – он был секретным сотрудником по особо важным поручениям при штабе 42-го армейского корпуса, расквартированного в Финляндии. Обстановка в бывшей провинции Российской империи в то время была крайне запутанной. Вооруженная борьба между финскими красной и белой гвардией, вмешательство германских войск, шведское влияние, брожение в русских гарнизонах и на базах флота, разворовывание военных запасов и стратегического сырья, и все это в непосредственной близости от революционного Петрограда. Поэтому предложение Шевары об организации контрразведки (в том числе и внешней, в Финляндии) в интересах ВЧК, попало на благодатную почву. Совнарком требовал информации, а своих профессионально подготовленных кадров у Дзержинского еще не было.
Вполне вероятно, что поначалу Дзержинский, стремясь добиться конспиративности, не посвятил в существо начинаемого дела даже своих соратников по президиуму ВЧК. По крайней мере, ни в одном из сохранившихся протоколов заседаний президиума нет даже упоминания о создании контрразведывательного органа в структуре ВЧК.
Судя по обнаруженным в Центральном оперативном архиве ФСБ разрозненным документам, мы можем утверждать, что Контрразведывательное бюро ВЧК (КРБ) начало функционировать не позднее 13 января 1918 года, поскольку в этот день Шевара уже докладывал председателю комиссии о некоторых проведенных мероприятиях.
Перечисленные в докладе акции КРБ показывают, что Дзержинский, в принципе, нашел правильное применение чекистской контрразведке. Бюро предпринимало попытки выйти на иностранный и, что было важно для ВЧК, белогвардейский шпионаж путем обследования деятельности, а также арестов контрабандистов и противостоящих новой власти представителей буржуазной среды. Свою активность Бюро демонстрировало не только в самом Петрограде и его окрестностях, но и в Финляндии, куда направлялась его агентура.
Негласное обследование отдельных лиц и различных организаций, обыски, аресты – вот средства, которыми пользовалось Бюро. Как видим, они выходят за рамки, в которых действовали органы военной контрразведки. Более того, Бюро имело право требовать от контрразведчиков армии и флота выполнения своих заданий. К примеру, в Гельсингфорсе сотрудники Бюро во главе с помощником начальника Юрием Ариным негласно установили, что некий Верещагин за крупное вознаграждение организует освобождение арестованных, кем бы этот арест ни был произведен. Не имея достаточно своих сил, Арин обязал контрразведывательное отделение Свеаборгской крепости установить наблюдение за Верещагиным и донести о результатах.
При малочисленности персонала других подразделений ВЧК в начале января 1918 года Бюро располагало штатом не менее чем в 35 человек – именно столько удостоверений на право ношения оружия выдал лично Дзержинский начальнику контрразведки Шеваре. 25 агентов Контрразведывательного бюро ВЧК имели специальные удостоверения без указания должности, что было необходимо для конспирации.
Вскоре начальник КРБ представил Дзержинскому подробный доклад по организации контрразведки в более широком масштабе. Предусматривалось усилить работу в столице, развернуть агентурную группу в Москве, создать аппарат наружного наблюдения, независимый от уже функционировавшего в ВЧК, а также насадить специальных агентов в некоторых городах Германии, Польши и в оккупированных немцами областях.
По прикидкам Шевары, финансовые затраты ВЧК составили бы чуть больше 80 тысяч рублей в месяц.
Реакцию Дзержинского на доклад мы не знаем, поскольку каких-либо его резолюций на документе не имеется. Но поскольку вербовка агентуры для КРБ была развернута, как видно из сохранившегося доклада Шевары, можно предположить, что принципиальное согласие он получил.
История, как известно, не терпит сослагательного наклонения. Поэтому и мы не станем гадать, каких результатов достигло бы КРБ во главе с Шеварой, однако заметим: шел он верным путем, апробированным в своей основе еще царской контрразведкой. Так, шеф КРБ предпринял попытку выйти на немецкую агентуру через монархистов германской ориентации, в частности, с помощью небезызвестного доктора «тибетской медицины» Бадмаева, крестника императора Александра III, близкого в свое время к Распутину и императрице Александре Федоровне. Шевара также восстановил связь со своим бывшим начальником, руководителем контрразведки Северного фронта, а затем в Финляндии полковником Генштаба Иваном Чернышевым.
Изучая отрывочные данные о деятельности Шевары, мы поначалу не могли найти убедительного объяснения внезапному исчезновению его с чекистского горизонта, отсутствию в архивных фондах документов делопроизводства Контрразведывательного бюро ВЧК. Возникали различные версии, например, можно было предположить негативную реакцию членов коллегии и президиума Всероссийской ЧК на инициативу Дзержинского, привлекшего на ответственную должность человека с неясными политическими взглядами. Ведь коллегия ВЧК 21 февраля 1918 года вынесла решение о принятии на работу «только партийных товарищей, а беспартийных как исключение». В соответствии с этим решением, все новые сотрудники должны были проходить собеседование в специально организованной комиссии.
Разрешить наши сомнения мог только дальнейший поиск. И вот, изучив более тысячи пожелтевших от времени папок в архивном фонде уголовных дел, мы нашли материалы на некого Шеваро-Войцицкого Константина Александровича. С первой страницы стало ясно – это и есть первый начальник контрразведки ВЧК. Что явствует из дела? Оказывается, отряд матросов для проведения операции в Петрограде под начало Шеваре был отдан от Наркомата по военным делам во главе с Александром Поляковым. Не понимая, естественно, ничего в агентурной работе и в контрразведке вообще, начальник отряда и его ближайшие соратники заподозрили руководителя КРБ в контрреволюционном заговоре и арестовали его. В адрес Дзержинского, только что переехавшего с аппаратом ВЧК в Москву, пошла телеграмма: «Шевара нас продал, факты на лицо, жду экстренного разрешения принять самые суровые крайние меры, как к нему, так и к его приспешникам и старым охранникам… Он желает меня убить… Ваш Поляков».
Не дождавшись ответа, группа Полякова сама, без помощи Петроградской чрезвычайной комиссии, провела в течение двух дней следствие, и Шевара был ликвидирован якобы при попытке к бегству. Чтобы подчеркнуть свою решимость «искоренять гидру контрреволюции», Поляков позднее рассказывал, что раненного в голову Шевару добили сорока винтовочными выстрелами в упор.
Обстоятельства дела вызвали сомнения у председателя ВЧК, и он дал указание секретарю Комиссии Якову Петерсу собрать все возможные материалы о Шеваре и обстоятельствах его смерти, а также снять подробные показания с Полякова.
По каким-то причинам разбирательство было начато только 17 июля.
Следователь ВЧК Фогель, опрашивая Полякова, встал на сторону последнего, удовлетворившись его объяснениями. Он даже не обратил внимание на явную подделку подписи Шевары под протоколами допросов и на тот факт, что Поляков все отобранные у начальника КРБ документы передал бывшему заместителю председателя ВЧК Александровичу. Как известно, последний к этому времени был расстрелян, а бумаги бесследно исчезли.
Вместе со смертью первого контрразведчика ВЧК прекратило свое существование и КРБ. Теперь ясно, почему мы не могли практически ничего узнать о двухмесячной деятельности аппарата Всероссийской ЧК по борьбе с немецким шпионажем.
Каковы бы ни были результаты инициированного Дзержинским разбирательства, он понимал – Шевару не воскресить и не восстановить начатые им мероприятия по проникновению в немецкую агентурную сеть. А германская угроза сохранялась. Председатель ВЧК видел ее в экспансионистских планах верховного командования Германии, в том цементирующем и организующем влиянии, которое мог внести «немецкий фактор» в среду противников новой власти. Для такого заключения у Дзержинского были реальные основания.
Еще в первые месяцы существования Комиссии чекисты столкнулись с целым рядом подпольных монархических и чисто офицерских организаций, однозначно ориентированных на Германию. Немецкие штыки для них являлись наиболее подходящей силой, способной восстановить «порядок и спокойствие» в бывшей империи.
К середине февраля немцы практически завершили подготовку к оккупации Белоруссии и Украины. Как докладывал кайзеру главнокомандующий Людендорф, целью операции было нанесение серьезного удара по большевикам, укрепление внутриполитического положения в Германии и высвобождение войск для достижения победы на Западе.
Нависшая германская угроза сблизила в некоторой степени взгляды руководителей ВЧК и военной контрразведки на необходимость усиления борьбы с немецкой агентурой.
К этому их призывал и декрет СНК, озаглавленный «Социалистическое отечество в опасности», где прямо говорилось об активизации германских шпионов, которых предлагалось расстреливать на месте преступления.
Но прежде чем расстреливать шпионов, их надо было выявить. Одного революционного порыва здесь явно было недостаточно. Мало того, что у ВЧК не было собственного контрразведывательного подразделения, но и следствие по делам о преступлениях против новой власти (контрреволюционных) велось на самом что ни на есть низком уровне, так что установить «германский след» удавалось крайне редко. Мы можем это утверждать на основе изучения более чем двухсот следственных дел ВЧК за первые месяцы 1918 года.
Опытных кадров – вот, прежде всего, чего не доставало ВЧК. И Дзержинский продолжал их настойчиво искать.
В Финляндию, почти одновременно с секретными сотрудниками КРБ Шевары, Дзержинский направляет своего агента Алексея Фроловича Филиппова, который в свое время издавал газеты «Ревельские известия», «Русское слово», «Кубань» и «Черноморское побережье» и слыл скандальным газетчиком. В журнальных кругах за ним закрепилась кличка Банкир, поскольку он обладал обширными связями среди финансовых воротил в России и за границей.