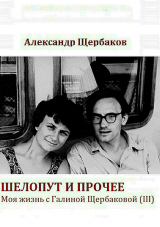
Текст книги "Шелопут и прочее"
Автор книги: Александр Щербаков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
Александр Сергеевич, прочитала в одно дыхание ваши заметки в «Комсомольской правде», поплакала немножко, вспомнив весь ужас ухода Г. Н. …Как жаль, что мы бываем в жизни глухи и бесчувственны, и жизнь проходит мгновенно.
О. Б.
(E-mail, 28 февраля 2014)
Александр Сергеевич, не поверите, но я часто вспоминаю вас, совершенно без повода, просто по каким-то ассоциациям. И всегда с очень теплым чувством. …Между прочим, без вашего доброжелательного отношения к людям я бы, очень вероятно, не задержался бы в этом ремесле.
С. К.
(E-mail, 23 апреля 2013)
Ремесло – мелкое ручное производство, основанное на применении ручных орудий труда, личном мастерстве работника, позволяющем производить высококачественные, часто высокохудожественные изделия. …В русской статистической литературе нередко все ремесленники XIX–XX вв. назывались кустарями.
(Википедия)
Первая глава
I
«Когда я поняла, что горя мне не избежать, я сказала: тогда пусть это будет…»
Неважно, что́ будет. Сама эта фраза беспрепятственно, как давняя жилица, а то и как хозяйка, вселилась в мое сознание. Как это у поэта: что-то слышится родное… А обнаружил я ее совсем вот-вот, разбирая в доме очередную бумажную залежь, в набросках Галины к очерку об Израиле, так никуда и не вошедших. С этого изречения со всей очевидностью должна была начаться задуманная публикация. Но потом в ее планах что-то почему-то переменилось. По неведомой причине эта фраза, можно сказать, заворожила меня, я бросил все прочее и, словно идя на ее поводу, стал собирать новый сборник сочинений Галины с этим зачином. В него уложились и ее известные работы разных лет, и только что найденные упомянутые мной наброски.
Не знаю, суждено ли этой рукописи превратиться в книгу. (Оказалось, суждено: «Наша ИЗРАша» вышла в конце 2016 года). Но она породила еще одну мою чудаческую прихоть: возникло неодолимое и, признаю, странное желание написать собственную книгу, начав ее именно с этого: Когда я понял, что горя мне не избежать… Без малейшего понятия – а что тогда будет?
И вот я это сделал. Нет, не написал – начал…
И фраза «отпустила» меня.
…«Пострадал, старик, пострадал». Это – к тому, что так бывает: просто фраза, предложение, его звучание может необычно воздействовать на человека, отзывчивого на слово. Тем более – пишущего. Хорошо помню, как в студенческой общежитской комнате мы со смехом, впрочем, весьма уважительным, рассуждали о снизошедшей на писателя благодати, когда он в поисках максимума точности наконец отыскал нужную ему разговорную интонацию: «Пострадал, старик, пострадал». В памяти отпечаталось, что история относилась к Аркадию Гайдару. И ныне без труда я выяснил источник сведения – воспоминания Константина Паустовского. Именно тогда, в конце 50-х, была чрезвычайно популярна у молодежи его «Золотая роза».
В голове у меня, как у всякого начитанного человека, застряло немало общеизвестных шедевральных начал из русской прозы: Он поет по утрам в клозете; Тамань – самый скверный городишко; Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему; Я человек больной… Я злой человек. Непривлекательный я человек; Все говорят: Кремль, Кремль. Ото всех я слышал про него, а сам ни разу не видел…
Что касается меня, то я в своей журналистике лишь в самые ее первые годы был озабочен загвоздкой первой фразы. Позднее уже не придавал ей особого значения. И вот надо же – прямо как какой-то ультиматум: Когда я понял, что горя мне не избежать…
Что за напасть? Отчего эта внутренняя вибрация?.. Позднее я, кажется, уловил ее исток. Оборот «Когда я понял…», скорее всего, предусматривает некое действие в будущем. Между тем, удар судьбы – уход из жизни Галины – случился в прошлом. Но… мне прежде ни разу не довелось назвать то, что случилось, горем. Оно, без сомнения, было им – в жизни, но слово из этих четырех звуков до того дня не соотносилось с владевшим мной чувством.
После инсульта в 2009 году с выпадением на какое-то время речи мне пришлось восстанавливать почти всю словесную оснастку моего общения и деятельности. Этот процесс не окончен. Какие-то было утраченные, затерянные в болезни понятия то и дело возвращаются к жизни и приводят за собой забытые названия. Горя среди них не было. Имевшаяся сердечная боль к этому обозначению не подходила. Оно было чересчур пафосным (война – «всенародное горе»). Или же, напротив, излишне обиходным («представляешь, какое горе – украли кошелек»). Так долгое время и жил себе без него.
И вот оно, написанное рукой Гали, снова открылось-возвратилось как новорожденное, к тому же еще и связанное с понятием неизбежности («…горя мне не избежать»). Ведь и вправду они по своему существу неразрывны. Видимо, это меня, как стало модно говорить, и «торкнуло». Как что-то не полностью пережитое, не до конца прочувствованное и понятое.
Я невольно перенесся туда, в 2010-й, в март. Но, на удивление, это было не только больно. В этом был еще и магизм возвращения. Из сегодняшней памяти (неминуемо превращающей былую кровоточащую действительность в простую ее обозначенность, в «окорок из папье-маше») – пусть в мгновенное, но подлинное страдание. Как об этом рассказать?.. Не знаю. Что-то вроде эффекта уже виденного. Но в том уколе боли – драгоценная первозданность и воскрешение, пусть на миг, живой, а не только памятной любви. И это – парадоксально? – радостно.
В стремлении возобновить такую желанную мимолетность я как-то открыл свой электронный почтовый ящик за тот самый март. Вот два письма из него, оказавшихся по соседству.
13 марта
Здравствуй, Ириша! Я просто хочу сообщить тебе, что вчера Галю выписали из больницы. Конечно, не как здорового человека, но все же такого, что можно отпустить домой. Пока все. Приветы всем родным от меня и от Гали.
13 апреля
Дорогой Александр Сергеевич, эта статья – единственное, что я смогла написать за эти печальные дни. Понимаю, что это несовершенно, но написано с любовью, и Вы знаете, что это не громкие слова.
Первое из писем адресовано моей сестре. А второе – от Ольги Арнольд, Галиной подруги, в нем говорится о мемориальном очерке, посвященном Галине. Между ними – черта, поделившая мою жизнь на «до» и «после». Всякий раз от этого разлома щемит сердце.
Я уже писал в книге «Шелопут и фортуна» о таком психологическом эффекте электронной переписки. В ней нет волшебства энергетики пишущего, оставшейся в рукописной графике, в самой бумаге, которой касалась рука «адресанта». Но есть другое: власть сиюминутности. Отпечатка мгновения, что автоматически фиксируется при акте передачи. Этот зарегистрированный миг помимо твоей воли отправляет тебя туда, назад, как если бы твой обычный телефонный разговор неизвестно для чего запечатлели на скрижалях… истории. Твоей истории. Его безыскусность, обиходность без малейших притязаний продлиться хоть на секунду после говорения, другими словами – документальность способны иногда перевернуть мою душу.
Не могу разделить чувство людей, «обижающихся» на бездушие, а то и прямо на антигуманность Е-мэйла и всяких служб мгновенных сообщений. Например, известный литературный критик и публицист Валентин Курбатов сказал: «Электронное письмо… Если вы напишете электронным образом «возлюбленная моя», компьютер скривится и подчеркнет; он не сможет вынести этого. И «возлюбленная» не будет возлюбленной в компьютерном переводе. Эти буквы мертвы, они всегда сквозят чем-то «сквозящим», нечеловеческим смыслом».
Наберите на компьютере сочетание «возлюбленная моя» и пошлите его куда-нибудь по Е-мэйлу – и убедитесь, что все эти страхи не более чем красивости стиля. Я все это на всякий случай проделал, а сейчас повторю: е-мэйловские эпистолы способны возродить казалось бы отжившие чувства.
Перечитал письмо Ольги Арнольд – и въяве возникла идея, призрак которой мелькнул еще при слиянии в сознании горя и неизбежности. Представьте: я буду бродить в будущей книге по своему почтовому архиву. На авось. В надежде снова столкнуться с подлинными, не скукоженными в памяти эмоциями возвращения.
Однако написал «на авось» и… уличил себя в неправде. Точнее – в «не совсем правде», в лукавстве. Уж я-то знаю себя. Все попавшее в орбиту рассудка он в конечном итоге попытается выстроить в угодном ему порядке. Не раз пытался вырваться из этой умственной тюрьмы. Мол, давай улетим! В непринужденное, детское парение: пусть будет как будет. Но нет, мы не вольные птицы. Однако попытка не пытка…
…По каким-то неведомым мне техническим причинам почта в моем компьютере сохранилась лишь с 2007 года. Бо́льшую ее часть составляет каждодневная житейская текучка. Но бывало и иное. Итак…
Вот какая «телеграмма» ушла от меня в 2011 году. «Алена, может быть, тебе пригодится эта цитата: «Как и все настоящие писатели, Довлатов немало писал о смерти». (Лев Лосев)». И еще – через три с небольшим месяца: «В Москве недавно был выдающийся польский кинорежиссер Кшиштоф Занусси. В интервью на телеканале «Культура» он сказал, что у искусства, по существу, есть лишь две достойные темы: любовь и смерть».
Примерно за год до этих депеш вот что я написал нашей стародавней ростовской подруге.
Здравствуй, Юля! Спасибо за твое теплое письмо. Я действительно в основном занимаюсь Галиными делами. Вышла собранная мной книжка ее пьес и сценариев с моим предисловием. Мне очень дорога начавшаяся серия больших книг (две уже вышли – «Единственная, неповторимая. Большая книга рассказов» и «Чисто русское убийство. Большая книга повестей»). Недавно я сдал в издательство предисловие к сборнику «Приговоренные к любви. Большая книга романов о женщинах».
Я хочу, чтобы вышла книга о Гале как о писателе. Искал подходящего автора. И, как мне кажется, нашел. Это Алена Бондарева, литератор, занимающийся книжной тематикой, и писательница. Ей 25 лет, выпускница Литинститута. Я с ней два раза встречался, она уже разработала приблизительную структуру книги, которая мне понравилась. С издательством я предварительно поговорил и получил его принципиальное согласие. Мне очень хочется, чтобы я сумел и успел осуществить эту затею.
Работа Алены оказалась не такой простой, как нам виделось вначале. Но это другой разговор. А тогда, в 2011 году, та занималась главой «Ich sterbe» (известная история. Перед смертью больной Чехов в курортном Баденвейлере констатировал по-немецки «Ich strebe», и тут же по-русски пояснил: «Я умираю»). Она сообщила мне об этом, и я на всякий случай посылал подвернувшиеся сведения на подходящую тематику. Однако Бондарева обошлась без них. Мне нравится, с какой деликатной ироничностью, но и с глубиной понимания подходит она к этой теме.
«…Что если смерть важнее? И жизнь есть непрерывное движение к финалу, увяданию, распаду, разложению? И «аз умре» звучит так же весомо (если не более значимо), как «аз есьмь»? Тогда получается, что способ ухода (угасания, упокоения) не менее существен, чем само течение жизни.
Недаром Достоевский убивал старушку-процент-щицу топором – собаке – собачья смерть, а у Толстого хорошие люди гибли героически, плохие, считай, доживали, или, за нераскаяние свое были толкаемы хитрым Львом на самоубийство.
Чехов изводил персонажей более изощренными способами – интеллигент, доктор все-таки: то мертвую чайку в дом подкинет, то кого-нибудь в психушку упечет, а то и вовсе забудет старика в заколоченном доме под удаляющиеся мечтательные разглагольствования бар о вишневом саде. Тут, как говорится, у каждого своя система, представления, виденье и художественный метод.
<…> Но, как бы там ни было, многие герои Галины Щербаковой по тем или иным причинам отметились среди литературных покойников всех разрядов: от случайно околевших в степи старух до невинно (фактически мученически) убиенных в собственном доме девочек. Смерть в произведениях Щербаковой не система наказаний (хотя умирание как воздаяние в повестях и романах встречается достаточно часто). Но даже в такой смерти нет притягательности, которая волновала Бодлера и «проклятых» поэтов. Она ни загадочна, ни мистична и совершенно не похожа на те финальные и фатальные сцены, что описывает в своей пугающей прозе Эдгар Алан По. Редко кончина героев Щербаковой поучительна для них самих, как в морализаторских выкладках Достоевского (чаще смерть служит уроком для окружающих), она не горько иронична, как у раннего Чехова. Не похожа на изящную ловушку, подобную фантазиям Набокова. Нет в ней и той глубокой метафизической трагедийности, какую мы наблюдали на последних страницах повести об Иване Ильиче»…
«Уход из жизни для многих персонажей и их окружения, – подводит Алена итог своих наблюдений над прозой Щербаковой, – беда, но чаще не трансцендентная, а вполне осознаваемая и осязаемая».
Именно таким был и собственный уход Галины. «Весь ужас» его (см. эпиграф) был – для окружающих, но не для нее самой.
Галю при мысли о смерти больше всего страшила возможность предваряющей ее физической беспомощности, а еще, что та может случиться вне ее дома, в том числе и в лечебнице. Не раз и не два она говорила: «Главное в жизни – дойти до могилы собственными ногами». Менее чем за полтора месяца до кончины в ее жизни случились две выписки из больниц. В обоих случаях я настоял перед эскулапами, чтобы отпустили ее раньше, чем запланировано, – не мог устоять против ее – не просьбы – мольбы! И как же она оказалась права: я-то не знал, что каждый вместе прожитый день уже ценился по особой, исключительной цене, а она, по-видимому, знала.
Впрочем, похоже, в подсознании я тоже ощущал приближение главной неотвратимости. В конце лета 2009-го Галя при поддержке и помощи Володи Секачева, ее литагента, добилась зачисления меня, как послеинсультника («Экспрессивная речь недостаточно информативна, состоит из хорошо упроченных фраз, изобилует парафазиями. Номинативная функция речи затруднена. Письмо нарушено» – из больничной справки), в подопечные ЦПРиН – Центра патологии речи и нейрореабилитации. Это современный больничный центр, созданный при благой поддержке московского мэра Юрия Лужкова. Я в нем претерпел мучительную для измотанного болезнью организма «вступительную» медкомиссию. Месяца через полтора-два мне оттуда стали звонить: есть место! Позвонили раз, два, три…
Но тут я уперся. Лучше уж вообще не говорить и не писать, чем уходить из дома на несколько месяцев. Ничто не наводило меня на мысль о скором уходе Галины. Но никогда, никогда я себе не простил бы, случись мое переселение в прекрасный, даже по мировым меркам, реабилитационный центр. Вот если бы была возможность оказаться там вдвоем… А так… Моя речь, сделавшаяся, как знать, безупречной, всю оставшуюся жизнь служила бы упреком за сотворенную собственными руками самую трагическую разлуку.
…В том марте Галя не могла не ощущать дамоклова меча еще одного больничного срока. Она дисциплинированно поглощала скармливаемые мною бесчисленные таблетки и капли. Была необыкновенно тиха и спокойна. Часто задумывалась. Категорически ни с кем не общалась. Иногда, впрочем, ненадолго, ее накрывала пелена забывчивости, и она с искренним интересом воспринимала мои рассказы, к примеру, об истории тех или иных вещиц в нашей квартире.
Не помню уж по каким поводам в разговорах возникали имена нынешних или давних знакомых, и нам было всласть вспоминать что-то связанное с ними – и с нами… Время от времени я ловил ее какой-то… сложный взгляд – спокойный, но и с ироничным вызовом (как при игре «холодно – горячо», когда ищущий вплотную подходит к спрятанному предмету, однако не может обнаружить его); с таящейся в глубине то ли разгадкой чего-то, то ли, напротив, с некой загадкой…
А еще она отказывалась есть. Столь же категорично, как я недавно отрекался от предопределенной было реабилитации.
Уже потом, после всего, вспомнил… (То ли память тогда в очередной раз подвела меня, то ли она сознательно притормозилась – в охранительных целях. Как автоматические выключатели на межквартирном распределительном электрощитке.)
Был у Галины любимый дед по материнской линии, Федор Николаевич. Он остался для нее на всю жизнь непререкаемым авторитетом. И когда «дедя» умирал, рассказывала мне она, то в свою последнюю неделю наотрез отказывался от любой пищи, не взяв в рот ни крошки.
…То утро у нас было поздним. Я проснулся первым и на кухне раскладывал ее лекарства по прямо-угольничкам пластмассовой таблетницы. Они и по сию пору лежат там, приготовленные на день 23 марта: 10 разноцветных таблеток и капсул на завтрак, 10 на ужин и 5 – на обед. Услышал ее голос, необычно хриплый:
– Принеси мне соку.
Она уже сидела на диване в соседней с кухней комнате.
– Я сейчас закончу разбираться с лекарствами и померяю тебе давление.
Она кивнула и стала пить. Но едва я вернулся к своему прерванному занятию, как услышал ее шаги, странные, неровные.
– Ну, сказал же, сейчас приду, – недовольно пробурчал я.
Но было поздно. Галя ничком лежала у двери ванной, учащенно дышала, и было ясно, она не в силах подняться. Я принес тонометр, но он вообще не фиксировал давление. Пульс, донельзя слабый, был.
«Скорая» прибыла очень быстро. Думаю, минут через пять, – никогда такого не было. Я спросил, можно ли ее перенести на кровать. «Не можно, а нужно. Но вы же видите: мы, две женщины, не сможем это сделать». Наш сосед, добрый и могучий, оказался дома. И еще через пять минут из капельницы, притороченной к стене посредством гвоздика от торопливо снятой картины, в кровь забастовавшего организма начала поступать жидкость, призванная привести его в чувство. «Все будет хорошо, – повторяла докторица, показавшаяся мне излишне оживленной, – сегодня мы уже четверых таких выходили. Такая уж нынче погода, весенняя…»
…Галя, выражаясь фигурально, дошла до кончины «своими ногами». Встретила ее в своем доме, в месте, о котором много раз говорила: «Как я люблю нашу квартиру!» И, окончательно уходя, слабо – но, можно сказать, и нежно – пожала мою руку. Как при расставаниях в незабвенную пору знакомства, в 1958-м, еще до первых поцелуев.
Это обстоятельство не просто смиряет меня с фактом моего существования при ее земном отсутствии, но делает его осмысленным. Вот почему я не считаю ее уход «ужасом». Так предназначила судьба. Но, может быть, и… сама Галя.
Жизнь без нее – это что-то ампутированное, инвалидное. Но это тоже судьба. Однажды меня удивили мои же собственные слова, рожденные неожиданно, самопроизвольно, минуя думание.
Было так. В 2010 (или 2011?) году по телеканалу «Культура» показывали цикл бесед с Викторией Токаревой. Он подкупил меня непринужденной естественностью героини. И, повинуясь импульсу непосредственного впечатления, я позвонил Виктории Самойловне. В конце разговора та спросила:
– От чего умерла Галина?
Я на мгновение задумался: как точнее сказать? Но быстрее, чем в голове возник ответ, услышал свой голос:
– От того, что жизнь кончилась.
Я сам был этим удивлен. Но Токарева – нет. Она сказала:
– Понятно.
А я о своих словах с тех пор думал и думаю. Что именно?.. Вряд ли это укладывается в жанр прогулок по электронным адресам. Я журналист, а не философ, и буду стараться недалеко отходить от того, что видел, что слышал, и что было вокруг. Но не могу не поделиться одной – не моей! – мыслью. Эпизод с Токаревой был мною описан в этой рукописи 8 июня 2015 года. Тем же вечером я смотрел одну из трех-четырех телепрограмм, которые еще способны вызвать мой интерес, – «Сати. Нескучная классика». Была передача «Музыка в жизни Фанни Ардан». И у меня было предчувствие: обаятельная и невероятно искренняя актриса в этой теме скажет что-то для меня важное. Предположение оправдалось. «Есть такое французское выражение, которое я хорошо знаю: смерть в душе. Физически человек не умирает. Он здесь, он встает по утрам, идет обедать, ходит по магазинам, разговаривает с людьми. Но внутри человек уже умер, потому что умерла душа. …Иногда, когда человек полностью одержим какой-то страстью, даже при этом болен, он плюет на болезнь. А тут, наоборот, когда вдруг у человека умирает душа, тело уже не может сопротивляться». Да, что-то такое было с Галиной.
И вот что еще хочу добавить.
Не раз и в быту, и в своих интервью Галя вспоминала подробность ухода из жизни великого поэта. «Когда-то я не понимала фразы Пушкина, который, умирая, сказал «Прощайте, мои друзья!», обращаясь к книгам. Но сейчас я понимаю это каждой клеточкой своего организма».
В последние минуты жизни она была на своем обычном спальном месте. Справа от нее, «в головах», находилась стопка предназначенных к полуночному чтению книг (в тот день, впрочем, как и сейчас, их было тринадцать); слева от кровати «горка» из семи застекленных полок с особо ценимыми собраниями сочинений (Ахматова, Мандельштам, Цветаева, Солженицын, Шаламов и т. д.); а прямо на Галю смотрела «стенка» от пола до потолка с любимыми европейскими и американскими детективами (это была ее слабость, а где же еще и угнездиться нашим слабостям как не в спальне, самом интимном уголке жилища). И кто знает, может быть, она про себя тоже по-пушкински прощалась со своими безмолвными «друзьями»…
Уважаемый Ю. В.!
У меня умерла жена. Она была писательницей – Галина Щербакова. За десять дней до ее кончины издательство прислало обложку ее новой книги. Она ей понравилась. И тут неожиданно она сказала…
Да, 12 марта я привез ее из больницы. Включил компьютер и обнаружил три послания из «Эксмо» с присланными для авторского утверждения обложками трех новых книг.
– Галя, – позвал я, – иди сюда!
Пристальным взглядом она окинула предложенные композиции. Две из них были дежурными афишно-зазывными – из серии ее тридцати покетбуков. Зато третья, предназначенная для большого шестисотстраничного тома лучших рассказов, была необычной. Она состояла из одиннадцати теснящихся друг к другу фотографий Галины.
– Смотри, здорово и необычно, – сказал я.
Она тихо ответила:
– Пускай это будет на моем могильном памятнике.
И пошла из комнаты.
– Что именно? – вдогонку крикнул я.
– Вся обложка.
Кроме фотографий, внизу обложки был текст:
Галина ЩЕРБАКОВА
Единственная, неповторимая
Большая книга рассказов
Ну, и ладно. Я и в этом случае не увидел ничего предвещающего. Галя была истинно малоросской натурой (в моем понимании), способной легко переходить от шалой «гопачной» искрометности к настроению непритворного, но, впрочем, отчасти чуть-чуть и напоказ, печалования, «журбы»: як умру, то поховайте мене на могилі… Для меня такое было не в новость. И вообще тема смерти в нашем доме не была табуирована.
В итоге получилось, что жена и об этом подумала. В секунды, можно сказать, небрежно ухватила форму, смысл и вероятный подтекст обложечного коллажа. И, наверно, по-писательски вживив все это в грядущий порожденный ее воображением «перформанс»… Не устаю удивляться способности одаренных сочинителей разглядеть в «презентуемых» им откуда-то мысленных картинах, как во всамделишней реальности, глубину и подробности сущего. Не это ли их главное профессиональное свойство? Описать же пойманное в такой момент – дело техники.
Строчки из почты, предваряющие эту микроглавку, – из моего письма мастеру изготовления надгробий. А вот впечатление от самого памятника: «На могильном камне Жана Кокто – надпись: «Я начинаю». Надгробная плита Галины Щербаковой встречает печальных посетителей каскадом удивительно живых портретов». (Профессор Владислав Смирнов, наш давний друг). А ведь это еще памятник и ее, быть может, лучшей книге? Так думают некоторые близкие Гале люди. Я-то лично на первое место ставлю другой ее сборник.
Но кто тут может рассудить?..








