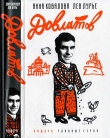Текст книги "Довлатов и окрестности"
Автор книги: Александр Генис
Жанр:
Драматургия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Видеть в грехе источник литературы – это очень по-довлатовски. И защищать порок, в сущности, – по-американски. Ведь только тот демократ последователен, кто вынуждает добродетель поделиться правами с пороком.
Демократия – это не признание другого мнения, а терпимость к другой жизни.
Способность не роптать, деля пространство с кем-то чужим и посторонним, вроде крысы или таракана. Характерно, что Сергей первым в Америке вступился за последних: "Чем провинились тараканы? Может, таракан вас укусил? Или оскорбил ваше национальное достоинство? Ведь нет же… Таракан безобиден и по-своему элегантен. В нем есть стремительная пластика гоночного автомобиля".
В американской литературе Довлатов находил то, чего ему не хватало в русской. Сергей жаловался, что у Тургенева никогда не поймешь, мог ли его герой переплыть озеро. Чтобы не быть на него похожим, сам Довлатов переплыл Миссисипи. Во всяком случае, написал об этом.
Сергей никогда не забывал о телесном аспекте нашего существования. Тем более, что сделать ему это было непросто. Выпивший Сергей мог быть физически обременительным. На третий день ему отказывала грация, с которой он обычно носил свое непомерное тело. Больше, чем все остальное, оно сближало его с Хемингуэем. В отличие от многих, Сергей не плевал в забытого кумира, но никогда его и не цитировал. Хемингуэй, как танк, проехал по прозе всего поколения, но на довлатовской литературе он оставил не так уж много следов.
Самые неловкие из них – концовки рассказов в "Зоне": "Но главным было то, что спит жена. Что Катя в безопасности. И что она, наверное, хмурится во сне…" Тут важно, что Сергей взял у Хемингуэя не только скупую слезу, которая иногда орошает довлатовскую страницу, но и знаменитые дырки в повествовании.
Приспособив теорию айсберга для своих целей, Сергей придумал себе особую пунктуацию. Эстонская журналистка из "Компромисса" совершенно справедливо называла ее "сплошные многоточки".
Точка редко бывает лишней, многоточие – почти всегда. Как часто бывает с выродками, от своего аристократического предка в этом знаке сохранилась лишь внешность, да и то троекратно разбавленная. Ставя три точки вместо одной, автор рассчитывает, что многозначительность, как цветы – могилу, прикроет угробленное предложение. Многоточие венчает не недосказанную, а недоношенную мысль.
Сергей знал все это лучше других. И все же, терпеливо снося насмешки, в том числе и собственные, он стал рекордсменом многоточий. Отстаивая свое право на них, он писал, что "пунктуацию каждый автор изобретает самостоятельно". В его литературе многоточия были авторским знаком. Довлатовское многоточие больше напоминает не пунктуационный знак, а дорожный. Он указывает на перекресток текста с пустотой. Каверны, пунктиром выгрызенные в теле текста, они придают ему элегантную воздушность, как дырки – швейцарскому сыру.
Самая загадочная довлатовская фраза звучит так: "Завтра же возьму на прокат фотоувеличитель". Сергей ей больше всего гордился, хотя смысла в ней немного. Потому и гордился.
Эта фраза маскирует свое отсутствие. Она – род довлатовских "многоточек". А хвалился он ей потому, что мастерство и решительность писателя сказываются не только в том, что он написал, но и в том, чем он пожертвовал. Оставив никакую фразу на том месте, где могло быть сказано что-то значительное, Довлатов давал читателю перевести дух.
Если в прозе нет фокуса, то она не прозаИ но если автор устраивает из аттракционов парад, то книга становится варьете без антракта. Чувствуя себя в ней запертым, читатель хочет уже не выйти, а вырваться на свободу. Чтобы этого не произошло, Сергей прокладывал свои хрустальные фразы словесной ватой. Его бесцветные предложения освежают рецепторы, мешая притупиться зрению. Прореживая текст, Сергей незаметно, но властно навязывает нам свой ритм чтения. У довлатовской прозы легкое дыхание, потому что его регулирует впущенная в текст пустота.
Старясь быть блестящим, но не слепящим, Сергей пуще всего ценил ту остроту оригинальности, о которой знает один автор. Об этом говорится в той цитате из Пастернака, которую – "единственную за всю мою жизнь" – выписал еще в молодости Довлатов: "Всю жизнь стремился к выработке того сдержанного, непритязательного слога, при котором читатель и слушатель овладевают содержанием, сами не замечая, каким способом они его усваивают".
В "Зоне" Сергей писал, что мы прозвали его "трубадуром отточенной банальности". На самом деле, он, как всегда, приписывал другим нанесенную самому себе обиду, чтобы тут же обратить слабость в достоинство.
Сергей дерзко разбавлял тривиальностью свою тайную оригинальность.
Пустота всякой банальной фразы – своего рода рама. С одной стороны, она выгораживает картину из невзрачной стены, с другой – соединяет ее с ней.
Пустота – трубопровод, связывающий текст с окружающей действительностью.
Впуская пустоту в тест, автор смешивает вымысел с реальностью как раз в той пропорции, в которой они встречаются и за пределами печатной страницы.
Китайцы, великие мастера в обращении с пустотой, знали три способа ее использования. Первый – оставить ее, как есть. Однако, незамеченная пустота перестает быть собой. Она неизбежно во что-нибудь превращается – тетрадный листок, бурый фон, звездное небо, обои в цветочках. Второй способ – украсить вещь пустотой. Такая пустота становится декоративной. Она, как поля в тексте, оттеняет собой чужое присутствие. И наконец, третий, самый трудный, требует впустить пустоту в картину, дав небытию равные права с бытием.
Только тот художник изображает мир во всей его полноте, кто блюдет паритет вещи с ее отсутствием. Недостаток – больше избытка, и заменив сложение вычитанием, пустое способно заполнить порожнее.
Довлатов, как все писатели, стремился воссоздать цельность мира. Но в отличие от многих других, он видел препятствие не в чистой, а в исписанной странице.
Американская жизнь Довлатова походила на его прозу: роман пунктиром – вопиюще недлинный, изобилующий многоточиями. Тем не менее она вместила в себя все, что другие растянули бы в эпический роман. В Америке Сергей трудился, лечился, судился, добился успеха, дружил с издателями, литературными агентами и американскими "барышнями" (его словцо), здесь он вырастил дочь, завел сына, собаку и недвижимость. Ну и конечно, 12 американских лет – это дюжина вышедших в Америке книжек: аббревиатура писательской жизни. И все это не выходя за пределы круга, очерченного теми американскими писателями, которых Сергей знал задолго до того, как поселился на их родине. Довлатов с легкостью и удобством жил в вычитанной Америке, потому что она была не менее настоящая, чем любая другая.
Сергей писал, что раньше Америка для него была, как рай – "прекрасна, но малоубедительна". Поэтому больше всего в Америке его удивляло то, что она есть. "Неужели это я?! Пью айриш-кофе в баре у "Джонни"? – вот основная эмоция, которой в сущности исчерпываются его отношения с страной, которую он знал, любил, понимал и игнорировал.
Блестящий послужной список Довлатова – множество переводов, публикации в легендарном "Нью-Йоркере", две сотни рецензий, похвалы Воннегута и Хеллера – мог обмануть всех, кроме него самого. Про свое положение в Америке Сергей писал с той прямотой, в которой безнадежность становится смирением: "Я – этнический писатель, живущий за 4000 километров от своей аудитории".
"Пустое зеркало" Хотя Довлатов и говорил, что не понимает, как можно писать не о себе, он честно пытался. У него есть рассказы, написанные от лица женщины. В лучшем из них – "Переезд на новую квартиру" – рефреном служит фраза из дневника героини: "Случилось то, чего мы больше всего опасались".
И все-таки это – не то. Безошибочно довлатовской его прозу делает сам Довлатов. Своим присутствием он склеивает окружающее в одно целое.
Довлатов-персонаж даже внешне неотличим от своего автора – мы всегда помним, что рассказчик боится задеть головой люстру. Этот посторонний взгляд сознательно встроен в его прозу – Сергей постоянно видит себя чужими глазами.
Сами себе мы обычно кажемся прозрачными – поэтому так быстро забываем, что сели в краску. Чтобы постоянно держать себя в фокусе чужого внимания, нужны более сильные потрясения, вроде расстегнутой ширинки или прорехи на брюках.
Как раз таким инцидентом начинается один из довлатовских рассказов: "У редактора Туронка лопнули штаны на заднице".
Сергей и себя любил изображать в болезненной, как заусеница, ситуации. Я этого не понимал, пока не испробовал на себе. Оказалось, что лучший способ избавиться от допущенной или испытанной неловкости – поделиться ею.
Рассказывая о промахе, ты окружаешь себя не злорадными свидетелями, а сочувствующими соучастниками. В отличие от горя и счастья стыд поддается делению, и гласность уменьшает остаток.
Сергей знал толк в таких нюансах. Расчетливо унижая себя в глазах окружающих, он знал, что их любовь вернется с лихвой.
Так, например, описывая в очередной раз первую встречу с женой, Довлатов начинает с нелестной интимности: "Меня угнетали торчащие из-под халата ноги.
У нас в роду это самая маловыразительная часть тела".
Честно говоря, я всегда думал, что ноги бывают только у девушек. Но Сергей, живо интересовавшийся своей анатомией, никогда не надевал шортов, а когда увидел в них меня, почему-то решил, что я красуюсь икрами. Думаю, поэтому в "Записных книжках" он меня мстительно называет "плотным и красивым." На самом деле, "плотным и красивым" был не я, а он. Склонный к полноте, Довлатов напоминал с удовольствием распустившегося спортсмена.
Однако, толстым он бывал только иногда. Когда живот начинал выпирать арбузом, Сергей спохватывался и бешено худел. Довлатов смирял плоть с таким энтузиазмом, что даже следить за ним было утомительно. Как-то в период диеты он заказал в Мак-Дональдсе самое здоровое блюдо – "Chicken McNuggets".
Увидев, что по размеру, как и по всему прочему, эти "самородки" похожи на куриный помет, Довлатов рассвирепел и повторил заказ одиннадцать раз.
Худея, Довлатов занимался гимнастикой. Сам я этого не видел, но его пудовые гири в руках держал. Сергей ворчал, что мимо них не может спокойно пройти ни один интеллигент – помусолит, а назад не положит. Купив незадолго до смерти домик в Катскильских горах ("полгектара земли, и на ней хижина дяди Тома"), Сергей стал совершать пробежки вдоль лесной дороги. Бегал он, по-моему, раза три, и все-таки – утверждал он, – к нему успел привязаться койот.
Конечно, Сергею нравилось быть сильным. Как бывший боксер, он ценил физические данные. Восхищался Мухамедом Али, да и про себя писал кокетливо:
"Когда-то я был перспективным армейским тяжеловесом". В его неопубликованном романе "Пять углов" вторая часть целиком посвящена боксу. Она и называется "Один на ринге". Довлатов еще жаловался, что злопыхатели переименовали в "Один на рынке". Также как и другое его раннее сочинение – "Марш одиноких", которое стало "Маршем одноногих". Уверен, что автором пародийных названий был, как всегда, сам Довлатов. О своем "боксерском" тексте Сергей упоминает в письмах: "Я хочу показать мир порока как мир душевных болезней, безрадостный и заманчивый. Я хочу показать, что нездоровье бродит по нашим следам, как дьявол-искуситель, напоминая о себе то вспышкой неясного волнения, то болью без награды".
Видимо, Сергей не счел этот головоломный проект выполненным: нам он рукопись показал, но печатать не стал. Насколько я помню, эта по-хемингуэвски энергичная, с драматическим подтекстом, проза ловко использует профессиональный жаргон. Поразила одна деталь: в морге выясняется, что у боксеров мозг розового цвета. Наверное, поэтому Сергей ушел из бокса.
Однако ностальгический интерес к дракам у него сохранился. Сергей даже носил с собой дубинку. В деле я ее никогда не видел, но из-за нее нас не пустили в здание ООН, которое мы хотели показать гостившему в Нью-Йорке Арьеву. Сергей категорически отказался разоружиться, когда из-за начиненной свинцом дубинки взревел металлоискатель, В рассказах Довлатова о ленинградских друзьях – Марамзине, Битове, Попове – мордобой фигурировал не реже, чем в "Великолепной семерке". Возможно, впрочем, это – дань шестидесятым, времени, когда тело ценилось больше духа.
Так или иначе, свидетели Сергея опровергают. Именно это произошло с одной из самых популярных довлатовских баек, той, в которой Битов произносит на товарищеском суде речь:
"Выслушайте меня и примите объективное решение. Только сначала выслушайте, как было дело… Дело было так. Захожу в "Континенталь". Стоит Андрей Вознесенский. А теперь ответьте, – воскликнул Битов, – мог ли я не дать ему по физиономии".
Недавно оба участника, заявили, что инцидент действительности не соответствует. Вознесенский даже предложил это зафиксировать на бумаге, но Битов, говорят, уклонился – он человек умный.
Как-то Битов выступал в Нью-Йорке, где его с эмигрантской бесцеремонностью спросили, как он относится к Богу.
– Как Он ко мне, так и я к Нему, – отбился Битов.
– Ну, а Он к вам как относится? – не отставал спрашивающий.
– Как я к Нему, – устало ответил Битов.
Довлатов был очень крепким мужчиной. И роста он все-таки был огромного.
"Высокий, как удои", – описывал его Бахчанян. Что говорить, Сергей был таким здоровым, что не влез в обычный гроб.
И всю эту физическую силу Довлатов принес в жертву словесности. Определенная брутальность, которую Довлатов не без самодовольства в себе культивировал, категорически противоречила его литературному автопортрету. Все описанные им драки кончаются для рассказчика одинаково: "Я размахнулся, вспомнив уроки тяжеловеса Шарафутдинова. Размахнулся – и опрокинулся на спину… Увидел небо, такое огромное, бледное, загадочное… Я любовался им, пока меня не ударили ботинком в глаз".
Певец своих поражений, Сергей упивался пережитыми обидами и унижениями. В результате Довлатов оказался не только самым сильным, но и самым побитым автором нашего поколения.
Обычно бывает наоборот – физические недостатки мы скрываем куда яростнее, чем духовные. Сергей говорил, что человек охотнее признается в воровстве, не говоря уж о прелюбодеянии, чем в привычке соснуть после обеда. Если вы встретите в книге "негодяй рухнул, как подкошенный", или "она застонала в моих объятиях", будьте уверены, что автор не вышел ростом.
Не нуждавшийся в такого рода утешениях, Довлатов толковал свои фиаско как возвращение природе полученной от нее форы. Но этот лежащий на поверхности мотив лишь маскировал тот тайный заговор, который Довлатов искусно плел всю жизнь: Сергей тщательно следил за тем, чтобы не стать выше читателя. Как никто другой, он понимал выигрышность такой позиции.
Обычно текст украшает своего автора. Что и не удивительно: литературе мы посвящаем свои лучшие часы, а остальному – какие придется. К тому же, автор находится в заведомо выигрышном положении по отношению к читателю. О себе и других он сообщает ему лишь то, что считает нужным. Автор знает больше нас, но не потому, что собрал все козыри, а потому, что подсмотрел прикуп.
Это не может не бесить. Чем большим молодцом выставляет себя автор, тем сильней читателю хочется увидеть его в луже. Довлатов шел навстречу этому желанию. Не боясь показать себя смешным и слабым, он становился вровень с нами. И этого читатели ему не забудут. Сильного ведь всегда любят меньше слабого, умного боятся больше глупого, счастливому достается чаще, чем неудачнику. Титану мироздания мы предпочитаем беспомощного младенца, и море побеждает реки, потому что оно ниже их.
Делясь с читателями своими грехами и пороками, Сергей не только удовлетворял наше чувство справедливости, но и призывал к снисхожденью, которое было для него первой, если не единственной заповедью. Так Сергей с нежностью пишет об отце: "Мне импонировала его снисходительность к людям, – человека, который уволил его из театра, мать ненавидела всю жизнь. Отец же дружески выпивал с ним через месяц…" Нетребовательность – и к другим, и к себе – Довлатов возводил в принцип. Что отнюдь не делало его мягкотелым ("дерьмо, – говорил он, – тоже мягкое"). В рассказах Сергея нет ни одного непрощенного грешника, но и праведника у него не найдется.
Дело не в том, что в мире нет виноватых, дело в том, чтобы их не судить.
Всякий приговор бесчестен не потому, что закон опускает одну чашу весов, а потому, что поднимает другую.
Если Иешуа у Булгакова – абсолютное добро, то что олицетворяет Воланд?
Абсолютное зло? Нет, всего лишь справедливость.
Идея "воздать по заслугам" настолько претила Сергею, что однажды он вступил в конфронтацию со всем Радио Свобода. Случилось это, когда американцы в ответ на террористические акции Ливии бомбили дворец Кадаффи. Пока на работе возбужденно считали убитых и раненных, бледный от бешенства Довлатов объяснял, как гнусно этому радоваться.
К преступлению Сергей относился с пониманием, идею наказания не выносил. Им руководили не любовь, не доброта, не жалость, а чувство глубокого кровного, нерасторжимого родства со всем в мире. Не надо быть, как все, – писал Довлатов, – потому что мы и есть, как все.
В его рассказах автор не отличается от героев, потому что все люди для Довлатова были из одной грибницы.
Лишить автора права судить своих персонажей значит оставить его без работы.
Довлатову и правда нечего делать в своей прозе. В сущности, он тут служит тормозом. Автор не столько помогает, сколько мешает развиваться событиям. Он сопротивляется любому деятельному импульсу – изменить судьбу, переделать мир, встать на ноги. Чем быстрее мы идем в другую сторону, тем дальше удаляемся от своей. Бороться с враждебными обстоятельствами – все равно что поднимать парус в шторм. Поэтому свое несогласие с положением дел Довлатов выражал тем, что не пытался их изменить. Уложенный, как все мы, в жизненную колею, он скользил по ней кобенясь.
Сергей писал: "Всю жизнь, я ненавидел активные действия любого рода… Я жил как бы в страдательном залоге. Пассивно следовал за обстоятельствами. Это помогало мне находить для всего оправдания".
Став литературной позицией, авторская бездеятельность обратилась в парадокс.
С одной стороны Довлатов – неизбежный герой своих рассказов, с другой – не герой вовсе. Он даже не отражается в зеркале, поставленным им перед миром.
Уравняв себя с персонажами, рассказчик отходит в сторону, чтобы дать высказаться окружающему. Все свои силы Довлатов тратил не на то, чтобы ему помочь, а на то, чтобы не помешать.
Это куда сложнее, чем кажется. Как-то в Москве у моей жены брали интервью на вечную тему "как ты устроился, новый американец". Поскольку мною журналисты не интересовались, мне оставалось только тихо сидеть рядом. Уходя язва-фотограф сказал, что больше всего ему понравилось смотреть на меня: так выглядит початая бутылка шампанского, которую с трудом заткнули пробкой.
Недеяние требует не только труда, но и естественной склонности – склонности к естественному. Уважение к не нами созданному – этическое оправдание лени.
Довлатов считал бездеятельность – единственным нравственным состоянием. "В идеале, – мечтал он, – я хотел бы стать рыболовом. Просидеть всю жизнь на берегу реки." Я был уверен, что он это написал ради красного словца – представить Довлатова за рыбной ловлей не проще, чем в "Лебедином озере". Но однажды Сергей принес столько выловленных им в Квинсе карасей, что хватило на уху.
Я все чаще вспоминаю этих желтых рыбок. Мне чудится, что они – из несостоявшегося довлатовского будущего. Из Сергея ведь мог получиться отменный старик – этакий могучий дед, окруженный ворчливыми поклонниками и строптивыми домочадцами.
Довлатов на собственном примере убедился, что автор – всегда жертва обстоятельств. Избегая ссылаться на провидение, он об этом писал прямо, но без подробностей: "Видно кому-то очень хотелось сделать из меня писателя." Довлатов не верил, что писателями становятся по собственной воле. Воспитывая дочь Катю, Сергей говорил, что "творческих профессий надо избегать. Другое дело, если они сами тебя выбирают".
Сергей считал, что человек не может быть хозяином своей судьбы чужой – другой дело.
Полноправным автором Довлатов был скорее в жизни, чем в литературе. Отсюда его любовь к интригам.
Сергей был гениальным обидчиком-миниатюристом. Там, где другие орудовали ломом, он применял такой острый скальпель, что и швов не оставалось. Из-за этого Сергею не было цены в газетных баталиях.
Так, в период вражды "Нового американца" с другим нью-йоркским еженедельником – "Новой газетой" Сергей написал редакторскую колонку то ли о душевности, то о бездушии американцев. В ней рассказывалось, как в метро стало тошнить женщину и он протянул ей – внимание! – "Новую газету". Вскоре, однако, Сергей сам стал печататься в обиженном им органе. Поэтому, когда дело дошло до отдельного издания "Колонок", вместо "Новой газеты" в этом эпизоде фигурирует просто "свежая газета".
Сергей умел любого втянуть в свою интригу. Однажды он сказал многострадальному Лемкусу, что Генис не советует ему читать его рассказы. Я только рот открыл – и тут же закрыл. Ничего такого я не говорил, но ведь и спорить не приходиться.
Умея всех задеть, Сергей и сам с энтузиазмом представлял себя жертвой. То и дело он затевал долгие разбирательства по поводу им же выдуманной обиды.
Опытный режиссер, он не внушал, а направлял страсти, чтобы с искренним участием следить за их потоком. Его любили женщины трудной судьбы, и он с щедрым интересом вникал в их безнадежно запутанные дела. Больше всего ему импонировали те запущенные случаи, в которых виновато было его "любимое сочетние – нахальность и беспомощность". В эмиграции таких хватало. Им Сергей посвятил "Иностранку": "Одиноким русским женщинам в Америке – с любовью, грустью и надеждой".
Довлатову нравилось быть рыцарем. Он обожал громовым голосом цитировать из "Капитанской дочки" – "Кто из моих людей смеет обижать сироту?" Сергей и правда становился опасным, если дам обижали другие. Так, он не разрешал нам смеяться над дебютом писательницы, рассказ которой начинался словами "он посадил меня голой попой на теплую стиральную машину".
Сергей любил интриги. Горячо вникая в интимные обстоятельства знакомых, он с одинаковым усердием помогал их распутывать – или запутывать. Сергей вел себя, как персонаж Борхеса, который, предложив устранить ладейную пешку, пишет статью о том, почему этого делать не не следует.
Довлатов плел паутину исключительно ради красоты узора. Что не делало ее менее опасной.
Сергей не пытался увеличить количество зла в мире – он хотел внести в него сложность. Довлатов упивался хитросплетением чувств, их противоречиями и оттенками.
Чтобы быть автором, Довлатову нужно было раствориться среди других. Чтобы чувствовать себя живым, Сергею необходимо было жить в гуще спровоцированных им эмоций. Иногда он напоминал Печорина.
"Все мы не красавцы" Довлатов мало что любил – ни оперы, ни балета, в театре – одни буфеты. Даже природа вызывала у него раздражение. Как-то в обеденный перерыв вытащили его на улицу – съесть бутерброд на весенней травке. Сергей сперва зажмурился, потом нахмурился и наконец заявил, что не способен функционировать, когда вокруг не накурено. С годами, впрочем, он полюбил ездить в Катскильские горы, на дачу. Но и там предпочитал интерьеры, выходя из дома только за русской газетой. Довлатов писал: "Страсть к неодушевленным предметам раздражает меня. Я думаю, любовь к березам торжествует за счет любви к человеку".
Мне кажется, Сергей был просто лишен любопытства к не касающейся его части мира. Он не испывал никакого уважения к знаниям, особенно тем, что Парамонов называет "необязательными". Обмениваться фактами ему казалось глупым.
Несмешную информацию он считал лишней. Довлатов терпеть не мог античных аллюзий. Он и исторические романы презирал, считая их тем исключительным жанром, где эрудиция сходит за талант. Сергей вообще не стремился узнавать новое. Книги предпочитал не читать, а перечитывать, путешествий избегал, на конференции ездил нехотя, а в Лиссабоне и вовсе запил. В результате путевых впечатлений у него наберется строчки три, и те о закуске: "Португалия…
Какое-то невиданное рыбное блюдо с овощами. Помню, хотелось спросить: кто художник".
Мне тогда все казалось интересным и понять довлатовскую индифферентность было выше моих сил. Я не только выписывал каждый месяц по дюжине книг, но и читал их. И историю Карфагена, и дневники Нансена, и кулинарный словарь. Я знал, как устроена дрободелательная машина, мог перечислить гималайские вершины и римских императоров. Кроме того, я тайком перечитывал Жюль Верна, и сам был похож на капитана Немо, который на вопрос "какова глубина мирового океана?" отвечает сорока страницами убористого текста. Что касается путешествий, то ездить мне хотелось до истерики. Я побывал в сорока странах.
Более того, мне всюду понравилось.
Довлатову я об этом не рассказывал – страсть к передвижению ему была чужда.
И, как выяснилось, неприятна: "Вайль и Генис по прежнему работают талантливо. Не хуже Зикмунда с Ганзелкой. Литература для них – Африка. И все кругом – сплошная Африка. От ярких впечатлений лопаются кровеносные сосуды… " Может быть, Сергей был и прав.
В Париже есть музей неполученных посылок. Одна поклонница посоветовала Беккету туда сходить: вещи без хозяев, анонимные, заброшенные, каждый экспонат как пьеса абсурда. Беккет, однако, вежливо уклонился: "Видите ли, мадам, – сказал он, – я с 56-го не выхожу из дома".
Беккет был очень образованным человеком. Знал много языков, обошел пешком пол-Европы. Лучший студент дублинского Тринити-колледжа, эрудит, любитель чистого и бесцельного знания, он мечтал остаться наединне с Британской энциклопедией. В его юношеской поэме о Декарте я не разобрался даже с названием. ЗПримечаний в ней больше, чем текста. Но однажды Беккету пришло в голову, что непознаваемого в мире несоизмеримо больше, чем того, что мы можем узнать. С тех пор в его книгах перевелись ссылки, а сам он не выходил без нужды из дома. Все, что Беккету было нужно для литературы, он находил в себе. Сергей – в других.
Довлатова интересовали только люди, их сложная душевная вязь, тонкая З"косметика человеческих связей". Иногда мне казалось, что люди увлекали Сергея сильнее всего на свете, даже больше литературы. Впрочем, Довлатов и не проводил четкой границы между личностью и персонажем. Люди были алфавитом его поэтики. Именно так: человек как единица текста.
Сергей сочувственно вспоминал уроки Бориса Вахтина, который советовал своим младшим коллегам писать не идеями, а буквами. Но сам Довлатов писал людьми.
Считается, что в наше время культура утратила тот универсальный – один на всех – миф, который отвечал на все вопросы художника. Поэтому вынужденные о себе заботитьтся сами большие писатели XX века – Джойс, Элиот, Платонов – приходили в литературу со своими мифами.
Однако, на нашем поколении мифы кончились. Довлатов это понимал и вместо бесплодных попыток найти для жизни общий знаменаталь он просто останавливался в торжественном недоумении перед галереей примечательных лиц, которых породила неутомимая в своей любви к гротеску советская власть.
Выйдя на обочину человечества, она наплодила столько необХяснимых личностей, что одного их каталога хватило на целое направление.
Я всегда считал, что чудак – единственный достойный плод, который взрастила социалистическая экономика. Авторы самиздатских журналов, режиссеры авангардных театров, художники-нонконформисты, изобретатели, поэты, знахари, странники, собиратели икон, переводчики с хеттского – все они смогли появиться на свет только потому, что власть укрывала их от безразличного мира. Конечно, обычно она их не любила, но всегда замечала, придавая фактом преследований смысл и оправдание их трудам. Только в стране, безразличной к собственной экономике, чудаки могли найти нишу в обществе, где они были свободны от него – невнятные НИИ, туманные лаборатории, смутные конторы, будка сторожа, каморка лифтера, та котельная, наконец, которую увековечил Довлатов: "Публика у нас тут довольно своеобразная. Олежка, например, буддист. Последователь школы "дзэн". Ищет успокоения в монастыре собственного духа. Худ – живописец, левое крыло мирового авангарда. Работает в традициях метафизического синтетизма. Рисует преимущественно тару – ящики, банки, чехлы… Ну, а я человек простой. Занимаюсь в свободные дни теорией музыки. Кстати, что вы думаете о политональных наложениях у Бриттена?" Советский чудак – столь же яркий тип, как монах средневековья или художник Ренессанса. Это – готовый материал для той словесности, что в сущности литературой уже не является. Скорее, это – письмо с натуры, кунсткамера, парад уродов.
Традиция эта сугубо русская, идущая не от Пушкина, а от Гоголя. Более предсказуемый Запад порождает типы, мы – безумные индивидуальности, чудаков и чудиков.
Именно за это Сергей больше других советских авторов любил Шукшина. В первых кадрах одного его фильма, прямо за титрами, нетвердо шагает мужчина. Камера медленно скользит по его дрожащим от напряжения ногам, скованной фигуре, окаменевшей шее – и застывает, не добравшись до подбородка. Остальное вырезано. Дело в том, что на голове он нес налитый до краев стакан водки. В фильме сцена никак не обыграна – сюжету она не нужна, но эпизод этот не лишний, а главный. Он, как хороший эпиграф, не только определяет тон, но и служит немой декларацией о намерениях – показывать странности жизни, а не объяснять их.
Другая сцена, которую Сергей часто пересказывал, – из фильма "Когда деревья были большими". Там одного персонажа справшивает: – Ты зачем соврал? – Не знаю, – говорит, – дай, думаю, совру и соврал.
По интонации это близко к Достоевскому. В "Мертвом доме" у него один каторжник все приговаривает: "У меня небось не украдут, я сам боюсь, как бы чего не украсть".
И в жизни, и в искусстве Сергей ценил не жесткий, как в литературе абсурда, алогизм, не симмулирующую бессмыслицу заумь, не прямую антитезу разуму, а обход его – загулявший, не здравый, смысл. Каждое нелепое проявление его свидетельствует: человек шире своих слов и поступков. Он просто не влезает в них – квадратура круга.
Запутавшись в самом себе, человек ставит предел и нашему анализу. Он, как атом у греков, обладает той неделимой цельностью, которую нельзя разложить на элементарные частицы страхов и страстей. Непереводимый на язык аргументов остаток личности завораживал Довлатова. Сергей смаковал семантическую туманность, вызывающую легкое, будто от шампанского, головокружение. Он подстерегал те едва заметные сдвиги рациональности, которые коварно, как подножка, выводят душу из равновесия. Довлатов с юности коллекционировал причуды реальности, которые, как говорила Алиса в Стране чудес, наводит на мысли, только не известно, на какие. Например, Сергей рассказывал, что студентом срывал товарищей с лекции, чтобы полюбоваться на старичка в сквере, смешно дергающего носком ботинка.