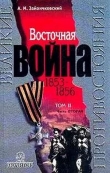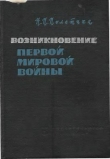Текст книги "Распутин. Выстрелы из прошлого"
Автор книги: Александр Бушков
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Ноль целых, ноль десятых. Все это сытое жлобье увлеченно крутило в России тот или иной бизнес, тащило в постель русских девушек и смачно чавкало русское сало. Правда, время от времени иные из них устраивали митинги, где по укоренившейся за сто двадцать лет привычке вновь, как в былые времена, требовали, чтобы матушка-Россия их в очередной раз защитила: объявила войну НАТО, оружия сербам подкинула, денег дала. Наслушавшись этих призывов, в Сербию ехали воевать русские парни – и добро бы речь шла о гопниках типа Эдуарда Лимонова, не способного нормально существовать в мирных условиях, питающегося, как вампир, кровью, заварушками, анархией, хаосом. Ехали и романтики, в духе старых времен искренне верившие, что собрались на святое дело…
Чем все кончилось? Да очень по-сербски, знаете ли. В конце концов западники пообещали сербам большие деньги, если те в самом прямом смысле продадут им президента Милошевича, поджигателя войны и вдохновителя геноцида – для последующего суда с адвокатами, прениями сторон и прочими признаками цивилизации. Сербы подумали – и продали своего президента. То есть поступили в лучших сербских традициях: если дают хорошие деньги, чего же ломаться?
Денег им, правда, так и не заплатили, но это уже их проблемы, и мне облапошенных сербских торгашей нисколечко не жалко.
Сейчас Сербия пришла именно в то состояние, которое ей с самого начала и предназначалось, как она ни пыталась выломиться из своей исторической судьбы: крохотное государство на задворках Европы, даже если еще и питающее несоразмерные с возможностями амбиции, все равно не способное претворить их в жизнь. Еще и оттого, что «братская» Россия, такое впечатление, наконец-то освободилась от длившегося сто двадцать лет гипноза и более не собирается ни проливать русскую кровь, ни тратить русское золото на поддержку паразита.
Вот именно, паразита. При мысли о Сербии и сербах лично мне в первую очередь приходят на ум персонажи фантастических фильмов вроде «Кукловодов» – пришельцы из космоса наподобие медузы или ската, которые, проникнув под одежду, присасываются к землянину, запускают в него жало и начинают руководить всеми его поступками. Разумеется, заставляя делать то, что выгодно именно им, а не попавшему в плен человеку.
В точности такую роль, будем откровенны, сто двадцать лет играла Сербия по отношению к России, совершенно не важно, императорской ли, коммунистической, независимой. Прикрываясь высокими, красивыми словесами, сербы десятилетиями высасывали из России соки, требовали воевать за них, когда они вляпывались в очередную авантюру, требовали спасать, когда они в угаре создания «Великой Сербии» вновь оказывались в совершеннейшем дерьме. И, что самое печальное, в России то и дело ловились на эту удочку, бездумно подставляли горло вампиру.
Пора понять наконец: не было никаких «братьев». Был умный, циничный, нахальный вампир, который в полном соответствии с тем, как это показано в многочисленных фильмах о Дракуле и ему подобных, убаюкивал жертву, и она, не соображая, что делает, сама подставляла горло. И не замечала ранок на шее.
Есть у русского народа такой недостаток: покупаться на красивые слова и отдавать последнюю рубашку сладкоголосому проходимцу. Это не только наша беда, представители многих других наций бывают так же доверчивы – но только в России, пожалуй, забалдение бывает всеобщим. Не слушая трезвые голоса – а они, как мы убедились, были! – добрые, великодушные, умиленные россияне (вовсе не обязательно одни великороссы), вместо того чтобы обустраивать свою, ох как нуждавшуюся в благоустройстве родину, тратили силы и деньги, жизнь свою порой отдавали, чтобы хитрые, расчетливые, беззастенчивые вампирчики с Балкан жирели, богатели, строили химерическую «Великую Сербию», которой по законам исторического развития однажды все равно суждено было обрушиться в пламени и дыме… Будем надеяться, что – окончательно и навсегда.
Я понимаю, что многих прекраснодушных романтиков эта глава заставила ужаснуться. Но задуматься порой необходимо – чтобы вновь не наступить на те же грабли. Реальность, увы, неприглядна: на протяжении более чем столетия как Сербия, так и другие «братушки» цинично и ловко использовали Россию даже не в качестве дойной коровы – в роли покорной жертвы вампира. Насосавшись кровушки, сытно рыгали и отправлялись на поиски новой жертвы.
Россия, кажется, от наваждения избавилась – за последние пять-шесть лет что-то совершенно не слышно воплей о «стенающей братской Сербии» – даже из уст национал-патриотов. Сдается мне, это признак выздоровления.
Но самое не то что печальное – страшное, заключается в другом. В том, что, увлекшись миражами, страна наша лишилась не мнимых, а настоящих друзей, с которыми вовсе не следовало ссориться по недальновидности своей…
Глава пятая. Дорога к пропасти
Так уж исторически сложилось, что из всех заграничных народов лишь немцы самым теснейшим образом оказались связаны с Россией – и внесли в ее развитие огромный вклад, опять-таки в отличие от всех прочих иностранцев, представленных лишь отдельными (пусть порой и выдающимися) индивидуумами.
До Первой мировой Россия, если не считать Семилетней войны (в которую ее втравили ради своих интересов Англия и Австрия), никогда не воевала ни с одним германским государством. Так уж сложилось. Для славянской Руси главным противником испокон веков была славянская же Польша, а для германских государств – Франция. Расхожее мнение, будто Александр Невский дрался на Чудском озере с тевтонскими рыцарями, истине соответствует мало. Тевтонский рыцарский орден был в первую очередь не немецкой, а международной организацией, где немцы вовсе не составляли абсолютного большинства. Точно так же обстояло, кстати, и с Ливонским орденом, с которым сражался Иван Грозный. В любом случае это были не государства, а религиозные объединения – существенная разница…
Опять-таки вопреки расхожему мнению немецкая слобода (знаменитый Кукуй) возникла под Москвой вовсе не при Петре I, а еще при Иване Грозном. Впервые «Немецкая слобода» упоминается в русских официальных бумагах уже в 1578 г., как уже существующая, кстати. Обитали там пленные, которых Грозный как раз и вывел из Ливонии после разгрома одноименного ордена. Собственно, попав в Россию, пленными они быть перестали – их поселили в означенной слободе, объявили, что отныне они свободные и полноправные жители Московского царства, а чтобы у них были средства к существованию, Грозный выдал им привилегию выделывать и продавать пиво, вино и другие крепкие напитки. По тем временам это и впрямь была нешуточная привилегия, которой искренне завидовали – монополия на производство спиртного сохранялась за царской казной, и с нарушителями поступали так, что не к ночи будь помянуто.
Винокурением немцы не ограничились – многие из них были знатоками разнообразных ремесел. Именно из этой слободы происходили те мастера саперного дела, что при взятии Грозным Казани взорвали городскую стену пороховыми зарядами.
В Смутное время «лихие люди» Немецкую слободу разорили и спалили дотла, а жители разбежались. После избрания на царство Михаила, когда более-менее наладилась нормальная жизнь, уцелевшие стали возвращаться – а из-за границы ехали новые специалисты. Сохранился указ от 1652 г. «Афонасий Иванов сын Нестеров, да дьяки Федор Иванов да Богдан Арефьев строили новую иноземскую слободу за Покровскими воротами, за земляным городом, подле Яузы реки, где были наперед сего немецкие дворы при прежних Великих Государях до Московского разорения». Земельные участки немцам раздавали «смотря по достоинствам, должности и занятиям»: генералы, офицеры, архитекторы и доктора получали по 800 квадратных саженей, младшие офицеры, аптекари, мастера-ювелиры – по 450, ремесленники, капралы и сержанты – по 80. К восшествию Петра на престол Немецкая слобода уже насчитывала более 200 домов. (Существовала и вторая, кстати – в Архангельске.)
В Россию заработка ради ехали и представители многих других европейских народов, но всех их, вместе взятых, было в несколько раз меньше, чем немцев. Всего по Всероссийской переписи населения 1897 г. в Российской империи числилось около двух миллионов немцев (часть – жители Прибалтики, часть – переселившиеся из-за границы). Причем, что интересно, городские жители составляли только треть, а остальные как раз и занимались землепашеством.
Как водится, существовали две крайних точки зрения на роль немцев в истории России. Один господин по фамилии Гитлер в своей печально известной книжице «Моя борьба» начисто отрицал самостоятельную роль русских в создании государства: «Не государственные дарования славянства дали силу и крепость русскому государству. Всем этим Россия была обязана германским элементам… в течение столетий Россия жила именно за счет германского ядра в ее высших слоях населения».
Это, конечно, вздор, направленный на то, чтобы польстить самолюбию «высшей расы». Однако не менее вздорна и противоположная точка зрения – сетования на «немецкое засилье», которое-де не принесло никакой пользы России. Критика исходила с самых разных сторон – от монархистов до революционера Герцена, который немцев ругал за то, что они были «безукоризненными и неподкупными орудиями деспотизма». И не приходило в голову этому лондонскому болтуну, что он, собственно говоря, комплименты делает чиновникам немецкого происхождения… Безукоризненность и неподкупность для государственного служащего – несомненное достоинство. Тем более что сам Герцен в другом месте вынужден был признать: «В немецких офицерах и чиновниках русское правительство находит именно то, что ему надобно: точность и бесстрастие машины, молчаливость глухонемых, стоицизм послушания при любых обстоятельствах, усидчивость в работе, не знающую усталости. Добавьте к этому известную честность (очень редкую среди русских) и как раз столько образованности, сколько требует их должность…»
Вот в этом и секрет того, почему Николай I открыто отдавал предпочтение немцам: как это ни прискорбно для нашего национального самолюбия, они и работали лучше русских, и, главное, не воровали. То есть воровали, конечно, – но казнокрадов и взяточников среди немцев отыскивалось гораздо меньше, чем среди православного люда. Многозначительный пример: при том же Николае два военных чина из немцев – Клейнмихель, дежурный генерал (нечто вроде личного секретаря императора по военным делам) и Адлерберг, начальник Военно-походной канцелярии, учинили, по отзывам современников, «воровство, доходящее до грабежа». Под чужими именами оформляли на себя всевозможные военные подряды и поставки. Деньги гребли лопатой. Вот только «крышевал их и стоял во главе всего предприятия исконно русский человек А. И. Чернышев, военный министр…
Не будем о криминале. Поговорим лучше о тех славных делах, за которые стоит быть благодарными российским немцам, какую область жизни и человеческой деятельности ни возьми.
Армия. Фельдмаршал Миних, генерал-фельдмаршал Витгенштейн (участник войны с Наполеоном и главнокомандующий русской армией во время войны с Турцией 1828–1829 гг.), граф Бенкендорф (герой Отечественной войны и шеф жандармов), адмирал фон Беллинсгаузен (участник первого кругосветного плавания русских моряков), адмирал Врангель (морской министр, один из учредителей Русского географического общества). Всего в армии уже при Николае I служило более 150 генералов из немцев, а число офицеров учету не поддается.
Дипломатия. Министр иностранных дел Нессельроде, при котором Россия не знала ни одного дипломатического поражения, и целая плеяда его подчиненных, «блестящих», по оценке дочери Николая I великой княгини Ольги: Мейендорф, Пален, Матусевич, Будберг, Бруннов.
Финансы. В биографическом очерке, написанном в 1893 г., деятельность министра финансов при Николае I Е. Ф. Канкрина оценивается в самой превосходной степени: «Полное расстройство финансов, вызванное управлением Гурьева, сменилось процветанием. Дефицит был устранен уже в 1824 г., оскудение казны сменилось значительными запасами, у Канкрина всегда были деньги, но расходовать их без крайней надобности он никому не позволял, во всех отраслях государственного хозяйства установился образцовый порядок, бесконечное обобрание казны было искоренено, государственный кредит России достиг такой устойчивости, такого блеска, что наше отечество могло в случае надобности занимать на европейских рынках деньги на самых выгодных условиях, фонды наши ценились выше нарицательной стоимости».
Ну а на какие «крайние надобности» Канкрин деньги тратил? При поддержке Канкрина были основаны Технологический, Лесной и Горный институты, гимназии и школы с техническими отделениями в разных городах России, школы торгового мореходства в Петербурге и Херсоне, «мореходные классы» в Архангельске, рисовальная школа при Академии художеств с «отделением для девиц» и одним из первых в Европе отделений гальванопластики.
Гальванопластику тоже, кстати, изобрел осевший в России немец Якоби.
Одним словом, чтобы хотя бы перечислить десятки и сотни немецких фамилий, чьи обладатели оставили след в истории России, понадобилась бы толстая книга. Можно, не вдаваясь в подробности, сказать попросту: немцы были везде. Российскую Академию наук основали немцы – и именно они отправили учиться за границу своего будущего коллегу Михаила Ломоносова. Да и русские летописи впервые опубликовал немец Миллер – при сопротивлении Синода, считавшего, что летописи «полны лжи и позорят русский народ».
Первое русское кругосветное плавание – немцы Беллинсгаузен и Крузенштерн, фон Ромберг и Берх, фон Коцебу и фон Левенштерн. Первая русская железная дорога – немцы фон Герстнер и Таубе. Аптечное дело и медицина – снова немцы. Благотворительное общество попечения о заключенных и общество защиты животных – немцы. Основатель Пулковской астрономической обсерватории – немец Струве.
Храм Христа Спасителя начинал строить немец Витберг, а заканчивал немец Тон. Кроме того, в создании храма принимали участие архитекторы Клагес, Даль и Ра-хау, над главным иконостасом работал Тимелеон-Карл фон Нефф, а большинство фасадных рельефов изготовил Петр-Якоб Клодт фон Юргенсбург (родственник еще более знаменитого Петра Клодта, автора памятника Николаю I на Исаакиевской площади и «Укротителей коней» на Аничковом мосту. Гораздо менее известно, что аналогичные скульптурные группы Клодт изготовил для Берлина и Неаполя).
К слову, именно немецкие колонисты Поволжья в Крымскую войну главным образом и снабжали хлебом русскую армию и в Крыму, и на Кавказе.
Особый разговор – о роли немцев в российской экономике. Начнем с того, что первый в России стекольный завод в 1640 г. основал немец Ганс Фальк из Нюрнберга – Духонинский под Москвой. Он же занимался пушечным и литейным делом.
«Немецкое засилье» – явление, прямо скажем, неоднозначное. Не секрет, что электротехническая и химическая промышленность России практически едва ли не на сто процентов находилась в руках немцев. Как и значительное число предприятий металлургической промышленности. 70 % газовой промышленности контролировали опять-таки немцы.
Вот только это «засилье», оказывается, шло России исключительно на пользу, а уж никак не во вред.
В чем дело? Да в том, что меж германскими предпринимателями и англичанами с французами (равно как и разными прочими бельгийцами) была существенная разница. Англичане и французы главным образом качали из России сырье, им принадлежали в основном добывающие предприятия: угольные шахты, нефтепромыслы. К слову, золотые прииски на Лене, где в 1912 г. солдаты расстреляли демонстрацию рабочих, которые всего лишь требовали улучшения условий жизни, принадлежали английской компании «Ленаголдфилдс». Бельгийцы если и строили в разных городах трамвайные линии, прибыль от их эксплуатации вывозили из страны. Добыча сырьевых ресурсов и вывоз капитала – от чего самой России было мало пользы.
Немцы, наоборот, ввозили в Россию самые передовые технологии тогдашнего времени. Строили великолепно оснащенные по последнему слову техники заводы и производили промышленную продукцию не на вывоз, а для России.
Яркий пример – Акционерное общество русских электротехнических заводов «Сименс и Гальске». Исключительно немецкая фирма. Поставляла телеграфную и сигнальную аппаратуру для создаваемой телеграфной линии Петербург – Москва. Проложила телеграфные сети Москва – Киев, Киев – Одесса, Ковно – прусская граница, Петербург – Ревель, Гельсингформ – Петербург, Петербург – Варшава, Кавказ – Москва. Построила в Петербурге завод кабелей, проводников и углей для электрического освещения, Завод динамомашин, электротехнических приборов, телеграфных и железнодорожных сигнальных аппаратов, Завод электродвигателей, турбогенераторов, трансформаторов. Строила «под ключ» городские электростанции, асфальтовые заводы, производила электродвигатели для станков и прокатных станов, телефоны, рации, электролампочки и электромедицинское оборудование, а также электрооборудование для фабрик, заводов, рудников, шахт, приисков, железных дорог и трамваев. «Сименс и Гальске» даже изготовляла в немалых количествах мини-электростанции для усадеб и дач. И все это, повторяю, не на экспорт, а для использования в России.
Это уже не «засилье», а создание в России самых современных отраслей промышленности, связи и транспорта.
Точно так же четверть всего германского экспорта, идущая в Россию, состояла из станков, деталей машин, всевозможного промышленного оборудования, химических изделий. Навстречу уходила треть русского экспорта: зерно, мясо, сахар, лес. Отношения были взаимовыгодные, в лучшую сторону отличавшиеся от «товарообмена» с другими европейскими государствами, видевшими в России исключительно сырьевой придаток.
Вопрос: нужна ли при таких условиях не то что большая война, а просто вражда и напряженность в отношениях меж Россией и Германией?
Да ни в малейшей степени! Какой болван станет ссориться с крупнейшим и выгоднейшим торговым партнером?
В феврале 1914 г. один из умнейших людей России П. Н. Дурново, занимавший в свое время видные посты, подал императору обширную записку касаемо российско-германских отношений. Он писал, в частности: «Жизненные интересы России и Германии нигде не сталкиваются и дают полное основание для мирного сожительства этих двух государств. Будущее Германии – на морях, т. е. именно там, где у России, по существу, наиболее континентальной из всех великих держав, нет никаких интересов… скажу более – разгром Германии в области нашего товарооборота для нас невыгоден».
А вот о пресловутом «засилье»: «Что касается немецкого засилья в области нашей экономической жизни… Россия слишком бедна капиталами и промышленной предприимчивостью, чтобы могла обойтись без широкого притока иностранных капиталов. Поэтому известная зависимость от того или другого иностранного капитала неизбежна для нас до тех пор, пока промышленная предприимчивость и материальные средства русского народонаселения не разовьются настолько, что дадут возможность совершенно отказаться от услуг иностранных предпринимателей… но пока мы в них нуждаемся, немецкий капитал выгоднее для нас, чем любой другой. Прежде всего этот капитал из всех наиболее дешевый, как довольствующийся наименьшим процентом предпринимательской прибыли, мало того, значительная доля прибылей, получаемых на вложенные в русскую промышленность германские капиталы, и вовсе от нас не уходит, в отличие от английских и французских капиталистов, германские капиталисты и сами со своими капиталами переезжают в Россию. Англичане и французы сидят себе за границей, до последней копейки выбирая из России вырабатываемые их предприятиями барыши. Напротив того, немцы-предприниматели подолгу проживают в России и быстро русеют. Кто не видел, например, французов и англичан, чуть ли не всю жизнь проживающих в России и ни слова по-русски не говорящих. Напротив того, много ли видно в России немцев, которые хотя бы с акцентом, ломаным языком, но все же не объяснялись бы по-русски?»
Сегодня на наше отношение к Германии подсознательно влияют две мировые войны, в которых Германия была нашим главным противником…
Но ведь так было не всегда! К началу XX века меж Россией и Германией, русскими и немцами сложились совершенно уникальные отношения. Во-первых, немцы были единственной нацией, чьи представители в таком количестве обитали в России и внесли такой вклад в ее развитие. Во-вторых, меж Россией и Германией не существовало противоречий, которые требовали военного решения. В-третьих, экономические отношения меж Россией и Германией носили характер чего-то исключительного: немцы развивали нам передовые технологии (англичане с французами качали сырье), немцы не вывозили из России своих прибылей (англичане с французами вывозили), немцы, в противоположность прочим нациям, довольствовались самым низким процентом прибыли.
Черт побери, да это же наш стратегический союзник! Страна, с которой следует поддерживать отношения теснейшие, самые что ни на есть дружественные…
В особенности если вновь и вновь повторить: если не считать никому не нужной Семилетней войны, мы никогда не воевали с Германией.
Ну а что же являли собой в качестве «друзей» Англия и Франция?
Начнем с лягушатников. На протяжении всего XVIII века Франция вредила России где только могла: постоянно натравливала на Россию Турцию, которой помогала деньгами, оружием и дипломатическими усилиями – а кроме того, агенты французской разведки при Екатерине пытались устраивать диверсии на черноморских верфях, а еще раньше, при Анне Иоанновне, французский «ограниченный контингент» дрался с русскими в Польше (интересно, кстати, что французы там забыли, при их-то отдаленности от данного театра военных действий?) Наконец, в XIX веке французские войска дважды вторгались в Россию – при Наполеоне и в Крымскую войну.
А также французы старательно поддерживали в 1863 г. польских мятежников, совершенно с тем же пылом, с каким сейчас кое-где в Европе обнимаются с чеченскими эмиссарами. Одним словом, Париж на протяжении чуть ли не двухсот лет вел целеустремленную, осмысленную антирусскую политику, дважды прорывавшуюся масштабными войнами. Ну а в дальнейшем «теплые чувства» к России имели самую шкурную подоплеку: французам просто-напросто позарез требовалось пушечное мясо в немалых количествах – Россия должна была помочь людьми во время очередной агрессии Франции против Германии. Ни в каком другом качестве ни мы сами, ни наш богатый внутренний мир, ни наша духовность и культура французов не интересовали… Интересовала их только собственная выгода.
В точности так обстояло и с Англией. Со времен Николая I и до 1908 г. Англия и Россия, по сути, находились в состоянии необъявленной войны. При Николае Англия посылала оружие кавказским горцам, с которыми Россия воевала (можно представить, какая вакханалия поднялась бы в британской прессе и парламенте, окажись году в 1857, что русский корабль выгружает винтовки для восставших против Англии индийцев…) В Крымскую войну англичане совершили прямую вооруженную агрессию, высадившись на нашей территории. В 1863-м, во время польского мятежа, Англия хитрыми интригами пыталась спровоцировать новую франко-русскую войну или по крайней мере обострение отношений. Позже англичане немало поработали против России в Средней Азии, поставляя оружие и посылая военных советников всем этим осколкам средневековья – эмиру бухарскому, хану кокандскому. В 1902 г. Англия заключила антирусский по сути союз с Японией, после чего Япония, обретя крепкие тылы, и решилась напасть на Россию. К тому времени Англия уже построила для японцев немало боевых кораблей. Вооруженных, естественно, английскими орудиями – так что русские моряки вновь, как в Крымскую войну, погибали от осколков британских снарядов…
Был еще так называемый «Гулльский инцидент». В 1904 г., когда идущая в Японию эскадра адмирала Рожественского проплыла у английских берегов, однажды ночью русские корабли вдруг открыли огонь по английским рыболовным суденышкам. Поскольку, по утверждениям моряков, среди «рыбаков» вдруг появились идущие в торпедную атаку миноносцы, принятые за японские.
Англия подняла страшный шум, откровенно угрожая России войной. Все газеты поносили «безжалостных убийц мирных рыбаков». Россия тогда по не вполне понятным причинам (или вполне понятным, если вспомнить, что ее внешняя политика тогда находилась в руках неприкрытых англофилов) признала себя виновной, выплатила пострадавшим рыбакам и семьям убитых немалую компенсацию. Вот только десятилетия спустя, вернувшись к этой истории, отечественные морские историки нашли серьезные доказательства в пользу того, что некие загадочные миноносцы той ночью в том квадрате все же присутствовали – сами же гулльские рыбаки с одного из суденышек вспоминали, что неподалеку от них долго маячил «русский» миноносец, и ничем не помог, негодяй, людям на поврежденном траулере. Но в эскадре Рожественского ни единого миноносца не было, это никак не могли оказаться русские. Значит… Значит, чрезвычайно похоже на то, что миноносцы все же были, и атаку имитировали – но не японские, а английские. И цель английской провокации, между прочим, была достигнута: эскадре пришлось надолго задержаться у европейских берегов, пока шло разбирательство…
Ох, не зря «железный канцлер» Отто фон Бисмарк еще задолго до англо-русского союза говаривал: «Политика Англии всегда заключалась в том, чтобы найти такого дурака в Европе, который своими боками защищал бы английские интересы». Именно это с Россией британцы и проделали в Семилетнюю войну – а потом, уже в XX веке, Россия наступила на те же грабли, ввязалась в Первую мировую, не имея в том никакой стратегической надобности – а в конце концов лондонские «союзнички» не то что Россию оставили наедине с собственными бедами, но и императора Николая, по сути, отдали под расстрел…
И еще один немаловажный штрих… Вплоть до 1917 г. по всей Европе невозбранно болтались русские революционеры всех мастей и оттенков – и не просто отсиживались, а создавали центры боевой подготовки, где учили стрельбе и метанию бомб. Собирали деньги на революцию, открывали «партийные школы», закупали оружие едва ли не в открытую.
Единственная страна, где эти штучки не проходили, – Германская империя. Жить там русский революционер, в принципе, мог – но при малейшей попытке мутить что-то его брали за шиворот и объясняли, что здесь такое не проходит. А объявленных в розыск террористов и грабителей банков немцы моментально выдавали России, не устраивая, подобно Франции, митингов возмущенной «зверствами царизма» прогрессивной общественности. Меж тем во Франции, чтобы нормальным образом бороться с ускользнувшими туда бомбистами, русской заграничной агентуре приходилось втайне вербовать и покупать отдельных французских полицейских чиновников – потому что легально, законным образом добиться чего-то от французских властей было невозможно…
Как же случилось, что Россия и Германия при условиях, когда делить им было совершенно нечего, стали откровенными врагами, схлестнулись в ожесточеннейшей схватке?
Это был долгий и сложный процесс, и Россия определенно несет свою долю вины за происшедшее. Я вовсе не хочу, чтобы кто-то решил, будто я пытаюсь «переписать историю», поставить все с ног на голову и возложить исключительно на Россию вину за Первую мировую.
Ничего подобного. Просто… И в царской России, и позже, в России советской всю вину принято было возлагать на Германскую империю. А это, по моему глубокому убеждению, нисколько не способствует исторической правде. В игре самым активным образом участвовали две стороны. В Германии существовали свои «ястребы», которые до определенного момента отнюдь не правили бал, не делали погоды и не стояли у руля… Но и в России были свои «ястребы», немало потрудившиеся для того, чтобы разрушить прежние отношения с Германией, связать страну с Англией и Францией, бросить русскую армию против Германии! Вот только о них чуть ли не сто лет предпочитали умалчивать…
А ведь они были! И никуда не деться от того факта, что российская империя – ее министры, ее генералы, ее политиканы – несет свою долю вины за то, что события развернулись именно таким образом. За то, что случилась война, которую после ее окончания никто, разумеется, не называл еще Первой мировой – а попросту Великой…
Вот об этом долгом, сложном процессе, где столкнулись встречные амбиции, где с обеих сторон проявили неосмотрительность и заносчивость, где по обе стороны границы точили клювы «ястребы», я и собираюсь рассказать…
А для этого нам придется пройти по основным узелкам крепшего российско-германского противостояния, медленного скольжения в пропасть, занявшего почти полсотни лет.
И вернуться придется не куда-нибудь, а в 1865 г. от Рождества Христова, когда цесаревича Александра было решено женить.
В XIX столетии Большая Политика еще в огромной степени зависела от личности правящего в той или иной стране монарха – поскольку на карте тогдашней Европы кроме Франции значилась одна-единственная республика – Швейцарская конфедерация (истины ради следует добавить, что она не имела ни малейшего влияния на европейские дела по причине своей, скажем прямо, незначительности. До почетной и влиятельной роли «европейской кладовой» было еще далеко). Во всех остальных державах – и великих, и крохотных – чинно восседали на престолах императоры и короли, великие герцоги и князья.
(Въедливый читатель может меня поправить: мол, существовали еще и республики-крошки – Андорра и Сан-Марино. Я и сам помню. Но мы не в игрушки играем…)
Одним словом, от монарха зависело чрезвычайно много – от его личных пристрастий и мнений, от его убеждений и взглядов, от его успехов или неудач на любовном фронте, от его характера и интеллекта, даже, пожалуй что, от его настроения. Такая уж была эпоха, что поделаешь.
Так вот, в 1865 г. на двадцать втором году жизни умер наследник российского престола Николай Александрович – старший брат будущего императора Александра. Тот, кого как раз тщательнейшим образом, со всем усердием и готовили к роли императора. А вот Александра не готовили вообще, потому что никто не ожидал такого поворота событий.
Это, пожалуй, первый узелок – умер тот, кого готовили, а наследником стал человек, для которого это оказалось нешуточным сюрпризом. На примере Николая I мы убедились, что и «рядовой необученный» цесаревич способен проявить себя лучшим образом – но, по-моему, с Александром не тот случай….