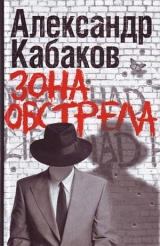
Текст книги "Зона обстрела (сборник)"
Автор книги: Александр Кабаков
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Так что же, что же это такое, мысленно заорал № 1, как же можно жить в этой жизни, где все, абсолютно все пронизано, словно бетон ржавой витой арматурой, этой проклятой любовью, которую ни теоретически определить, ни эмпирически удовлетворительно описать по основным признакам, ни даже от обратного нащупать – что же, хотя бы, не есть любовь?!!
Успокойся, не ори, мысленно оборвал себя № 1. Ну, нет любви. Можно это вытатуировать на плече. А развитие тезиса в такую наручную татуировку, конечно, не уместится, но его следует запомнить: любви нет, а есть только стремление любить.
От юношеского томления до старческого безумия.
От барахтанья всех со всеми до тонких измен.
И разврат есть не что иное, как попытка покончить с самой этой идеей, с идеей любви, развенчав ее, сделав все, чтобы свести ее к чепухе, к осязанию, но ничего не выходит и у разврата.
Такова любовь, решил № 1 в тот раз, и в природе есть и другие подобные явления. Истина, например, или абсолютный вакуум, или еще какой-нибудь абсолют. Или даже известная каждому дефективному линия горизонта, черт возьми, – вот она, но поди-ка достань. Пришел туда, где полчаса назад небо, высокое небо сходилось с грязной землей – да, грязная земля есть, вот тянется полуметровой глубины колея от грузовика и догнивает серо-желтая прошлогодняя трава по обочине, а небо далеко-о, и в нем колышется, расползаясь на волокна, ватный тампон облака.
И № 1 бросил – и на этот раз, заметим, как всегда, ничего не придумав, потому что, повторимся, шел от частного к общему, не понимая, что в данной области существует только частное и мгновенное – думать о любви, тем более что у него и без того хватало о чем подумать в свободное от работы (день-то между тем, вместе с совещаниями и всем прочим, уже давно кончился) время.
35
К примеру, № 1 мог бы обдумать, как должна быть устроена достойная жизнь.
Он и начал обдумывать.
36
Корней – вот чего не хватало № 1 в этой жизни больше всего. И нельзя сказать, что он сильно страдал от их отсутствия. Наоборот, склонен был с некоторой гордостью и даже самодовольством подчеркивать свою беспочвенность, возникновение из ничего – в основном мысленно, в нескончаемых разговорах с самим собой, а иногда и вслух, но мимоходом, чтобы, не дай бог, не показаться тому, с кем беседовал, самодовольным и приводящим себя в пример идиотом. Но в то же время постоянно ощущал свою неукорененность, считал, что многое в жизни он из-за этого потерял, а если что и приобрел, то вопреки.
То есть корни у него, как и у каждого, были, но он-то не чувствовал их опорой. И если бы ему сказали, что не в отсутствии корней дело, а в том, что по собственной воле он от них отказался и что укорененные люди отличаются от таких, как он, не качеством корней, а именно своей неспособностью отказаться от родового начала, – он бы стал спорить. Мол, от чего отказался-то? Что было, кроме физиологического акта возникновения, какой heritage – почему-то ему пришло в голову это чужое слово – он получил?
Ошибался, конечно. И более того: даже будь он прав, из этого не следовали бы изначальная ущемленность, худшие стартовые условия. Многие сказали бы ему, что, напротив, будучи перекати-полем, он обладает возможностями, не доступными привязанным к своему происхождению людям. Свобода, сказали бы ему, вот что ты получил, а уж от нее все пошло…
В общем, на вопрос о роли корней как основ личности применительно к собственной жизни № 1 ответить однозначно сам не мог, а соображения других людей ему то казались убедительными, то нет.
Но независимо от этого он часто перед сном думал о жизни, которая могла бы быть, родись он по-другому, в другой семье, или в другом месте, или в другое время. Мысли, ничего не скажешь, глупые, а для взрослого человека даже необыкновенно глупые, но, согласитесь, очень увлекательные.
Он представлял себе, понятное дело, не корни, где-то в подземельной темноте пронизывающие землю и местами вылезающие на поверхность узловатыми фалангами, а просто фамильное жилище.
Темные углы прихожей, на литых из серого матового металла двойных крюках вешалки тонкий сиренево-песочный пыльник, голубовато-серый коверкотовый макинтош и прорезиненный плащ, черный сверху и в мелкую черно-серую клетку с изнанки, солнечный столб, протянувшийся, как положено, от окна через всю гостиную и наполненный танцующим воздушным прахом, сильно скрипящие, но сияющие узкие дощечки паркета, черная, с красноватым оттенком на закруглениях резная мебель, шелковая полосатая обивка, вытертая местами до почти полной бесцветности и жемчужного блеска, разведенные на шарнирах в стороны медные канделябры чуть наклонившегося вперед из-за неровности пола пианино с овальным медальоном на верхней передней деке, неисправимо пыльные чемоданы с коваными углами на шкафу в спальне, сам этот шкаф, его мощный тяжелый низ и зеркальная дверь, открывающаяся немного косо, отвисая на ослабевших шурупах длинных петель, при этом в зеленоватом зеркале с широко срезанными фасками едет в сторону спальня, неубранная постель с толстым атласно-голубым горбом стеганого одеяла, выпирающим из ромба посреди пододеяльника, настежь открытая высокая форточка в уборной, болтающийся перевернутым скорописным Т крючок на ней, желтая лакированная подкова деревянного сиденья, цепочка спуска с как бы сложенными вдвое звеньями и фарфоровой грушей внизу, свисающая от чугунного, крашенного шершавым белым маслом бачка, забытый том Жюля Верна в голубом ледерине, стоящий, распушив страницы, на желто-розовых шашечках пола, четвертушками нарванная газета в шелковом мешочке с вышитой болгарским крестом угловатой розой, и шум, доносящийся в тишину дневной пустой квартиры из глубокой пропасти улицы, от редко проезжающего двухэтажного троллейбуса, или длинного английского автобуса с тупым носом, или маленького автофургончика с деревянными боковинами, развозящего мороженые торты, или газогенераторного грузовика с высокой как бы печкой и трубой сбоку кабины, или двухцветного, вишневый низ, кремовый верх, лимузина, летящего к стадиону, – белые, неразличимо крутящиеся обода, мечущий солнечных зайчиков на тротуар хром оскаленного мелкой решеткой радиатора, – если лечь животом на шелушащийся белой краской подоконник, все видно, хотя далеко внизу и сплющено…
На этом месте – или немного раньше, или чуть позже, додумав уже до собственных белых носков-«гольф» с кисточками вверху (так никогда их ему и не купили!), – № 1 обычно засыпал, спокойный и почти примиренный с миром, как будто и на самом деле была когда-то в его жизни такая жизнь, как будто и сейчас он может встать, зажечь свет и увидеть все это, оставшееся ему и предназначенное остаться после него.
Но иногда он как-то пропускал момент засыпания, и тогда картинки начинали путаться.
…наплывала большая дача, нагромождение всяких террасок и верхних пристроечек, почти скрывших сруб, мягкие желтые сосновые иглы на земле…
…утреннее купе, подстаканники с выдавленными буквами «НКПС» и сильно сужающимся в перспективу паровозом, разрезанные вдоль огурцы и раздавленная яичная скорлупа, мечущиеся под ветром батистовые занавески на стальном, выпадающем из гнезд пруте…
…шоколадно-коричневый автомобиль с круглым тяжелым задом, широкое и высокое заднее сиденье, с которого никак не рассмотреть громко тикающие впереди, рядом с бежевым кругом руля, часы…
А иногда начинали появляться и запахи:
дорожный – сероводородный, угольной вокзальной гари;
праздничный – ванильный, идущий из кухни;
утренний – легкий, приятно пыльный, из круглой картонной коробки с зубным порошком, когда с нее снимается выпуклая крышка;
и так далее.
В этом случае № 1 действительно вставал и зажигал свет, потому что было понятно, что сон уже отступил полностью, – запахи несуществующих, выдуманных воспоминаний свидетельствовали, что перевозбудился.
Вокруг, естественно, не было ни паркета, ни резьбы, ни зеркальных шкафов, а было то, что было. И следовало принимать меры, принимать внутрь – желтых шариков валерьянки горсть, или глотнуть валокордина неплохо, или… Ну, сами понимаете. Конечно же, ничего не помогало, сон исчезал бесследно, а дальше и начинались муки: ну почему же не было этого у меня и почему же не засчитан мне гандикап, ведь у многих было, а у кого не было такого, было другое, не хуже – сибирская деревня, или лагерный барак, или, допустим, настоящая лубочная коммуналка, с велосипедами и корытами по стенам…
У него же позади была пустота.
Так ему казалось.
Не будем ни соглашаться с ним, ни судить его за такое легкомысленное отношение к своей личной истории, просто примем к сведению: такой человек.
И чем же такому человеку заняться в три часа ночи, если не спится, а выдумывать свою неслучившуюся судьбу больше не хочется?
Правильно.
37
Второй стандартный сюжет.
ПОБЕДИТЕЛЬ ПРОЕЗДОМ
Рассказ героя
Вечером я уехал из этого города навсегда.
Не стану утомлять вас деталями, скажу только, что в жизни моей к тому времени в очередной раз исчерпались все возможности ее продолжения. Мне только что сравнялось тридцать четыре года, у меня не было жилья, семьи и каких бы то ни было средств, зато три человека хотели и уже несколько раз пытались меня убить, а еще человек десять им в этом если и не помогали, то сочувствовали. Перспективы были ясны: довольно скоро в одном из проходных дворов, между дровяными сараями или на заброшенной волейбольной площадке вышедший на рассвете бессонный старик обнаружил бы тело крупного мужчины, убитого выстрелом в затылок. Опознание было бы затруднено отсутствием документов и лица, разнесенного в клочья люгеровской пулей на выходе. Вот и все. Рассказывать о причинах, из-за которых меня ожидало именно такое будущее, не могу: во-первых, не только мои секреты, во-вторых, какое значение имеют причины? Так сложилось, виноват был, конечно, больше всего я сам – единственное, что мне всегда удавалось, так это испортить себе существование.
Профессия у меня странная, если это можно назвать профессией: я решаю чужие проблемы.
Например, какой-нибудь человек просит, чтобы в течение некоторого времени я постоянно сопровождал его – он ожидает встречи с другим человеком, при которой обязательно должен быть свидетель. Но его трудность заключается в том, что, если свидетель будет сразу заметен, встреча не произойдет, к нему просто не подойдут. Значит, я должен появиться только тогда, когда все уже началось и вот-вот будет сказано важное. Меня рекомендовали как вполне способного справиться с задачей, и притом за весьма скромное вознаграждение. То и другое – правда. На ключевом слове я спрыгиваю с крыши трансформаторной будки, возле которой назначено свидание. Это больше четырех метров. Но я прихожу на асфальт правильно, ноги вместе, без падения, и тому малому просто некуда деваться, и он отдает моему клиенту то, что принес…
Увы, случайно встречу видит еще и свидетельница, и дальше начинается. Ее держат взаперти на даче, друзья ее любовника – нет, кажется, отца – начинают настоящую войну, чтобы ее освободить… И так далее. Уже рассказывал.
Или, предположим, некая дама преследует бывшего любовника. А его жена, естественно, хочет это преследование прекратить и просит меня что-нибудь сделать, чтобы дама успокоилась. Но мне это дело не нравится: преследовательница – существо несимпатичное и ведет себя отвратительно, однако из этого еще не следует, что я должен переломать ей ноги или изуродовать лицо. Я отказываюсь от такой работы и, хотя знаю людей, которые за это могут взяться, не называю их заказчице. К сожалению, она находит их сама. Они успевают несколько раз довольно сильно ударить бедную бабу, так глупо и неудачно влезшую в чужую налаженную жизнь, прежде чем я добегаю до них от подъезда… Тоже знаете.
А однажды меня разыскал некий господин, у которого возникли сложности столь существенные, что он был вынужден немедленно умереть. Вот о помощи в организации его внезапной смерти он и просил. Естественно, такая работа потребовала множества вещей: брошенного на перилах моста пальто с документами и запиской, нового паспорта, сопровождения в другой город… А потом работодатель отказался выплатить мне оговоренную сумму, пришлось объяснять ему, что он еще не настолько покойник, чтобы смело отказываться от обязательств. Был серьезный конфликт. Об этом я раньше вам не говорил, да и сейчас не хочу…
В общем, нечего удивляться, что такая деятельность кончилась тем, чем кончилась.
На последние деньги я купил билет, сел в ночной поезд и уехал от всей этой плывущей назад вместе с плохо освещенным перроном закончившейся моей жизни.
Ночью за окном вспыхивали синим светом и проносились яркими расплывающимися полосами прожекторы, на станциях орала громкая связь, и ползла следом за поездом зубчатая тень леса на горизонте. В купе было жарко, пахло паровозным дымом, спящими людьми и дорожной едой. Я дремал, просыпался, думал о прошлом и будущем, быстро приходя к всегдашнему заключению, что нет ни того ни другого, и снова дремал.
Положение мое было хорошо своей полной безнадежностью. Из таких обстоятельств выход находится всегда, и всегда хороший, поскольку из нижней точки можно только подняться. К тому же помогает полная свобода действий, ведь в отчаянной ситуации тебя не ограничивает ничто и ничто не пугает.
Так я и дремал, двигаясь все дальше на восток от того города, где жил с рождения и ничего не оставил, уехав.
Я проснулся от грохота дверей, как мне сначала показалось, но почти сразу же понял, что не только откатывающиеся по всему вагону двери меня разбудили. В момент моего выхода из сна ударил пистолетный выстрел, вот что было. В вагоне выстрелили из какого-то мощного оружия, маузера или большого вальтера.
Я открыл глаза. Дверной проем, за которым в коридоре сиял неестественно яркий для ночи свет и торчал черный силуэт, словно мишень в рост. Я знал, что в тех краях, через которые мне предстояло ехать, водятся опасные люди, и представлял, как они выглядят, – в городе об этом ходили слухи. Силуэт соответствовал описаниям: длинный и широкий балахон с капюшоном вроде рыбацкого плаща, в правой руке – поднятый вверх стволом пистолет, по очертаниям офицерский люгер.
Поезд стоял, за окном было тихо и темно. Значит, нас остановили на перегоне.
Вооруженный человек сделал шаг в купе и стащил одеяло с моей соседки. Женщина села и отодвинулась в угол между стенкой и окном. Обеими руками она зажала рот, из глубины ее тела раздавался тихий звук, это был не плач и даже не писк, а как бы скрип, словно что-то в ней медленно и с натугой двигалось. Может, это пряталась, забивалась вместе с нею в угол ее душа.
Вечером мы говорили с нею о жизни в городке, в котором она должна была сойти в пять утра. Рассказывала она о вещах жутковатых, но мне не было до них дела, я ехал дальше. Сейчас светящиеся стрелки моих часов, которые я положил на столик рядом с постелью, показывали четыре десять. То, что на нас напали на подъезде к этому забытому богом и законом городку, вполне подтверждало ее рассказ…
Бандит, не глядя, ткнул в мою сторону стволом – лежи и не лезь, мол, – и, резко нагнувшись, схватил женщину за распущенные волосы и потащил с постели.
Тапки, почему-то шепотом сказала она, тапочки надеть… Не замерзнешь, тоже тихо сказал человек в плаще, лето.
Женщина раскинула руки в стороны, пытаясь удержаться в двери. Он теперь оказался позади нее, спиной ко мне, а она все упиралась, цеплялась за стены и крюки для одежды. Он отпустил ее волосы и поднял правую руку с пистолетом – видимо, ему не так уж важно было вывести ее из купе, и он решил разбить ей голову рукояткой прямо здесь.
Под моей подушкой лежал кольтовский револьвер с коротким, два с половиной дюйма, стволом. Но открывать стрельбу мне не хотелось, людей в балахонах в вагоне было, видимо, много, и начинать громкую войну против них не стоило.
Поэтому я воспользовался своим складным ножом, который с вечера, когда попутчица резала им хлеб и ветчину, остался на столике под брошенной на него салфеткой.
Мне повезло: нож лежал раскрытым.
Удерживая тело от падения, точнее, просто не выпуская рукоятку ножа, торчащего из шейной ложбинки под затылком, я левой рукой вдернул женщину в купе, закрыл и запер дверь.
В коридоре снова ударил выстрел, крик там стоял непрерывный.
Времени было маловато – следующий желающий проинспектировать наше купе мог рвануть дверь через секунду. Поэтому я полотенцами привязал руки мертвеца к поручням по сторонам от двери, так что тело повисло, будто человек пытался влезть на вторую полку, да так и заснул. Я потратил на это с минуту, зато теперь у нас появилась дополнительная защита.
И поступил я совершенно правильно: дверь рванули и, обматерив замок странно высоким голосом, выстрелили прямо в середину дверного полотна. Револьверная – скорее всего, из старого нагана – пуля, пробив два слоя обшивки из твердого пластика и труп, кстати, отличный гаситель энергии, сорвала клеенчатую ночную штору с окна, но даже не разбила стекло, лишь покрыла его паутинными лучами трещин.
Не переставая зажимать женщине рот и придавливая ее всем своим телом к боковой стенке – тишина за дверью после выстрела означала, что там прислушиваются: не застонет ли раненый, не охнет ли испуганный, и уж тогда купе расстреляют как следует, – из этой крайне неудобной позиции я дотянулся до края окна и осторожно глянул наружу.
Я увидел, как и ожидал, человека в брезентовом балахоне. От дальнего конца вагона, где, видимо, был поставлен караулить, он, пригнувшись, двигался к нашему окну, привлеченный и напуганный грохотом выстрела и звоном стекла.
Только я успел отодвинуться, как снаружи по стеклу сильно ударили, оно осыпалось мелкой крошкой, за край рамы ухватилась рука в кожаной перчатке, другая, с зажатым в ней пистолетом, медленно вдвинулась в купе, а следом появилось и почти скрытое под капюшоном лицо.
В ту же секунду из коридора на звук разбитого стекла выпустили длинную автоматную очередь. Голову в капюшоне отбросило, человек с коротким криком рухнул на землю.
Если бы те, кто был в коридоре, не опасались ответной стрельбы, теперь они уже могли бы просто заглянуть в купе: очередь проделала в двери порядочную дыру и сорвала повешенный труп. Но подставлять свой глаз под выстрел никто не спешил – в коридоре снова стало тихо, прислушивались.
Поэтому было очень сложно достать свое оружие, вытолкнуть в окно попутчицу и выпрыгнуть самому – все беззвучно и примерно за сорок – сорок пять секунд.
Забирать у лежащего на насыпи мертвеца его большой браунинг я не стал. Конечно, лишним мне этот мощный пистолет не был бы. Но самое главное сейчас было – сохранить картину ситуации «друг друга нечаянно постреляли». Тот, что лежал в купе, был превращен пулями в такое решето, что лишнюю дырку в шее под затылком заметил бы только судебный медик, а его бандиты вряд ли станут вызывать. Полотенца развязались и просто висели мятыми тряпками. Свой рюкзак и сумку женщины я прихватил, прыгая из окна. По залитым кровью постелям уже нельзя было понять, спал ли на них кто-нибудь этой ночью или нет. А человек в брезентовом плаще, упавший под окном навзничь – так, что ноги его на насыпи были выше головы, свесившейся в водоотвод, – должен был довершить картину полнейшей бестолковщины, царившей в рядах нападавших: тебя поставили у тамбура, так и стой, а полез куда не следовало, ну и нарвался на пулю от своих…
Словом, мое присутствие и тем более участие в происходившем не просматривались. Что было крайне важным условием выполнения моих планов, возникших за последние минуты.
В редком, насаженном вдоль дороги лесочке, называемом в моей стране лесополосой или просто посадкой, мы нашли заросшую травой просторную яму, скорее всего, искусственного происхождения, след какого-нибудь не там, где надо, вкопанного столба. В ней мы присели передохнуть. К счастью, вылетев из окна, спутница моя ничего не ушибла и не вывихнула. Поэтому она могла идти и даже бежать, но, увы, ничто не отвлекало ее от страха. В этом смысле боль иногда бывает очень полезна…
– В городке они нас все равно убьют, – сказала она. – Это их городок. Найдут и убьют. Они никого из поезда не выпускают. Если берут поезд, так уж никого живых не остается… И нас убьют.
– Не думаю, – сказал я. Говорить не хотелось, но если бы я не ответил, она продолжала бы твердить свое, окончательно впадая в безнадежность и, соответственно, теряя силы. – Не убьют…
Приоткрыв рот, она ждала окончания фразы.
– …потому что я убью их раньше.
В городок мы вошли около полуночи…
Но и этот сюжет, один из самых любимых, № 1 не стал последовательно додумывать до конца.
38
Тем более что додумывание не имело смысла, поскольку сюжет был уже тысячу раз им додуман раньше, а еще до него тысячу, или десять тысяч, или черт его знает сколько раз не только додуман, но и воплощен в рассказы, романы, пьесы и фильмы – в основном японские и их американские реимейки. Ну, странствующий рыцарь, или старый моряк, или благородный мошенник, или беглый невинный каторжник, или самурай, или одинокий rider, или raider, или ranger, или хрейнджер какой-нибудь случайно попадает в заколдованный замок, или на захваченный пиратами корабль, или в маленький городок, или в деревню, захваченную бандитами. Бандитов (драконов, пиратов, самураев-дезертиров) много, они абсолютные гады – впрочем, доведенные до такого гадства жестокими социальными условиями, но об этом вскользь, потому что гады представляют собой могущество зла в чистом виде. А герой представляет уважаемое всеми добро с кулаками, или с мечом, или с кривым морским палашом и кремневым пистолетом, снаряженным отсыревшим порохом, или с револьвером Colt Frontier модели 1878 года и карабином Winchester 1894, или с армейским пистолетом Beretta-M92F и помповым дробовиком Remington 870 Express… Дальше, конечно, добро, умело разнообразя способы, конкретно «мочит» превосходящие силы зла и, слегка покалеченное, уезжает вдаль своим одиноким путем, сожалея, что не судьба осесть навсегда среди спасенных им простых и добрых людей, завести семью хотя бы вон с той очаровательной сиротой… Эх, не судьба… Музыка, коду!
39
Детский сад, скажете, – думал теперь № 1 почему-то с озлоблением, вместо того чтобы спокойно наслаждаться придумыванием сказки в полусне, – ни черта не детский сад! И нет и не может быть никакого взрослого, по крайней мере взрослого мужчины, которому «Остров сокровищ» доставил бы меньшее счастье, чем… а, не знаю, титул им легион, считайте хоть от сумасшедшего маркиза, хоть от рехнувшегося врача, хоть от съехавшего на проститутках парижского американца. Да, классики они. Да, гении. А все равно от победы хорошего и здорового мужика над всякой мразью кайфа больше, чем от победы этой мрази внутри мужика…
С кем уж так ожесточенно № 1 спорил – неизвестно. Он часто мысленно воевал с теми, кого невежливо и, возможно, несправедливо называл говноедами, вкладывая в это слово некое комплексное понятие, которое иначе пришлось бы определять – да и то неточно – несколькими словами. Например: «убежденные противники романтизма, приверженцы негативного взгляда на человеческую природу, исследователи и певцы зла». Или, следуя как раз романтической школе определений: «слуги дьявола».
Вот как его разобрало!
40
Впрочем, довольно скоро он остыл. То есть не так уж и скоро, а только к утру. Если вы помните, придумывать своего одинокого героя он начал около трех ночи. Так что за этим занятием и мысленной жесточайшей полемикой с представителями противоположных эстетических (он считал, что и этических тоже) взглядов провел больше четырех часов и в начале восьмого встал совершенно разбитым.
То есть это здесь просто так написано, что, вот, жил человек, по мере сил изолировался от окружающей жизни в разных воспоминаниях, фантазиях и размышлениях, а сам понемногу спивался, разрушал здоровье неумеренными привычками и неуклонно шел к смерти, преждевременной и болезненной, и однажды утром…
А на самом деле ничего такого не было, а был лишь фантом, существовавший исключительно в этом, который вы читаете, тексте, и в начале восьмого фантом встал совершенно разбитым…
Нет. Опять получается глупость.
Лучше так: бросим все это занудство. Попробуем пересказать замысел окончательно краткими словами и перейдем к дальнейшему описанию событий, которые, как ни крути, все же происходили и с героем, и, соответственно, с его прототипом-автором, поскольку герой, конечно, да еще и названный № 1, является не кем иным, как alter, как говорится, ego самого рассказчика, который…
Хватит.
41
Я опасливо шел по заснеженной и скользкой Москве, еле-еле поднявшийся утром с жесточайшими болями в правом боку после вчерашнего бессмысленного пьянства, и думал о смерти.
Мысли эти, давно ставшие привычными, не то чтобы пугали и удручали, но придавали дню некоторый дополнительный к декабрьскому отчаянию оттенок решимости. В таком настроении – да еще и окончательно не протрезвев – человек способен на многое. Нет, не на суицидную попытку, о которой, конечно, вы прежде всего подумали, на улице самоубийство среднему, психически не совсем бракованному экземпляру в голову не приходит. Скорее вот какое было состояние: ну и пусть! В этом состоянии прежде всего решаешься еще выпить, несмотря ни на что. Затем, выпив, куда-нибудь кому-нибудь звонишь – решив как раз перед тем никогда первым не звонить. Затем еще выпиваешь – благо теперь у нас в стране для этого подходящих мест хоть залейся и средств достаточно совсем небольших – и понеслось!..
Так все и случилось.
Он выпил. То есть это я выпил. В смысле, выпил № 1. Поскольку, выпив, я немедленно понял глупость и беспричинность своего решения отказаться от лирического героя и покончить с Номером Первым на исходе уже написанной части текста. Почему? Зачем это надо – отказываться от такого симпатичного лирического героя, кокетливого и безвредного, да еще с таким отличным, удобным номерным именем? Нет уж, пусть № 1 и дальше тащится по страницам, выдумывая всякий бред и начиная его пересказывать, рефлектируя по любому поводу и тут же отвлекаясь, страдая от глубокого сочувствия к себе и натыкаясь на фонарные столбы… Пусть у него будет собственная какая-никакая история, но пусть в нем легко угадывается и автор – что ж? Разве автор чем-то хуже любого другого и не может быть героем? Такой же человек, как и все, и те же права имеет.
Короче, № 1 шел по скользкому под снегом московскому асфальту и думал о том, что если так пить, то обязательно скоро умрешь, а по-другому он пить не может.
Мысль эта, хотя и привычная, давно лишившаяся первоначальной энергии, когда-то, во времена первых вспышек, в ней заключенной, все же отвлекла от передвижения по пересеченной столичной местности, и пешеход на короткое мгновение утратил необходимую координацию движений. Нога чуть легче, чем следовало, не совсем точно встала на зимнее покрытие родной городской почвы, трение между подошвой – вообще-то нескользкой – и настом резко уменьшилось благодаря тончайшей водяной прослойке и силам поверхностного натяжения… И не успел бывший инженер осмыслить физическую природу явления, как его
повело в сторону,
подбросило,
руки его взлетели, будто он намерился хлопнуть себя в изумлении по бокам (при этом в левой взлетел и тяжелый, внесший дополнительный дисбаланс портфель со всяким газетно-журнальным барахлом),
и всею правой стороной, включая лоб под вязаной шапкой, дужку очковой оправы, бок сверху донизу и колено, несчастный трахнулся о фонарный столб и об укрепленный на этом столбе рекламный щит.
Будьте же прокляты отныне и вовеки сигареты Sovereign, естественно подумал № 1, вместе с их английским качеством!
Последствия – частично наступившие сразу, частично обнаруженные вечером, когда разделся, – оказались менее разрушительными, чем могли быть. Очковую дужку он выправил немедленно, зажав портфель между ног: просто разогнул до первоначального вида. Лоб потрогал и убедился, что шишка без царапины и крови нет. Одежду справа отряхнул от перешедшей на нее со столба грязной влаги – почему столб не только мокрый, но и грязный, думать не стал, просто обругал страну. Постоял немного, прислушиваясь к общему сотрясению организма и саднящим отдельным его частям, убедился, что существенных повреждений нет, и пошел дальше осторожно.
Но ход его размышлений после столкновения с реальностью резко изменил направление. И теперь № 1 уже не думал конкретно об алкоголизме, а вообще о жизни.
42
Самой большой загадкой для него – несмотря на вполне зрелые и даже немолодые годы, достигнув которых, люди обычно худо-бедно разбираются в тайнах мироздания и человеческой природы – оставалось само отделение человека от окружающего. Формулировка невнятная, поэтому попробуем проиллюстрировать ее путем описания несложного эксперимента.
Возьмем человека и посадим его в обычную комнату. Ковер протертый, стол письменный под бумажным культурным слоем, кресла, диван, укрытый пледом, шкафы с прочитанными большею частью книгами, умеренный налет пыли на всем, серый свет из окна… И никого больше нет во всей квартире, кроме нашего несчастного подопытного. Тишина, только иногда за сухой штукатуркой ненесущей стены тихо стонет местное привидение – поселившееся, скорее всего, в старых трубах и забитых мусором вентиляционных ходах. Тишина… Проходит пятнадцать минут, полчаса… Испытуемый старается мысленно определить свое место во Вселенной. Он вспоминает мелкие подробности давно минувших событий, чтобы удостовериться в своем в тех событиях участии; он прислушивается к перистальтике собственного кишечника, чтобы получить подтверждение физическому присутствию тела в пространстве; он одновременно старается проследить и зафиксировать сами эти умственные процессы, надеясь таким образом уверить себя и в психических проявлениях принадлежащей ему личности…
Истекает час.
После чего несчастный плюет на безрезультатные усилия, придя к твердому относительно себя убеждению, что не существует, что является фикцией, духовной рябью на поверхности всеобщей Пустоты (она же Ничто, она же Все, она же Бог), и идет на кухню варить сосиски.
Тому, чья бездумная самоуверенность подсказывает другой вывод, мы предлагаем проделать описанный опыт над самим собою – и, если у него хватит терпения и беспристрастности, он будет вынужден согласиться с нашими заключениями.
Мыльный пузырь, взявшийся из ничего, из мутной жидкости; и вдруг раздувшийся; засиявший всем спектром «каждый охотник желает знать, где сидит фазан»; заключивший в себе строго определенную часть пространства; и поплывший, неся это пространство в себе, по воздуху; озаряя радугой недалекое окружающее; пересекая косой пыльный столб, тянущийся от окна – и вдруг погасший; превратившийся в небольшое количество микроскопических брызг; исчезнувший навсегда.








