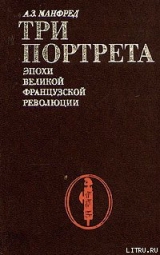
Текст книги "Три портрета эпохи Великой Французской Революции"
Автор книги: Альберт Манфред
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 31 страниц)
Эти гражданственные стихи весьма важны и для того, чтобы понять строй мыслей, чувств Руссо, когда он впервые переступил порог особняка Дюпенов в Париже, а затем стал его завсегдатаем.
Конечно, не следует изображать все упрощенно, прямолинейно; это никогда не бывает полезным. Исследователи не располагают письмами Руссо тех лет, раскрывающими его внутренний", духовный мир. Но у них есть произведения предшествующего и последующего периодов, и по этим неполным данным, прибегая к необходимой в определенных случаях дивина-ции – отгадыванию, по этим косвенным признакам исследователь должен суметь восстановить, реконструировать неизвестное или известное лишь частично.
Так вот, Руссо, оказавшись впервые в великолепном особняке госпожи Дюпен, в обществе самых знаменитых людей Франции, должен был ощущать прежде всего робость, смущение, неловкость. Бедный клерк из маленького поселка глухой провинциальной Савойи, неудачливый музыкант, вчерашний бродяга, человек, не имевший ни кола ни двора, – он должен был, естественно, испытывать смутные, противоречивые чувства, приглядываясь к этому великолепию, к этому яркому, парадному миру, которого он никогда не видел.
Конечно, вначале он только приглядывался; все возбуждало его любопытство, интерес. Он старался отмалчиваться, отвечал коротко, односложно; он слушал с жадностью, со вниманием, что говорили другие. Он приехал в Париж с твердой, устойчивой враждою и недоверием к богачам, к вельможам, к крезам. Но вот теперь он оказался в доме богатых, очень богатых людей. Их постоянными гостями были вельможи – министры, высшие сановники или самые знаменитые, уже прославленные во всей Европе литераторы и ученые. До сих пор крезы – богачи, вельможи – были для него отвлеченными понятиями, собирательными именами. Он никогда не видел их близко, тем более никого из них не мог знать лично; лишь изредка, сторонясь на обочину дороги, он глотал пыль, поднятую промчавшимся мимо него великолепным экипажем. Может быть, он ошибался? Может быть, в действительной жизни все иначе? Ведь люди, с которыми он встречался в доме Дюпенов или у маркизы де Бройль, были, внешне по крайней мере, приятные, обходительные, любезные господа.
Может быть, эти иллюзии или сомнения, колебания длились несколько недель? Может быть, даже месяцев?
Но нельзя забывать: то был человек, пришедший с самого дна жизни, с предубеждением, с недоверием к этому праздничному, нарядному миру богатых и знаменитых. И у него был тонкий слух и зоркий взгляд и быстрая, мужицкая, как сказал бы Лев Толстой, смекалка. Человек из народа, он был, конечно, с хитринкой, он помалкивал до поры до времени, он посматривал по сторонам; он все видел, все слышал; ничто не оставалось для него незамеченным.
Пройдет время, и постепенно, день за днем, может быть даже медленнее, чем можно было ожидать, он во всем разберется.
«С тайным ужасом вступаю я в обширную пустыню, называемую светом…
А ведь встречают меня весьма радушно, по-дружески, предупредительно, принимают, расточая знаки внимания… Поначалу, попав сюда, приходишь в восхищение от мудрости и ума, которые черпаешь в беседах не только ученых и сочинителей, но людей всех состояний и даже женщин: тон беседы плавен и естествен; в нем нет ни тяжеловесности, ни фривольности; она отличается ученостью, но не педантична, весела, но не шумна, учтива, но не жеманна, галантна, но не пошла, шутлива, но не двусмысленна. Это не диссертации кг не эпиграммы; здесь рассуждают без особых доказательств, здесь шутят, не играя словами; здесь искусно сочетают остроумие с серьезностью, глубокомысленные изречения с искрометной шуткой, едкие насмешки, тонкую лесть с высоконравственными идеями. Говорят здесь обо всем, предоставляя всякому случай что-нибудь сказать…»49
Это выдержки из письма к Жюли молодого швейцарца, прибывшего в Париж. За этим письмом последует второе, третье. Приезжий делится своими впечатлениями; чем больше он вращается в столичном обществе, тем яснее ему становится, как многообразен свет и как трудно его изучить. В этом новом для него обществе иностранец, не обладающий ни громким именем, ни положением, должен держать себя так, чтобы суметь понравиться. «Я стараюсь, насколько это возможно, быть учтивым без двоедушия, услужливым без низкопоклонства…» Человек сообразительный и наблюдательный, он постиг без особых усилий это искусство нравиться, и теперь от него, иностранца, больше ничего не требуется, он избавлен от участия в кознях и распрях; и «если он не высказывает каким-нибудь женщинам невнимания или, напротив, особого предпочтения, сохраняет тайну того круга, где он принят, в одном доме не высмеивает другой, избегает доверительных бесед, не вздорит, повсюду держится с достоинством, – он может спокойно наблюдать свет, сохранять свои нравственные устои, честь…».
И вот он поднимается все выше по ступеням тайной иерархии, существующей в столице королевства. «Итак, меня стали принимать в не столь многочисленном, но зато в избранном обществе… Ныне я посвящен в более сокровенные тайны. Я присутствую на званых вечерах – в домах, где двери закрыты для непрошеного гостя…» Здесь, в узком кругу, и женщины ведут себя менее осмотрительно, и важные господа злословят острее и язвительнее; здесь никто не сердится, не негодует – все высмеивают и вышучивают.
Приезжий молодой человек – ко всем внимательный, со всеми любезный – постепенно постигает этот особый замысловатый язык, которым, «якобы стремясь затемнить смысл насмешки, делают ее еще язвительнее». Он начинает понимать, что в этом избранном обществе «тщательно оттачивают кинжал под тем предлогом, что это уменьшает боль, в действительности же дабы нанести рану поглубже». Он начинает постигать тайны этого внешне столь привлекательного мира.
Это выдержки писем Руссо из Парижа? – спросит недоумевающий читатель. Нет, конечно. Такие письма неизвестны науке. Но все приведенные отрывки из писем принадлежат перу Жан-Жака Руссо. Это письма знаменитого героя «Новой Элоизы» Сен-Пре из Парижа к его возлюбленной Жюли д'Этанж50.
Помилуйте! – воскликнет иной раздосадованный читатель. – Как же можно сопоставлять Жан-Жака Руссо с героем его собственного произведения?
Если подобные сопоставления имеют вообще какой-то смысл, то в наибольшей мере они оправданы именно в данном случае. Все рассказанное ранее о молодом Руссо, надо надеяться, полностью исключает всякую допустимость числить его идейным предшественником растиньяков. И если искать для Руссо 40-х годов какого-то сопоставления с известными литературными героями, ставшими именами нарицательными, то, вероятно, правильнее всего было бы сближение его со знаменитым литературным героем XVIII века, любимым детищем писателя – с Сен-Пре из «Новой Элоизы».
Более того. Как о том рассказал сам Руссо в «Исповеди», как это справедливо отмечали исследователи его творчества, «Новая Элоиза» – роман в значительной мере автобиографический. Руссо был, конечно, писателем с выдумкой; он умел сочинять, придумывать, фантазировать; без этого он не стал бы основоположником сентиментализма в литературе. Вместе с тем – и это нетрудно подтвердить анализом его произведений – благодаря своей цепкой памяти он был поразительно точен, почти педантичен в воспроизведении подробностей, характерных деталей изображаемых им сюжетов, будь то природа или беседа собравшихся за столом гостей. Вот пример. H. M. Карамзин, посетивший в 1789 году Швейцарию, побывав в Кларане и других местах, описанных в «Новой Элоизе», был поражен тем, насколько достоверно воспроизвел Руссо в романе природу, приметы лесистой местности, где разыгрывалась трогательная история любви Сен-Пре и Жюли51.
Конечно, должно быть принято во внимание, что «Новая Элоиза» создавалась писателем в 1756-1758 годах и отпечаток минувших двенадцати – пятнадцати лет не мог не оставить следа на картине жизни парижского света, в который вступил приезжий молодой человек из Швейцарии. Было бы, конечно, неправильным принимать изображаемое в романе за протокольно точную запись поведения Жан-Жака Руссо в Париже в первой половине 40-х годов.
Но при всех сделанных оговорках можно ли пренебречь этим литературным памятником более позднего времени для понимания места и роли Руссо в парижском свете сороковых годов? Ведь устами Сен-Пре говорит сам Руссо. И, обращаясь к письмам литературного героя, созданного писателем пятнадцать лет спустя, мы лучше понимаем идейные позиции молодого Руссо, начинающего, безвестного музыканта, так неожиданно легко завоевавшего признание и симпатии парижских салонов 1742 года.
Жан-Жак Руссо конца 40-х годов был уже мало похож на того наивного, полного надежд и иллюзий молодого человека, который совсем недавно робко и неуверенно переступил порог салона госпожи Дюпен. Отрезвляющий опыт общения с элитой парижского света научил его многому. К 1747 —1749 годам Руссо пришел уже к осознанно-критической оценке современного ему общества. В его идейном развитии был пройден важный этап. Он уже подошел вплотную к тем идеям, которые – отнюдь не как мгновенное «озарение», а как закономерный итог предшествующего пути – были сформулированы им в трактатах о влиянии наук и искусств и о происхождении неравенства, принесших их автору громкую известность.
ГЛАВА ВТОРАЯ
МИРАБО
I
…Вот он поднимается медленно вверх, слегка наклонив голову, чуть согнувшись, и сотни, нет, тысячи глаз, не отрываясь, следят, как тяжело и грузно он ступает по пологой лесенке, ведущей к трибуне.
Он поднялся; неторопливо перевел дыхание; спокойно, почти равнодушно обвел взглядом светлых, как бы невидящих глаз заполненный до отказа гудящий зал и поднял руку. Сразу все стихло. Негромко, почти бесстрастным голосом, с едва уловимой хрипотцой, обыденными словами он начал речь о политическом положении в стране.
Большое, с отметинами оспы лицо было некрасиво. Напудренный, пышный, тщательно завитый парик и ослепительно белые брыжи кружевного, видимо, накрахмаленного жабо на бычьей, короткой шее лишь подчеркивали красновато-темный, нездоровый цвет лица и неправильность его черт. Да и весь он, коренастый, массивный, как бы раздавшийся вширь, мог казаться, особенно издали, каким-то сказочным, страшным упырем, пришедшим из ночи.
В зале было тихо. Перегнувшись через перила, напрягая слух, люди старались расслышать негромкую, неторопливую речь, доносившуюся с трибуны. Но вот плавная речь оборвалась… Наступила пауза… И тотчас вслед за нею этот голос, казавшийся равнодушным и однотонным, зазвучал резко, громко, прерывисто.
Как бы стремительно поднимаясь по ступеням, голос оратора обретал непрерывно нараставшую мощь. Все усиливаясь, голос гремел над залом, над притихшей, как бы завороженной этим чудодействием аудиторией. Казалось неправдоподобным, что этот могучий, несущийся стремительной, все сокрушающей лавой поток звуков исходит от этого коренастого человека в темном на трибуне.
Эта рокочущая октава, громоподобная мощь голоса, способная, казалось, силой звуков затушить свечи, гипнотизировала собравшихся. Когда на мгновение поток гремящих металлом звуков останавливался – оратор переводил дыхание или переходил ненадолго к мягкой, плавной, как бы притушенной интонации (то был искусный ораторский прием многоопытного политического трибуна), – в коротких паузах было слышно, как тяжело дышат люди, невольно соучаствующие в этом удивительном колдовстве.
Конечно, то была импровизация. Такую речь нельзя ни подготовить, ни написать заранее, ни тем более прочесть по написанному. Было даже неважно, о чем, собственно, говорил оратор. О том же, наверное, о чем говорили все в то необыкновенное время: о деспотизме, большей частью точно не обозначаемом, но всегда коварном и беспощадном, о его чудовищных злодеяниях, о том, как томились невинные добродетельные люди в страшных казематах и узилищах крепости-тюрьмы Бастилии, о том, как справедлив, как велик и благороден священный порыв народа, повергший в прах эту ненавистную крепость. Оратор предупреждал народ об угрожающих с разных сторон опасностях: о неугасимой злобе тайных врагов революции, врагов свободы; они ведь не исчезли, не испарились от ярких, все озаряющих лучей солнца; они прячутся по углам и здесь, как черные пауки, плетут паутину заговоров. Ради чего? Или вы забыли о вчерашнем дне? О страданиях, о бедствиях народа, до того как не воссияли лучи свободы?
Он ставил вопросы – один за другим – перед собравшимися, вопросы нередко риторические, общие, не требующие ответа, но сформулированные резко, обращенные будто бы непосредственно к каждому из присутствующих в зале; этими требовательными вопросами, взволнованностью речи он вовлекал всех в творческое действие; в заде не было равнодушных или бесстрастных.
Безошибочный инстинкт подсказывал оратору широкий, округлый, словно всех объединяющий жест – могучий размах руки; этот жест как бы звал народ, всех друзей свободы к сплочению, к единству. Уже ниспадавшая, шедшая на убыль мощь голоса вдруг вновь обретала поразительную, нараставшую от фразы к фразе покоряющую силу. То был редчайший, рождающийся, быть может, раз в столетие ораторский дар – дар трибуна, овладевавшего сердцами и умами слушателей.
И когда оратор, возвысив до предельного напряжения мощь голоса, оборвал сразу, резко свою речь и, тяжело дыша и вытирая батистовым платком залитое потом лицо, стал медленно, как бы сомнамбулически, спускаться по ступенькам лестницы, в зале минуту, может быть две, стояла почти неподвижная тишина, затем взорвавшаяся неистовой, восторженной овацией.
То было начало августа незабываемого 1789 года.
Оратор, так потрясший аудиторию, был депутатом от третьего сословия Прованса в Генеральных штатах, а затем в Учредительном собрании – граф Оноре-Габриэль Рикетти де Мирабо.
II
Опоре Мирабо родился 9 марта 1749 года в Гатине, на юге Франции, в замке Биньон, перешедшем к его отцу как часть приданого его супруги Марии-Женевьевы, урожденной де Вассан. И поныне вблизи одной из южных автострад сохранилась деревня со старинным названием «Биньон-Мирабо».
Роды были трудными и едва не стоили матери жизни. Ребенок родился с искривленной ножкой и непропорционально большой головой. В раннем детстве он часто болел, в три года перенес оспу, оставившую на лице неизгладимые следы. Но при всем том мальчик оказался крепышом, его сильный организм преодолевал напасти и недуги; он быстро развивался физически и умственно, рано обнаружив не вызывавшую сомнений у наставников интеллектуальную одаренность.
Будущий знаменитый трибун был сыном одного из самых просвещенных и оригинальных людей Франции XVIII столетия. Маркиз Виктор-Рикетти де Мирабо родился в год смерти «короля-солнца» – Людовика XIV, т. е. в 1715 году, в старинной аристократической и богатой семье Прованса. По обычаям того времени, как и все молодые дворяне, он был в четырнадцать лет зачислен на военную службу: дворянство служило своему королю шпагой, и в мирное время это было не слишком обременительным. Но маркиза Мирабо не удовлетворяло слишком медленное восхождение по ступеням воинской иерархии; он предпочитал бы начать с командования полком, но до этого надо было еще дослужиться. В 1737 году умер его отец, и в двадцать два года Виктор Мирабо стал обладателем громадного состояния. Он сразу же нашел, как им распорядиться и как изменить свою собственную жизнь. Заботы военной службы, вернее, военная карьера перестали его занимать: несдержанный, необузданный в своих желаниях, он находил теперь практически неограниченную возможность удовлетворять без промедления и не утруждая себя подсчетом расходов все свои прихоти. Как и немногие столь же богатые и знатные его сверстники из привилегированного сословия, он коротал время в кутежах, оргиях, трате денег без счета, следуя в этом примеру королевского двора.
Бог знает, как далеко зашел бы он в этом бездумном прожигании жизни и как быстро промотал бы свое богатство, если бы в один из дней (наверное, мучительного похмелья) маркиз Мирабо не почувствовал отвращения к этому бессмысленному образу жизни и не вспомнил, что ведь в юности он находил радости в ином: он сочинял трагедии, стихи, театральные пьесы; словом, его вновь потянуло к литературе.
Случай свел его с Шарлем-Луи де Монтескье. Будущий автор «Персидских писем» переживал в ту пору полосу исканий. Они быстро нашли общий язык, во многом их взгляды совпадали. Монтескье привлек внимание Мирабо к политическим и социальным проблемам, к вопросам экономической политики, философии. Эти вопросы волновали всю передовую молодежь Франции того времени.
Мирабо перечеркнул всю прежнюю жизнь – военную карьеру, ночные кутежи, мотовство, разгульную жизнь; он уединился в своем родовом поместье на юге Франции и с той же увлеченностью, с той же горячностью отдался новым страстям. Он посвятил себя целиком философии, экономическим наукам, литературе. Он жадно и с упоением читал, выписывал книги, привлекавшие общественное внимание сочинения новейших ораторов, журналы, издаваемые в Англии, Голландии, Швейцарии. Он старался понять и осмыслить прочитанное – не только для того, чтобы встать на уровень знаний века, но и чтобы самому что-то создать, сказать свое слово. Его деятельная творческая натура не мирилась с пассивной ролью литературного потребителя.
В 1747 году он закончил свое первое зрелое сочинение – трактат «Политическое завещание». Откуда это название? Не перекликалось ли оно с заглавием ходившего тогда по рукам в сокращенных или полных списках сочинения покойного аббата из Этрепиньи Жана Мелье «Завещание»? На это трудно ответить с определенностью. Первое сочинение Мирабо осталось – также по причинам, недостаточно выясненным, – неопубликованным. Вероятнее всего, сам автор не спешил с его изданием. О содержании сочинения известно главным образом по изложению Лони де Ломени, исследовавшего еще в прошлом веке архивы дома Мирабо; его труд, с фактической стороны во всяком случае, и сейчас, сто лет спустя, остается самым полным и достоверным исследованием жизни и деятельности Мирабо старшего и младшего1. Если верить Ломени – а верить ему, как правило, можно, – это было произведение, и по внешней форме (по построению и авторской речи), и по содержанию вполне отвечавшее духу времени. Конечно, это была критика, критика сдержанная, осторожная, существующих в королевстве порядков; их недостатки были настолько очевидны, что ни один претендующий на общественное внимание автор не мог их не обличать. Но молодой литератор понимал, что существующим недостаткам и порокам должно быть противопоставлено какое-то позитивное решение. Он видел его не столько в движении вперед, к поискам спасительного философского камня, сколько в возврате к прошлому: к неким идеальным или, вернее, идеализированным автором умеренным феодальным порядкам.
Для отпрыска старинной феодальной знати, для гран-сеньора, несмотря на кутежи еще обладавшего огромным состоянием и чувствовавшего себя в своих фамильных владениях вполне независимым и неограниченным сувереном, такой общественный идеал был в какой-то мере понятен и объясним. Но маркиз де Мирабо был достаточно просвещенным и начитанным гран-сеньором, чтобы не почувствовать, что общественный идеал, отвечающий его личным интересам и семейным традициям древнего знатного рода, вряд ли придется по вкусу иным его современникам.
В следующем произведении, в мемуаре «О провинциальных штатах», напечатанном в 1750 году без подписи автора (что также было в обычаях века: выступать с поднятым забралом в то жестокое время было слишком рискованно), автор делал несомненный и притом значительный шаг вперед.
Анонимный сочинитель мемуара уже не противопоставлял недостаткам современных порядков абстрактно-идеализированную модель приукрашенного раннего феодального строя; он предлагал нечто вполне конкретное и практическое. Возрождение Франции автор связывал с возрождением роли и значения провинциальных штатов. В сущности это было продолжением идеи предшествующего произведения. Провинциальные штаты были одним из сохранившихся институтов старой феодальной эпохи, когда провинции, где главенствовали крупные феодалы, были почти независимы от власти всесильного монарха-самодержца, власти абсолютной монархии. Провинциальные штаты, т. е. постоянные собрания привилегированных сословий, влачившие при Людовике XIV и Людовике XV жалкое, почти призрачное существование, должны быть, по мысли автора мемуара, возрождены и усилены; они призваны стать главным органом управления провинциями и в качестве таковых заменить ныне действующую власть могущественных интендантов.
В этом последнем пункте – в резкой критике системы управления интендантов и в предложенном практическом рецепте замены ее другой системой управления – провинциальными штатами, импонировавшем многим, и заключалась главная притягательная сила мемуара неизвестного сочинителя.
Поскольку интендантов ненавидели все страдавшие от их непомерной жадности, мздоимства, поборов, произвола, беззаконий, прикрываемых именем закона, ме-муар «О провинциальных штатах» был сразу же замечен среди передовой читающей публики; ему был обеспечен широкий успех.
Сочинитель, чье имя оставалось большинству современников неизвестным, поощряемый благоприятной оценкой его первого печатного труда, с воодушевлением продолжал свои штудии. Он много читал, много писал, много путешествовал, наблюдал, сравнивал, обдумывал.
В 1756 году, он опубликовал, также анонимно, сочинение, озаглавленное «Друг людей, или Трактат о народонаселении». Книга имела большой, вышедший далеко за пределы Франции успех; ее обсуждали все сторонники передовых идей во всей Европе. «Друг людей» провозглашал с полной определенностью суждений и уверенностью, что главным источником благоденствия человеческого общества было, остается и будет земледелие. Странным образом, еще не зная ни лично Франсуа Кене, ни его работ, Виктор-Рикетти де Мирабо пришел вполне самостоятельно и независимо от Кене к взглядам, во многом сходным, а в главном пункте – о роли земледелия – почти полностью совпадающим с воззрениями автора, считавшегося основоположником школы физиократов. Это не частое в истории науки совпадение взглядов ученых, шедших разными путями, видимо, может быть объяснено некоторыми закономерностями той эпохи. В. П. Волгин в свое время предложил объяснение этих закономерностей2.
Не случайно эту книгу читатели приписывали первоначально Кене. Но с течением времени все разъяснилось. Имя маркиза Мирабо, как автора нашумевшего произведения, приобрело столь широкую известность и даже популярность, что его стали отождествлять с названием его книги. Маркиза Мирабо называли теперь не иначе как Друг людей. Автор, естественно, очень гордился этим прозвищем, больше почетным, чем справедливым.
Впрочем, шумный успех, выпавший на долю «Друга людей», объяснялся не столько позитивными идеями произведения; школа физиократов (а Мирабо-старший, сам того не подозревая, стал одним из ее первосвященников) встречала не только сочувствие, но и возражения. Главный источник успеха этой книги следует искать в той резкой, острой и остроумной критике ущербного века Людовика XV, эпохи декаданса абсолютистского режима, которую за внешней хаотичностью, даже сумбурностью авторской манеры письма читатели с удовольствием то здесь, то там находили на страницах этого оригинального сочинения.
«Друг людей» сразу же ввел Виктора-Рикетти де Мирабо в круг наиболее известных, читаемых и почитаемых литераторов Франции.
Он сблизился вскоре с Кене; их объединяло в некоторых вопросах даже родство взглядов, к которым каждый пришел самостоятельно. Позже Мирабо установил добрые отношения, а затем и деловое сотрудничество с Поль-Пьером Мерсье де ла Ривьерой – экономистом, примыкавшим также к школе физиократов. С Кене и Мерсье де ла Ривьером они сотрудничали на страницах «Journal de l'agriculture, du commerce et finances» («Журнал сельского хозяйства, торговли и финансов»), издаваемого Дюпоном. Дело кончилось тем, что в 1765 году маркиз Мирабо купил у Дюпона в личную собственность журнал, и под его руководством и при деятельном участии Кене и Мерсье де ла Ривьера журнал становится главным рупором школы физиократов.
Было бы ошибочным полагать, что «Друг людей», получивший широкую известность и признание литератор-экономист, один из самых авторитетных, наряду с Кене, руководителей школы физиократов жил отрешенным от мирских интересов и забот, погруженным в чистую науку или в возвышающие душу и сердце раздумья кабинетным ученым, анахоретом. В действительной жизни все было не так.
Занятия наукой отнюдь не изменили ни характера, ни наклонностей маркиза де Мирабо; правда, они их несколько модифицировали. В молодости он сорил деньгами без счета: их было много, и они не имели для него никакой цены. Почувствовав отвращение к «рассеянной», как мягко говорили в то время, вернее, к разгульной жизни и уединившись в своем родовом поместье, поближе к земле, значение которой он теоретически так высоко оценил, Мирабо по-иному стал относиться и к деньгам. Он вполне постиг их практическую пользу; его заботило теперь не то, как их истратить, а как их приумножить.
Наиболее верным способом приумножения богатств в духе века и обычаев сословия был «подходящий» брак. Будущему «Другу людей» казалось, что такой способ найден, и он, недолго думая, предложил руку и сердце единственной дочери барона де Вассаиа. Невеста была нехороша собой, чтобы не сказать еще определеннее, но этот недостаток в глазах жениха вполне компенсировался тем, что она должна была унаследовать одно из самых больших состояний (в том числе громадное по площади имение в Лимузене, что для физиократа было особенно привлекательным).
Жених ошибся в своих расчетах. Конечно, он получил приличествующее положению обеих знатных семей приданое, по главный предмет его вожделений – великолепное имение в Лимузене и огромные капиталы ускользали от жадно протянутых рук. Барон де Вассан, отец законной супруги «Друга людей», несмотря на частые хвори и обманчиво болезненную внешность, оказался весьма живучим. Маркиза Мирабо получила огромное наследство своих родителей почти тридцать лет спустя после заключения брачного договора с Виктором Мирабо. Супруги к этому времени так далеко зашли во взаимной вражде, дошедшей до скандальных судебных процессов, что доставшееся так поздно богатство уже мало кого волновало.
Маркиз Виктор-Рикетти де Мирабо и без ожидаемого наследства жены оставался очень состоятельным человеком. Но он стал прижимист – прижимист в расходах на жену, на детей, на подобающие его рангу и месту в рядах провансальского дворянства приемы.
Вспыльчивый, раздражительный, деспотичный, крутой в обращении с подчиненными, с домашними, с соседями по имениям, он жил своенравным «диким барином», внушая окружавшим страх. «Друг людей» вблизи был совсем непохож на тот образ, который мог возникнуть при чтении его произведений. Как удачно сказал кто-то из его биографов, может быть, он и в самом деле любил людей, но предпочтительно издали и преимущественно только в книгах.
При всех очень тяжелых для окружающих личных чертах вздорного деспота, взбалмошного гран-сеньора, установившего в своих владениях режим абсолютистского произвола, столь остроумно развенчиваемый им в литературных произведениях, маркиз де Мирабо оставался одним из сильных, творческих умов передовой французской общественной мысли XVIII столетия, одним из значительных представителей французского Просвещения.
В увлечении наукой он был столь же одержим, как и в личных пристрастиях. Он обычно много работал, и в зрелые годы его талант достиг полного расцвета. В 1760-е годы он опубликовал с интервалами в три-четыре года ряд сочинений: «Теория налогов», «Философия земледелия», «Письма о торговле зерном»3. Они заслуженно закрепили за Мирабо, наряду с Кене и Мерсье де да Ривьером, славу руководителя и теоретика школы физиократов.
Но азартность натуры Мирабо, его темперамент не позволяли ему довольствоваться ролью ученого-исследователя, экономиста-теоретика. Ему не терпелось ввязаться в бой, вступить в схватку с противником – абсолютистской монархией Людовика XV (которому, кстати сказать, в своей личной жизни он во многом подражал) – на политической почве. Уже в «Теории налогов» он подверг резким нападкам налоговую и, более того, всю финансовую политику королевского правительства. Он позволял себе дерзости, которые другому не прошли бы безнаказанно.
В нападках на политику двора маркиз де Мирабо выступал в роли защитника народа. У него было острое перо, и, рисуя бедственное положение народа, он наносил противнику чувствительные удары. Людовик XV в конце концов был рассержен не на шутку. Он приказал арестовать Мирабо и заточить его в Венсенскии замок. Популярность Мирабо сразу же намного возросла. Его книги, отпугивавшие своими сухими, сугубо академическими названиями, теперь вызывали всеобщий интерес. Маркиз де Мирабо становился одним из модных французских литераторов.
В ту пору еще сохранялось влияние маркизы де Помпадур на Людовика XV. Из всех фавориток короля бывшая мадемуазель Пуассон была, несомненно, самой образованной и умной женщиной. В духе времени она считала, что королевский двор должен покровительствовать людям науки и искусства. В ее салоне на приемах можно было встретить всех самых знаменитых авторов века. Признательные авторы, начиная с Вольтера, спешили, обгоняя друг друга, со.чинять в честь прелестной и могущественной дамы восторженные мадригалы.
Маркиза де Помпадур быстро сообразила, что заключение в Венсенскии замок известного литератора пойдет отнюдь не на пользу двору, а скорее! будет на руку самому узнику. К тому же маркиз де Мирабо, побывавший однажды в салоне дамы, о которой вполголоса говорили, что она и есть подлинная вершительница судеб Франции, произвел на нее самое благоприятное впечатление. Она легко добилась согласия короля на освобождение из Венсенского замка вольнодумного литератора; ему было предписано пребывать безвыездно в своем имении в Би-ньоне. Мирабо давно уже привык проводить большую часть времени в своих поместьях. Он легко и охотно примирился с монаршей карой.
Этот эпизод при всей его безобидности способствовал еще большей популярности «Друга людей». Это сросшееся с его именем прозвище теперь, когда на его лбу запечатлелись тернии мученического венца, представлялось его современникам еще более заслуженным и обоснованным. Нужно ли было еще что-либо для утоления жажды честолюбия «дикого барина», не побоявшегося вступить в противоборство с всесильным монархом?








