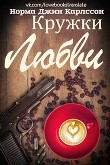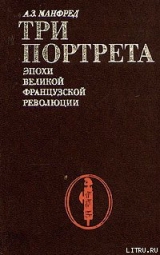
Текст книги "Три портрета эпохи Великой Французской Революции"
Автор книги: Альберт Манфред
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 31 страниц)
VIII
То, что казалось чудом современникам и особенно врагам революции, то, что поражало позднее всех, кто пытался постичь загадочную историю Первой республики, – невероятная, ошеломляющая, почти необъяснимая победа якобинской Франции над ее неисчислимыми внешними и внутренними врагами – все это совершилось в ничтожно короткий срок – за двенадцать-три-надцать месяцев.
Якобинская республика, которая летом 1793 года, казалось, вот-вот падет под ударами теснивших ее со всех сторон врагов, сжатая кольцом блокады, интервенции, контрреволюционных мятежей, задыхавшаяся от голода, от нехватки оружия, пороха, всего самого необходимого, – эта Республика, уже хоронимая ее недругами, не только отбила яростные атаки и подавила мятежи, но и перешла в наступление и, к ужасу консервативно-реакционного мира, разгромила своих противников и– стала сильнейшей державой Европы.
Более того, в исторически кратчайший срок – за один лишь год – якобинская диктатура разрешила все основные задачи революции. Она разгромила феодализм так полно, насколько это было возможно в рамках буржуазно-демократической революции. Она создала четырнадцать армий, выросших как из-под земли, оснащенных современным оружием, возглавляемых талантливыми полководцами, вышедшими из низов народа и смело применявшими новую, революционную тактику ведения войны. В битве при Флерюсе 26 июня 1794 года армия Республики разгромила войска интервентов, изгнала их из пределов Франции и устранила опасность реставрации феодальной монархии. Территориальная целостность Республики была повсеместно восстановлена, и внутренняя контрреволюция – жирондистская, вандейская, роялистская – была разгромлена и загнана в глубокое подполье.
Все самые смелые обещания Робеспьера и других якобгшских вождей были выполнены. Республика, казалось, подходила к последнему рубежу; за ним наступало возвещенное вождями революции царство свободы, равенства, братства.
Но, странное дело, чем выше поднималась революция в своем развитии, чем больше падало врагов, сокрушенных ее смертельными ударами, тем внутренне слабее становилась эта казавшаяся столь могущественной внешне якобинская республика.
Через неделю после блестящей победы при Флерю-се, потрясшей вето Европу, Максимилиан Робеспьер в речи в Якобинском клубе 1 июля 1794 года говорил: «О процветании государства судят не столько по его внешним успехам, сколько по его счастливому внутреннему положению. Если клики наглы, если невинность трепещет, это значит, что республика не установлена на прочных основах»165.
Откуда же этот горестный тон у руководителя революционного правительства, которое, казалось бы, должно было только радоваться замечательным победам Республики?
Этот голос скорби, эти нотки обреченности, горести, разочарования, которые все явственнее звучат в выступлениях Робеспьера летом 1794 года, понятны и объяснимы: Робеспьер уже чувствовал, что победа, завоеванная огромными жертвами народа, ускользает из. рук, уходит от якобинцев.
Так что же произошло?
В представлении Робеспьера как и в сознании его соратников, да и всех активных участников революции, великая титаническая битва, которую они вели в течение пяти лет, была сражением за свободу и справедливость, за равенство и братство, за «естественные права человека», за всеобщее счастье на земле, как прямо и говорилось в Декларации прав 1793 года166.
Робеспьер отнюдь не был похож на бедного рыцаря Ламанчского, жившего в мире выдуманных образов и грез. Напротив, можно было скорее поражаться удивительной проницательности, своего рода дару ясновидения, которыми был наделен этот человек в тридцать пять лет. Его орлиный взор охватывал все гигантское поле сражения; он распознавал враждебные действия противника в самом начале, и вслед за том карающая рука Комитета общественного спасения настигала врага с быстротой, которую тот не предвидел.
И если Робеспьер при всей своей проницательности продолжал верить в наступление счастливого времени торжества добродетели, то это объяснялось не наивностью или незрелой мечтательностью. Он был политическим деятелем, находившимся на уровне передовой общественной мысли своего времени. Так думал не только он, так думали все лучшие умы конца XVIII столетия. Возглавляя революцию, представлявшуюся великой освободительной войной во имя возрождения всего человечества, они не знали, не понимали и не могли понять того, что в действительности они руководят революцией, которая по своим объективным задачам является буржуазной и не может быть иной.
Мы говорили до сих пор о сильных сторонах якобинской диктатуры и ее вождя Робеспьера. Но те противоречия и ошибки, которые проявлялись у Робеспьера в первые годы революции, стали больше и пагубнее по своим последствиям во время якобинской диктатуры. Эти ошибки, противоречия, просчеты не были личными недостатками Робеспьера: они вытекали из классового характера самой революции. Робеспьер был великим революционером XVIII века, но он был, сам того не сознавая, вождем Великой буржуазной революции, и этим были обусловлены его просчеты и ошибки, в этом была его трагедия.
С некоторых пор, а именно с того времени, когда революция сокрушила всех своих главных противников, когда она доказала миру рядом блистательных побед несокрушимость своих сил, Робеспьер явственно ощутил, что руль государственной власти, который так послушно поддавался его сильной руке, перестает ей повиноваться. Управлять им становилось все труднее.
В чем же было дело? Что же случилось?
Якобинская диктатура обеспечила решение задач буржуазно-демократической революции, действуя плебейскими методами. Но как только главные задачи революции были разрешены, враги ее повержены, непосредственная опасность реставрации устранена, все внутренние противоречия, заложенные в самой природе якобинской власти, немедленно всплыли на поверхность.
Уже говорилось о том, что якобинство представляло собой не однородную, не гомогенную в классовом и политическом смысле силу, а блок разнородных классовых сил, действовавших, пока шла смертельная война против феодальной контрреволюции, сплоченно и солидарно. В год ожесточенной борьбы против объединенной внутренней и внешней контрреволюции якобинское революционное правительство, опираясь преимущественно на силы народа, влияние которого в это время резко возросло, должно было проводить жесткую ограничительную политику по отношению к буржуазии.
Эта ограничительная и во многом репрессивная политика была подсказана самой жизнью. Законы о максимуме не нужно было обсуждать, принимать и проводить в жизнь, если бы продовольственное положение Республики не было столь плохим. Законы о максимуме были рождены прежде всего необходимостью. То же самое должно быть сказано о режиме революционного террора: он также являлся подсказанным самой жизнью, необходимым средством самозащиты. Можно было, бы привести и другие примеры. Однако было бы неверным считать, что революционное правительство действовало, сообразуясь только с повелительным требованием жизни, что оно было правительством прагматиков, приспосабливавшимся к задачам, диктуемым сегодняшним днем.
Оно имело и положительные идеалы и в соответствии с ними позитивную программу; оно ставило перед собой цель, к которой шло сознательно, преодолевая все трудности и заботы текущего дня. Робеспьер, Сен-Жюст, Кутон, их товарищи и единомышленники – все они были последователями Руссо, а значит, и сторонниками его эгалитаристских идей.
В политике Робеспьера, в политике революционного правительства нетрудно заметить ту линию, которую они проводили вполне сознательно. Это эгалитаристская политика якобинского правительства.
Робеспьер отвергал установление полного имущественного равенства; он считал его неосуществимым, а пропаганду его вредной. По этим же мотивам он осуждал так называемые аграрные законы, под которыми понимали передел на разных долях всей земли, осуждал и выдвинутый Жаком Ру нашумевший тезис: «Необходимо, чтобы серп равенства прошелся по головам богатых!»
Но, не веря, вслед за Руссо, в возможность установления полного имущественного равенства, Робеспьер был искренне убежден в необходимости и благодетельности устранения крайностей имущественного неравенства. Он стремился к относительному уравнению состояний.
Когда в его руках и в руках его единомышленников оказались рычаги государственного управления, они пытались сделать все возможное, чтобы осуществить свою эгалитаристскую программу.
Политика принудительных займов у богатых, прогрессивно-подоходный налог, подушный раздел общинных земель, дробление земельных участков, поДлежа-щих продаже, ограничение права наследования, применение террора против спекулянтов и нарушителей максимума, наконец, знаменитые вантозские декреты – все это служило доказательством того, что возглавляемое Робеспьером революционное правительство стремилось к осуществлению своей эгалитаристской программы, призванной установить «царство вечной справедливости».
Обратившая на себя внимание фраза Сен-Жюста в его первой речи о вантозских декретах: «Те, кто совершают революцию наполовину, тем самым лишь роют себе могилу»167 – раскрывала все принципиальное значение вантозского законодательства. Сен-Жюст сформировался как политический деятель под идейным влиянием Робеспьера; он был его самым верным сподвижником; его взгляды о будущности Республики, несомненно, отражали и взгляды Неподкупного.
Но политика эгалитаризма, энергично проводимая якобинским революционным правительством, вела Республику отнюдь не к «счастью добродетели и скромного довольства», о чем мечтали ее вдохновители168. «…Идея равенства есть самое полное, последовательное и решительное выражение буржуазно-демократических задач… – писал В. И. Ленин. – Равенство не только идейно выражает наиболее полное осуществление условий свободного капитализма и товарного производства. И материально, в области экономических отношений земледелия, вырастающего из крепостничества, равенство мелких производителей является условием самого широкого, полного, свободного и быстрого развития капиталистического сельского хозяйства»169.
Якобинцам и их вождю Робеспьеру не удалось полностью осуществить свою эгалитаристскую программу – создать республику «равенства мелких производителей». Но даже то, что они успели сделать – а сделано было немало: был сокрушен и уничтожен феодализм, – дало результаты, подтверждающие глубокую истинность приведенного .высказывания В. И.Ленина.
Политика якобинцев объективно, независимо от их воли, расчистила почву Франции, освободила ее от всех помех для роста буржуазии и капиталистических отношений. И как бы жестоко ни карала якобинская диктатура отдельных крупных буржуа, спекулянтов, наживал, как бы властно ни вмешивалась она в сферу распределения (сохраняя в то же время частный способ производства), вся ее суровая карательная и ограничительная политика была не в силах ни остановить, ни задержать рост экономической мощи крупной буржуазии. Более того, несмотря на искоренение ножом гильотины спекулянтов, несмотря на жесткую запретительную политику, за это время выросла новая, спекулятивная буржуазия, нажившая огромные состояния на поставках в армию, на перепродаже земельных участков, игре на двойном курсе денег, спекуляции продуктами и т. п.
До тех пор пока над страной нависала опасность победы армий интервентов и восстановления старых, феодально-абсолютистских йорядков, эта новая буржуазия, кровными, материальными интересами связавшая себя с произведенным революцией перераспределением собственности, должна была покорно терпеть карающую руку якобинской диктатуры. Она должна была мириться и с возросшей ролью народа, и с ограничительным режимом, она должна была клясться в верности великим идеалам справедливости и добродетели, ибо только железная рука якобинских «апостолов равенства» moi-ла ее защитить от штыков интервентов и возврата к прошлому.
Но как только опасность реставрации миновала, буржуазия, а вместе с нею и все собственнические элементы, тяготившиеся ограничительным режимом якобинской диктатуры, стали искать средства избавления от него.
Вслед за буржуазией тот же поворот вправо совершило и зажиточное, а затем и среднее крестьянство. Революция избавила его от феодального гнета, феодальных повинностей, дала ему землю, открыла пути к обогащению. Но воспользоваться плодами приобретенного якобинская диктатура не давала. Система твердых цен, политика реквизиций зерна, проводимая якобинской властью, вызывала в деревне крайнее раздражение.
Поворот буржуазии и основных масс собственнического крестьянства против якобинской диктатуры означал складывание сил буржуазной контрреволюции в стране.
Робеспьер и революционное правительство сражались против неодолимой силы, против гидры, у которой на месте одной отрубленной головы сразу вырастало десять новых.
Революционный трибунал усиливал свою карательную деятельность. Процессы против спекулянтов, против нарушителей закона о максимуме шли с возрастающей быстротой; их исход в большинстве случаев был предрешен: смерть на эшафоте. Но сопротивление революционному правительству день ото дня становилось все ощутимее. Более того, это сопротивление чувствовалось теперь не только за пределами революционного правительства; оно давало о себе знать, пока еще в под-спудной форме, и в стенах Конвента и даже в Комитете общественного спасения, а еще сильнее в Комитете общественной безопасности.
На кого могло опереться возглавляемое Робеспьером революционное правительство? На городское плебейство? Сельскую бедноту? На те общественные низы, которые теперь называют левыми силами? В. И. Ленин ответил на эти вопросы замечательной характеристикой: «…Конвент размахивался широкими мероприятиями, а для проведения их не имел должной опоры, не знал даже, на какой класс надо опираться для проведения той или иной меры» .
Вернее не скажешь. Робеспьер, признанный вождь якобинцев, вождь революции, действительно на этом последнем ее этапе не знал, на какой класс революция должна опираться. Робеспьер и якобинцы были велики и могучи, когда они сплачивали и объединяли народ, поднимали его на борьбу против грозных сил феодальной контрреволюции и буржуазной аристократии. Их удары сохраняли ту же страшную мощь, и они шли во главе народа вместе с революцией вперед, сражаясь против крупной буржуазии, против Жиронды. Теперь они снова поднимали руку, наносили со всею силой удары, но не достигали врага: рука слабела и бессильно опускалась.
Политика, проводимая якобинским правительством, и в частности его социально.-экономическая цолитика, вызывавшая теперь, с весны 1794 года, недовольство собственнических элементов, не удовлетворяла в некоторой степени и плебейство, и демократические низы вообще. Максимум был мерой, проводимой в интересах санкюлотов, неимущих городских низов в первую очередь. Но распространив максимум и на заработную плату рабочих, сохранив в силе антирабочий закон Ле Шапелье, якобинское правительство обнаружило непонимание нужд рабочих. Они выражали недовольство этим законодательством. По мере роста дороговизны жизни это недовольство усиливалось. В равной море в своей аграрной политике якобинское правительство ничего не делало для улучшения тяжелого положения сельской бедноты, не защищало ее интересов. Проводимые же так называемые реквизиции рабочих рук, т. е. мобилизации, также вызывали ее недовольство.
Так раскалывались, расходились в центробежном движении классовые силы, составлявшие до сих пор единый якобинский блок. И это обострение противоречий в якобинском блоке неизбежно вело к внутренней борьбе в его рядах и к кризису якобинской диктатуры.
Но то, что теперь, без малого двести лет спустя, может спокойно проанализировать историк-марксист, располагающий всеми данными, накопленными исторической наукой, людям, находившимся в самой гуще событий, мыслившим понятиями и категориями того далекого XVIII века, представлялось, конечно, совершенно иначе.
Робеспьер чувствовал, он не мог не чувствовать, как вместе с победами, одерживаемыми революцией, растут препятствия на ее пути. Чем ближе он подходил к желанной цели, тем дальше она отодвигалась.
Революция, казалось, сделала все возможное, все мыслимое, чтобы восстановить «естественные права» человека; она сокрушила всех, кто посягал на эти «естественные права», кто попирал своими преступными действиями добродетель. Но Робеспьер убеждался в том, что по мере продвижения революции вперед люди не становятся лучше и число врагов Республики не убывает. Напротив, их становится день ото дня все больше.
Раньше, когда борьба шла против аристократов, против фельянов, против жирондистов, когда весь якобинский блок в братской сплоченности сражался с могущественными противниками, все было ясно. Но теперь борьба развернулась в рядах самого якобинского блока; теперь приходилось сражаться с людьми, которые еще вчера были товарищами по оружию, а некоторые, как Камилл Демулен, – личными друзьями.
Для Робеспьера, с его непреклонной волей, с цельностью его натуры, эти видения прошлого не могли стать непреодолимой преградой. Он вглядывался трезвыми, внимательными глазами в сегодняшний облик его вчерашнего собрата по оружию.
В его черновых «Заметках против дантонистов», заметках, столь непохожих на формальное обвинение, предъявленное Революционным трибуналом, обращают на себя внимание его попытки разобраться в сути Дантона. Может показаться даже странным, что Робеспьер в этих заметках сравнительно мало говорит о делах, о действиях Дантона и останавливается на каких-то незначительных на первый взгляд деталях. Так, он записывает: «Слово „добродетель“ вызывало смех Дантона; нет более прочной добродетели, говорил он шутливо, чем добродетель, которую он проявляет каждую ночь со своей женой». И Робеспьер, для которого слово «добродетель» было священным, вслед за этим с ясно чувствуемым негодованием пишет: «Как мог человек, которому чужда всякая идея морали, быть защитником свободы»171.
И ниже он снова отмечает: «Секрет своей политики он, Дантоп, сам раскрыл следующими примечательными словами: „То, что делает наше дело слабым, – говорил он истинному патриоту, чувства которого будто бы разделял, – это суровость наших принципов, пугающая многих людей“…»172
Робеспьер, мысливший категориями XVIII века, не давал и не мог дать классового определения политике Дантона, но он инстинктивно приближался к истине, считая главным в ней его недовольство «суровостью наших принципов». Недовольство принципами якобиниз-ма – это и было то общее, что объединяло всех тяготившихся революционно-демократической диктатурой, всех торопившихся покончить с этими «высокими принципами» и скорее наброситься на земные блага.
Проникнутый сознанием своей обреченности, неустрашимый при своем презрительном равнодушии к смерти, Робеспьер был способен ценить чужую жизнь не больше, чем свою. Он послал на эшафот, или скажем осторожнее и точнее: вместе со всеми членами Комитета общественного спасения и Комитета безопасности он предрешал казнь Дантона, Демулена и других, шедших по «амальгамированному» процессу 4 – 5 апреля.
Но поражая Дантона и Демулена (которого он, видимо, по-прежнему любил), Робеспьер надеялся, что вместе с ними будет поражена вся «факция», как говорили в XV1I1 веке, все поднявшие руку иа добродетель, на священные принципы Горы.
Его трагедия была в том, что он не сумел сразу же разглядеть, вернее сказать, правильно оценить стоявшую за их тенями силу. Ему казалось вначале, что речь идет об одном или даже двух-трех десятках отщепенцев и интриганов, изменивших– принципам политической морали, а на деле оказалось, что против революции движутся бескрайние ряды вражеских сил, что они напирают со всех сторон неодолимо, как катящаяся лавина. Крепкая, алчная, жадная буржуазия росла, поднималась из всех щелей и пор расчищенной якобинским плугом почвы Франции, и не было тогда силы, которая могла бы ее остановить.
Здесь не место излагать историю внутренней борьбы в рядах якобинского блока. Но следует напомнить, что удары революционного правительства были направлены не только направо, но и-налево.
Еще в конце лета – начале осени 1793 года все якобинцы, выступая совместно, разгромили «бешеных» – самое левое течение во французской революции. В марте 1794 года, вступив в решающую борьбу с дантонистами, революционное правительство разгромило выделившуюся из рядов левых якобинцев группу эбертистов. В рядах збертистов были люди разного толка, и предпринятая ими попытка поднять восстание не встретила поддержки санкюлотов. Но удар против эбертистов был распространен и на кордельеров. Через несколько дней после казни Дантона был предан Революционному трибуналу и затем казнен лучший представитель левых якобинцев Шомстт, хотя он не поддержал выступление эбертистов. Вслед за тем была подвергнута «очищению» от приверженцев Шометта Парижская коммуна. <Здесь нельзя не отметить, что изменение персонального состава Коммуны ни в малой мере не повлияло па ее социальный состав. Он в основном остался тем же, и то, что называлось «робеспье-ристской Коммуной », в классовом отнощении почти не отличалось от
«шометтистскоя Коммуны» (Eude M.Etudes sur la Commune robespierristc. P., 1973).>
Робеспьер в своих выступлениях той поры представлял и даптоиистов и левых якобинцев двумя разветвлениями одной, враждебной революции группировки: «…одна из этих двух факций толкает нас к слабости, другая ко всяким крайностям… Одним дали прозвище умеренных; другим – более остроумное, чем правильное, наименование ультрареволюционеров… Это все слуги одного хозяина, или, если хотите, сообщники, изображающие, будто они ссорятся, чтобы лучше скрыть свои преступления. Составьте мнение о них не по различию их речей, по по сходству результатов»173.
Робеспьер проявлял свойственную ему проницательность, угадывая замаскированное ярко революционными цветами тайное родство лживого и коварного Фуше, мздоимцев и казнокрадов Тальена, Барраса, Фрерона и им подобных с «умеренными». Это были прикрывавшиеся разными защитными цветами лазутчики наступающей армии новой буржуазии. Робеспьер был прав и, несомненно, действовал в интересах революции, выступая против крайних террористов, своими бессмысленными жестокостями наносивших большой вред революции. Он проявил государственную мудрость, осудив политику дехристианизации, проводимую насильственными мерами Эбером, Шометтом и другими якобинцами и вызвавшую еще ранее опасное недовольство крестьянства.
Вместе с тем Робеспьер допускал ошибку, отказываясь видеть за пределами революционного правительства иные левые политические силы. А между тем такие силы были и играли значительную роль в революции. И Шометт, и шометтисты, и люди типа Моморо, и рядовые члены Коммуны – все они стояли левее руководимого Робеспьером якобинского правительства и являлись опорой якобинской диктатуры слева.
Та же противоречивость, те же ошибки проявлялись и в социальной политике якобинского правительства. Как уже говорилось, в марте 1794" года были приняты вантозские декреты, предусматривавшие бесплатный раздел собственности врагов революции среди неимущих. Конечно, вантозские декреты не были ни «программой новой революции», как их изображал в свое время Матьез174, ни тактическим маневром, что усматривал в них прежде всего Жорж Лефевр175. В вантоз-скизг декретах нашли свое воплощение эгалитаристские устремления Робеспьера, Сен-Жюста и других якобинских последователей Руссо, а их устами формулировались уравнительские чаяния народных масс.
Вантозские декреты, будь они проведены в жизнь, означали бы увеличение числа собственников из рядов неимущих и, следовательно, расширение демократической базы революции. Их осуществление способствовало бы в известной мере экономическому и политическому разоружению какой-то части контрреволюционной буржуазии. Понятно, сегодня мы можем с уверенностью сказать, что реализация вантозских декретов не изменила бы в конечном счете общего хода вещей. Но ведь это не было ясно участникам событий 1794 года, и само вантозское законодательство все же имело большое политическое значение.
Но, странное дело, прошел месяц, другой, а вантозское законодательство не реализовалось. Оно встретило отрицательное, вернее, враждебное отношение широких слоев буржуазии и зажиточного крестьянства. Оно натолкнулось на молчаливое сопротивление большинства членов Конвента, правительственного аппарата в центре и на местах.
Почему же грозная сила революционной диктатуры не была приведена в действие для осуществления принятых Конвентом декретов? Почему Робеспьер, проявивший непреклонную твердость б достижении цели, обнаружил в этом вопросе колебания и слабость, не решился сломить сопротивление вантозскому законодательству?
Куда идти? Какую программу предложить Конвенту, Горе, патриотам? Какой найти путь, который бы сохранил и упрочил единство народа с революционным правительством? Робеспьер, как и другие руководители якобинского правительства, искал ответа на эти вопросы, но не мог найти верного решения.
Путь дальнейшего углубления социального содержания революции, открывшийся вантозским законодательством, был "оставлен. Он был не осужден, не отвергнут, никто даже вслух не высказал сомнения в его правильности, но с этого пути безмолвно сошли.
Робеспьер пытался найти иной путь. 7 мая 1794 года он выступил в Конвенте с большой речью в пользу культа «верховного существа»176. Идея «„верховного существа“ – это идея социальная и республиканская», – говорил Робеспьер. Культ «верховного существа» был попыткой объединения и сплочения нации на почве новой государственной республиканской религии.
Жepap Вальтер в своем исследовании о Робеспьере высказывает мнение, что эта речь наиболее полно и глубоко выражала мысли Неподкупного177. Может быть, это близко к истине. Во всяком случае, речь была написана или произнесена с несомненным воодушевлением. Робеспьер был еще полон надежд; эта речь еще дышала горячей верой в близкое достижение победы. «И вы, основатели Французской республики, – говорил он, обращаясь к членам Конвента, – остерегайтесь терять надежду на человечество или усомниться хотя на миг в успехе вашего великого начинания!
Мир изменился. Он должен измениться еще больше!»178
Робеспьер рисовал картину огромных преобразований, совершенных французской революцией, французским народом. Он апеллировал к чувствам патриотической гордости: «Французский народ как будто опередил на две тысячи лет остальной род человеческий». Он говорил с восторженностью, почти в исступлении, о Франции – об этой чудесной земле, ласкаемой солнцем и созданной для того, чтобы быть страною свободы и счастья. Он напоминал депутатам Конвента о той великой миссии, которую история возложила на Францию, о славной и почетной ответственности каждого французского патриота. Он предостерегал против опасности, которую влечет за собою порок, оспаривающий судьбу земли у добродетели. Он призывал бороться против его развращающего влияния, он требовал от членов Конвента гражданской доблести179.
«Считайтесь только с благом общества и интересами человечества!» – восклицал Робеспьер180.
Но к кому были обращены эти слова? К собранию этих депутатов Конвента, намеренно громко и выставляя руки напоказ аплодировавших оратору и прятавших от него глаза? К Талье"ну, Баррасу – проконсулам в Бордо и Тулоне, мздоимцам и ворам, искоренявшим контрреволюцию потоками крови, превращаемой ими в золото? К вероломному Фуше – политическому хамелеону, вчерашнему эбертисту, будущему министру полиции Наполеона? К маркизу Роверу де Фонвьелю – продажному перебежчику из лагеря аристократии, циничному, чуждому какой бы то ни было морали, стремящемуся заставить забыть его прошлое заискивающий панибратством с вожаками санкюлотов, беспощадному в неистовом терроризме, окрашенном в крайние революционные цвета и позволявшем ему под горячую руку мародерствовать, обворовывая свои жертвы? К Мари-Фрапсуа Лапорту, прикидывавшемуся верным служакой, рядовым якобинского блока, бесхитростным исполнителем воли Конвента, а позже, в 1796-1797 годах, обличенному в том, что он награбил свыше двадцати миллионов франков? К Фрерону – казнокраду и убийце, будущему главарю банд «золотой молодежи»? К Мерлену из Тионвилля, мечтавшему о княжеском особняке? К не раскрывавшему клюва, пока не придет его час, старому ворону Сиейесу?
«Благо отечества», «человечность», «добродетель» – это были пустые слова для всех этих завтрашних термидорианцев, тайных нуворишей, набивших себе карманы за годы революции и спешивших насладиться так легко доставшимся им добром.
Они уже сознавали свою силу; им уже надоела эта героика, эти призывы к доблести и добродетели; они перебрасывались быстрыми взглядами, по они понимали, что их время еще не пришло, и они, стоя, аплодировали Робеспьеру и единодушно голосовали за внесенный им проект декрета о культе «верховного существа».
8 июня в Париже в Тюильрийском саду, а затем на Марсовом поле состоялись торжества в честь «верховного существа». Зеленый парк Тюильри был украшен аллегорическими фигурами, созданными по проекту знаменитого Давида. Робеспьер, накануне единогласно избранный председателем Конвента, в новом голубом фраке, с колосьями ржи в руках, взошел на трибуну. От имени революционного правительства он произнес краткую речь.
«Французы, республиканцы, вам надо очистить землю, которую загрязнили "тираны, и призвать вновь справедливость, которую они изгнали»181, – говорил он.
Народ устроил Неподкупному горячую овацию. Простые люди, верившие Робеспьеру, хлопали в ладоши и кричали: «Да здравствует Республика!» Могло казаться, что революционное правительство сильнее, чем когда-либо, что его позиции незыблемы.
Но это было иллюзией.
От якобинских клубов провинции и столицы в Конвент поступали приветственные адреса. В них одобрялся благодетельный культ «верховного существа». Но верить этому было нельзя. Бюро полиции Комитета общественного спасения, возглавляемое Сен-Жюстом, через своих осведомителей и агентов получало иные сведения: в народе культ «верховного существа» был встречен холодно, а большей частью враждебно.
Иначе и быть не могло. Попытки подменить решение больших социальных вопросов речами, декретами и манифестациями религиозного или полурелигиозного характера были заранее обречены на провал. Личный успех Робеспьера в Конвенте и на торжествах 8 июня в Париже не мог, конечно, ни заслонить, ни тем более изменить то крайне неблагоприятное для якобинской диктатуры соотношение классовых сил в стране, которое сложилось к лету 1794 года.