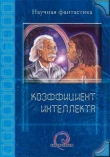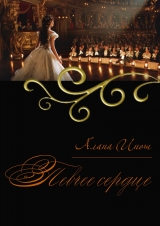
Текст книги "Певчее сердце (СИ)"
Автор книги: Алана Инош
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц)
Вот этому всему – глазам, голосу, рту, парфюму – всё её нутро говорило «да». Безрассудно, да. До сладкого ужаса, да. До стыдливого румянца под одеялом, да. Если бы Владислава сейчас вошла в каюту с однозначным, прямолинейным намерением, она не сопротивлялась бы. Разрешила бы всё и сразу – и рукам, и рту, и глазам. Даже самое жёсткое, грубое. Даже боль выпила бы, как радость. Только ей одной она себя подарила бы, больше никому. Невинной Мария уже давно не была, в юности даже случился эксперимент с девушкой, закончившийся, как всегда у неё, страданиями и расставанием. Ничего путного у неё не выходило, не клеилось. Вернее, начиналось всё красиво, страстно и романтично, а потом запутывалось, затягивалось узлом – хоть на луну вой, хоть беги прочь. То ли потому что любить спокойно и ровно она не умела, скучая без ярких красок и накала страстей, то ли не в скуке было дело, и ей просто попадались «не её» люди – как бы то ни было, сейчас в личной жизни Марии довольно давно тянулась полоса пустоты и пресности. «Эпоха застоя»: с одной стороны, стабильность и спокойствие, а с другой – тоска и эмоциональный голод. Она лечила душевный и сердечный вакуум работой, это помогало, но сейчас как никогда стало ясно, что такая жизнь – и не жизнь вовсе. Суррогат какой-то, к которому можно привыкнуть, как к плохому кофе, но если знаешь вкус хорошего напитка, дешёвка тебя перестанет устраивать.
Ей стало страшно – до сдавливающего обруча вокруг рёбер, до мурашек восторга. И жутко, и прекрасно. «О чём я думаю?! Она ещё ничего такого не говорила, а я в мыслях уже отдалась ей. Что я за...» Накрыл жаркий, удушающий стыд. Она обругала себя самыми грязными словами. Со всеми этими думами ей удалось провалиться в дрёму только к трём часам.
От стука в дверь сон разорвался, как паутинка, отставляя после себя тошнотворно-тягучие, щекочущие нити на гудящей колоколом голове, на душе и теле.
– Мария, доброе утро! У меня для вас завтрак и кофе.
Всё нутро отозвалось единым холодящим «ах!» Бирюзовая усмешка ворвалась освежающим ветерком в стоячее, душное болото сонливости.
– Одну... Одну минуточку! – отозвалась она, откашлявшись спросонок.
Где-то здесь был шкаф, в котором она видела махровые полотенца и халаты... Быстро натянув последний, Мария мельком глянула в зеркало на внутренней стороне дверцы: без косметики (точнее, без сценического грима), с распущенными по плечам растрёпанными волосами. Стало неловко, будто её застали нагишом. Ладно, что уж поделать... Не держать же Владиславу за дверью.
– Войдите, – сказала она, забравшись в халате в постель и натянув одеяло по пояс.
Владислава вкатила столик с завтраком: омлетом с овощами и зеленью, ломтиками поджаренного хлеба с сыром, на десерт к кофе – пирожное с корицей. Всё – в двух порциях.
– Кофе в постель, – объявила она приветливо и бодро. И, улыбнувшись, добавила: – Вы особенно очаровательны с утра, Машенька. Такая по-домашнему милая и естественная... Вы ведь позволите вас так называть? Меня в отместку за это вы можете звать просто Владой.
Вместо вчерашней белой куртки на ней была голубая футболка-поло. Подкатив столик к кровати, она присела на край одеяла, а Марию вдруг пронзил холодок стыда: слишком проницательная эта бирюза... А если все её ночные мысли – как открытая книга сейчас?
– Как спалось, Машенька?
– Как вы и говорили – будто младенцу в колыбельке.
Мария лукавила, приукрашивая действительность, но не могла же она признаться, что полночи думала о... о неприличном? И потому понятие «выспалась» было от неё сейчас так же далеко, как поблёкшие в рассветном утреннем небе звёзды. А между тем часы показывали всего пять утра.
– Простите, что так рано разбудила вас. Просто мне хотелось спокойно, без спешки побыть с вами ещё немного.
Два часа... Всего два часа сна – оттого так и гудел череп, слипались глаза и до истерики хотелось хлопнуться обратно на подушку и вырубиться. Это жестоко, безжалостно – дать поспать всего два чёртовых часа. Можно было хотя бы три – не в пять, а в шесть. Конечно, всё осталось за сжатыми, вяло улыбающимися губами Марии, но бирюза и впрямь была проницательна.
– Ничего, кофе вас взбодрит, – улыбнулась Владислава, кивая на белоснежные чашки, в которых темнела коричневая аппетитная пенка на поверхности душистого напитка.
Кофе был великолепен. Кусок не лез в горло, и Мария осилила только полпорции омлета, а вот десерт «зашёл» легко и непринуждённо. И снова она ловила себя на том, что совсем не видит некрасивости Владиславы; точнее, уже не хотелось применять к её лицу понятия «красивое – некрасивое». Это было просто её лицо – такое, какое есть, и другого не представлялось на его месте.
– Не могли бы вы... выйти на пять минут? – задохнувшись от смущения, пробормотала Мария. – Мне нужно привести себя в порядок.
– Да, разумеется, – сдержанно ответила Владислава.
В сумочке лежала косметичка с минимальным «походным» набором: тушь, помада, карандаш, пудра. Она слегка тронула ресницы и губы, провела спонжем по щекам. Было в её лице что-то средиземноморское – не то греческое, не то испанское, а может, и что-то отдалённо еврейское. А Владислава – прямая противоположность, голубоглазая блондинка северного, скандинавского типа, причём, судя по всему, самая натуральная и чистокровная, вопреки греческим корням.
Платье, облегавшее фигуру, как тугая перчатка, было оснащено длинной молнией на спине: если расстегнуть её Мария с горем пополам смогла, то застегнуть без посторонней помощи уже не получалось, застёжку заело. Как ни выворачивала она себе руки, как ни дёргала за язычок бегунка, ничего не выходило. Слегка порозовев от смущения, она выглянула из каюты:
– Простите, Владислава... То есть, Влада! Вы не поможете мне застегнуть молнию? Её, кажется, немножко заело...
В бирюзе замерцали тёплые искорки, от которых было такое чувство, будто на грудь горчичники поставили. Чтоб не видеть их, Мария поспешно повернулась спиной. «Вжжжжик!» – медленно поползла вверх волшебным образом исправившаяся застёжка, а потом настала оглушительно-леденящая тишина, и руки Владиславы легли на плечи Марии. Они не позволяли себе ничего, просто слегка сжимали, а дыхание защекотало ухо:
– Маша... Когда я вас увижу снова?
Мария стояла, чуть повернув голову к плечу и еле сдерживая дыхание, от которого распирало грудь. На миг её глаза закрылись, шея напряглась, ключицы проступили.
– Сегодня вечером я выступаю в Чикаго.
Владислава стояла у неё за спиной, чуть расставив ноги. Её ладони скользнули выше линии выреза платья, коснулись открытой кожи плеч.
– Я буду там.
И всё – более ни одного прикосновения, ни намёка на вольность, так что Марии даже вдруг досадно стало. Она сама себя презирала и клеймила за это желание, за эту, как она считала, распущенность и всё же не могла, просто не могла противостоять ей. «Да» уже непобедимо закрепилось и вскинуло флаг победителя. «Да» струилось по жилам, как впрыснутый в вену наркотик. Да, она мечтала, бредила и жаждала, чтобы её хотели. Чтобы домогались. Не все подряд, нет! Только Владислава, никто больше. Чтобы голубые чертенята нахально смеялись в её зрачках, а руки скользили по бёдрам, вторгаясь между ними. Но Владислава ограничилась лишь галантным поцелуем руки, когда роскошная машина остановилась у гостиницы. Её взгляд был покрыт голубым ледком пристойности, но за этим щитом Мария всем нутром чувствовала огонь – такой же, как у неё самой. Это было сродни пытке, утончённой и жестокой. Марии выть сквозь стиснутые зубы хотелось, но она тоже напустила на себя неприступно-чопорный вид и гордой походкой поднялась на крыльцо отеля – безупречная леди с прямой спиной, будто аршин проглотившая.
Всё было уже готово, надёжная и толковая Катя позаботилась о вещах, оставалось только погрузить всё в машину и выдвигаться в аэропорт. Катя не задавала вопросов, но Марии казалось, что помощница обо всём догадывается. К тому же она обнаружила, что забыла пристегнуть шифоновую накидку – та так и осталась на яхте. Вроде бы ничего особенного в её отсутствии не было, но на Марию накатила такая мучительная мнительность, что за каждым углом ей мерещился соглядатай, осуждающий, насмехающийся. А она, беззащитная, словно кожи лишённая, сжималась в комочек, ожидая ударов камнями.
4. Сильнее, больнее
Через три часа после взлёта самолёт приземлился в Чикаго. Мария была словно в туманной дымке: вспышки фотоаппаратов, сотни глаз – всё слилось в назойливый фон, от которого хотелось бежать прочь, уединиться в номере и предаться самобичеванию за свои откровенные желания. Болезненно наслаждаться препарированием себя и всё равно мечтать о голубых бесенятах.
Наверно, этому затаённому, неудовлетворённому желанию она и была обязана за бешеный успех её чикагского выступления. Не она пела – пела её страсть, её тоска и влечение. Она не пела – звала каждой клеточкой своей, каждым нервом, и эти флюиды наэлектризовывали пространство, окутывая публику сладостными мурашками и безусловным, бессознательным восторгом. Марии даже не приходилось играть – она была собой, жила на сцене, пылала неопалимой купиной. Это наполняло её голос торжествующей силой, давало ему могучие крылья. Он то летел ввысь, как Икар, то падал в бездну, стихая в пронзительно-сладком упоении трагедией. Внутри сиял неистощимый источник этих электрических искр-мурашек, огромный генератор, способный осветить собой весь город; восторженные статьи потом приписывали это её искусству, но то было не искусство. Нет, совсем не оно. В этом не было ничего искусственного, поддельного, наигранного. Нет, не играла она, она была искренней, распахивая себя настежь, и ошеломлённая публика трепетала под этим неистовым потоком откровений. Впоследствии это выступление не раз называли гениальным, непревзойдённым: то, что она вытворяла с залом, не поддавалось описанию. Она владела всеми и каждым: то возносила в ослепительную высь блаженства, то роняла на дно отчаяния, терзала нежностью, ласкала страстью, открывала слушателю неземной, высший чертог душевного полёта – да, бойкое перо рецензентов не скупилось на сильные выражения.
По её щекам текли слёзы, но голос не дрожал, дыхание не сбивалось. Это была вершина её сегодняшнего выступления, кульминация, в которую она вложила весь сладостный надлом, весь нежный упрёк и тоскливый призыв – не мучить, не истязать любовным голодом, а прийти и обнять, подхватить на руки и забрать с собой. Не так сладка была ей любовь всего мира, не так нужно признание – хотя что толку скрывать, и она не была чужда честолюбия! Но сейчас в ней побеждало желание быть просто женщиной. Любимой женщиной, боготворимой и лелеемой – возможно, чуточку ребёнком, капризным и слегка взбалмошным, но умеющим воздавать сторицей за любовь и заботу.
И это она тоже щедро дарила зрителю, обнажая перед ним всю душу до последнего её порыва, до самой потаённой мысли и желания, отдавая себя, беззащитную и уязвимую, на людской суд. Слёзы не мешали торжеству голоса, и последняя, самая высокая, пронзительная нота белой птицей взвилась под потолок. Это не нота была даже, а крик её души и сердца, лебединая песнь – венец всего концерта, высшая точка самоотдачи, служения зрителю и музыке. Люди в зале плакали, и это пронзило её светлым лучом трагически-острого, но сладкого счастья. С каждой душой здесь её соединяли незримые живые нити, натянутые, как золотые струнки-нервы. Высшая точка была достигнута – катарсис мощным взрывом оглушил и ослепил всех.
Публика неистовствовала. Овация была подобна волне цунами, которая захлестнула Марию. Ослабевшая, опустошённая до дна, но счастливая, она уже не сдерживалась – отпустила рыдание, и оно сотрясло ей плечи и грудь. Весь зал встал на ноги, как один человек, продолжая рукоплескать. Её уже начало накрывать смущение: слишком она раскрылась, слишком обнажила своё сердце, но всё же не жалела об этой безоглядной откровенности. Счастливое изнеможение охватило её, будто кто-то вынул пробку, и все силы разом утекли. Она прижала пальцы к губам, рассылая виснущими, как плети, руками воздушные поцелуи и неслышные за бурей аплодисментов признания «I love you». Кому она признавалась? Мария сама толком не понимала. Она не видела в зале Владиславу, слишком много лиц пестрело перед ней, но верила, что та среди них.
И снова она была в тумане. Краткое общение с журналистами, снова фотовспышки, до боли ранящие её истрёпанные выступлением нервы – и она закрыла дверь гримёрки, попросив её не беспокоить. Она уже не хотела ничего: настолько выложилась и эмоционально, и энергетически, и физически. Ей хотелось лишь пить, и она приникла к горлышку бутылки с водой. Она всегда после концерта чувствовала себя лёгкой, тонкой, выжатой досуха, истощённой, как изморённая голодом узница, но сегодня она была вообще на грани жизни и смерти. Тело онемело и едва слушалось. Пришибленная этой странной анестезией, Мария неподвижно сидела в кресле перед зеркалом. Она и узнавала, и не узнавала себя в нём. Это походило на хмель, вот только ни грамма спиртного она не принимала.
Она оставила себя там, на сцене, а здесь тлела и дышала лишь её пустая оболочка. Следом за неистовым взлётом настал упадок, и казалось, что это конец – не оправиться ей, не подняться, но загнанная вглубь трезвая часть её «я» знала, что силы восстановятся. Не сегодня и, может быть, даже не завтра и не послезавтра, но рано или поздно эта опустошённость пройдёт. Мария поморщилась: послезавтра – новый концерт, уже в другом городе, в другом театре. Успеют ли силы восполниться? Слишком щедро она выплеснула себя сегодня и невольно чувствовала вину перед будущими зрителями, которые её ждали и уже приобрели билеты. Ей всегда было стыдно работать «на отвали», вполсилы, на голой технике, без души и огня. Проклятые голубые бесенята! Натворили же они бед... А она пошла у них на поводу, как глупая влюблённая девчонка.
Она не слышала, как дверь открылась, а потому вздрогнула, увидев в зеркале отражение Владиславы в тёмно-синем брючном костюме, с букетом бордовых роз. Она думала, что «наркоз» непреодолим, но что-то ворохнулось в душе, в истощённом теле, приподнимая её в кресле. И всё-таки встать Мария была не в силах, а поэтому, глядя в отражение бирюзовых глаз, горько и нежно улыбалась, чувствуя, как по щекам течёт тёплая влага. «Вот что ты со мной натворила, полюбуйся на дело рук своих», – как бы говорил её укоризненный взгляд. Брови Владиславы вздрогнули, губы приоткрылись.
– Машенька!..
Мгновение – и она была на полу перед Марией, покрывая поцелуями её колени и ослабевшие руки.
– Машенька, что же ты делаешь со мной? – шептала она самозабвенно. – Разве можно тебя не любить, разве можно не восхищаться? Ты же богиня! Ты владычица... Ты ураган, сметающий всё на своём пути... Ты единственная, ты одна такая. Больше таких нет и никогда не будет. Делай со мной всё, что хочешь, прикажи, что угодно. Я твоя.
Это был отзвук того катарсиса в зале. Мария слишком много сил отдала, поэтому не могла встрепенуться навстречу, но сердце сладко защемило. Это оно, счастье... То, что она так страстно звала, о чём молила – вот оно, у её ног. Оно пришло на её зов и мерцало влажной лазурью, восхищённой и преданной, влюблённой. Её рука легла на льняные кудри, запутываясь в них пальцами, и Влада поймала её, прижав к губам.
– Я выплеснула свою душу... Я пустой сосуд сейчас, – беспомощно прошелестели губы Марии.
– Ничего... Ничего, родная моя, сейчас мы тебя наполним! – И бирюзовые чёртики заискрились весёлой силой.
Сбывалась мечта: тонкогубый жёстко-энергичный рот приблизился, и Мария ощутила влажное тепло. С бессильной нежностью она раскрылась ему навстречу, сама не зная, чего было в этом движении больше – желания или покорности, непротивления этому напору. Душа всё же склонялась на сторону ответного желания, она ощутила ёкнувшим сердцем тёплую струйку живой энергии, которая ласково потекла в неё в этом единении.
– Целуй... Целуй ещё, – выдохнула она.
Воскресающие руки обвились вокруг плеч Владиславы, оплетали её шею, пальцы забирались в кудри. К концу поцелуя Мария уже ощущала себя живой, очнувшейся от спячки и бессилия.
– Ты выложилась, Машенька... Ты устала, моя девочка, я всё вижу, – с грустноватой нежностью проговорила Владислава, приподнимая Марию в объятиях от спинки кресла. – Если ты хочешь отдохнуть, не смею тебе надоедать.
– Нет! – всей душой содрогнулась Мария, прильнув к ней, цепляясь за неё, как за спасательный круг. – Не уходи сейчас...
– Как прикажешь, – дохнула Владислава ей в губы. И призналась: – Знаешь, мне там, в зале, хотелось наплевать на зрителей, подняться на сцену, взять тебя на руки и унести от всех. Чтобы ты была только моя. Вот такое эгоистичное желание.
Воскрешающие струйки хлынули с новой силой: вторая волна катарсиса, уже не такая мощная, но интимная и принадлежащая только ей, мягко и властно накрыла Марию. Чувствуя тёплое, живительное возвращение сил, она дотронулась подушечками пальцев до щеки Владиславы.
– Ты угадала... Ты почувствовала это. Ты прочла мои мысли.
– Маш... Как было не угадать, если ты так мощно транслировала это? Как самый большой в мире передатчик. – С тёплым смешком Владислава уткнулась своим лбом в лоб Марии, глядя на неё с обожанием, мечтательной нежностью. – Ты чудо, Машенька. Ты – самая прекрасная женщина. Ты такая светлая и тёплая... Ты – великая. Как солнце. Немудрено ослепнуть и потерять голову от тебя... Ну-ну... – Её пальцы смахнули слезинки со щёк Марии. – Не плачь, родная. Я делаю, что могу... Ты отдала много сил сегодня, и мой долг – вернуть тебе хоть часть, чтобы ты почувствовала себя лучше. Да ещё и в предыдущую ночь по моей вине толком не выспалась, девочка моя бедная. Невыносимо видеть тебя такой вымотанной. Хочется, чтобы ты сияла, чтобы улыбалась...
– Я чувствую... Ты возвращаешь меня к жизни. – Рука Марии, обвившая шею Владиславы полукольцом, напряглась в сладкой судороге объятий, губы устремились навстречу.
Конечно, их немедленно накрыла тёплая власть поцелуя. Виртуозная сладкая нежность проникала внутрь, мастерски овладевая Марией, добираясь до самого сердца. Владислава дарила её щедро, без счёта, по первой мысли, по малейшему намёку Марии, по еле заметной мольбе её дрожащих ресниц.
– Машенька... Ты невероятная женщина, – шептала она, сияя ей теплом лазурного моря во взгляде. – По-моему, я втрескалась по уши. Как никогда в жизни. Ты что-то сотворила со мной... что-то волшебное.
Каждому слову Мария верила и сама шептала нежные глупости. Силы возвращались с каждым поцелуем, с каждым прикосновением, и ей вдруг стало страшно.
– Влада... Ты не слишком щедро отдаёшь себя? – обеспокоилась она. – В меня силы просто водопадом льются, никогда в жизни такого со мной не было.
Губы Владиславы крепко прильнули к её лбу.
– Машенька, это ничто по сравнению с тем, что ты сделала на сцене. Это просто жалкие крупицы. Не бойся за меня, сил у меня много. Это мой долг. Это не я, это ты слишком щедро отдаёшь себя... И я эгоистично боюсь, что тебя не останется совсем... Что ты раздаришь себя людям, а мне не достанется. Да, вот такая я собственница. Я хочу тебя для себя одной.
Нежный стон сорвался с губ Марии, она потянулась ими к Владиславе, незамедлительно ощутив их пылкий ответ. Всё, что ещё оставалось живого в ней, она отдавала в этом поцелуе, наслаждаясь своей проницательностью: да, этот энергично-жёсткий рот был виртуозом в своём деле.
– Я, наверно, кажусь тебе глупой... и доступной, – вдруг ужалило Марию осознание своего положения – полностью во власти Владиславы, с раздвинутыми коленями, между которыми та прильнула, крепко обнимая её. Уже раскрытая, как до конца развернувший свои лепестки бутон, в который Влада в любой миг могла запустить пальцы, и не повернёшь назад, не сомкнёшь бёдра: ласковая бирюза уже победила, уже не сдаст завоёванных позиций. С какой стати ей отступать, если её руки – уже у Марии под платьем?.. Уже хозяйски ласкают ладонями, щекочут, играют, и от этих игр становится так до мурашек горячо и влажно, скользко внутри? Что-то прикоснулось там, пощекотало, а уголки глаз Влады выпустили улыбчивые лучики. Мария вспыхнула: никогда её так беззастенчиво не дразнили, утверждаясь во власти над ней.
– Машенька, ты – взрослая самостоятельная женщина. Прекрасная, зрелая. Я знаю тебе цену, поверь. – Бирюза глаз Владиславы стала серьёзной, пронзительно-нежной, обволакивающей, а рука шаловливо ползла по полному бедру Марии, приподнимая подол платья. – И это даёт мне основание считать себя счастливейшей из всех, потому что ты выбрала не кого-нибудь, а именно меня. Такое солнце, как ты, озаряет всех, и ощущать его в своих руках – великий соблазн и предмет особой гордости. Но хвастаться, бахвалиться этим... Маш, я, может быть, и сволочь в какой-то мере, но не настолько, чтобы ронять честь женщины и обесценивать её выбор. Я осознаю, какое сокровище сейчас у меня в руках. Тебя любят и желают тысячи и миллионы, но ты сейчас смотришь на меня, обнимаешь меня. Это дорого стоит. За это можно всё отдать.
Слова звучали серьёзно и нежно, даже местами возвышенно, а под подолом творилось безобразие. Марию не прекращали дразнить, щекоча и заставляя истекать соками, и это был странный, неоднозначный коктейль, производивший и комический, и эротический эффект, снижая градус пафоса. Она сама была готова рассмеяться над собственными страхами и зажимами, Владислава волшебным образом перевернула, вывернула их наизнанку, и Мария увидела их ненужность. Вынув из букета розу, Владислава провела её бутоном сначала по губам, затем по груди Марии, щекоча ложбинку декольте, а потом с этими дьявольскими голубыми огоньками во взгляде чуть раздвинула лепестки и проникла в серединку цветка языком. Всё в Марии охнуло, обожжённое, пронзённое, а лазоревые чертенята смеялись и грозили: «Видела? То же самое сейчас будет и с тобой, милая».
– Ты пахнешь персиками, – прошептала Владислава, безжалостно отрывая бутон от стебля и осыпая бордово-красными лепестками грудь Марии. Больше всего падало в ложбинку, и Владиславу, кажется, особенно умилял этот факт. – Как персиковое варенье... И ещё что-то такое сладкое, фруктовое. Это твои духи? Или пудра? Или ты сама так пахнешь? Интересно, как же ты пахнешь там?.. – И Владислава шаловливо стрельнула взглядом вниз.
Она взяла новую розу, и Мария уже знала, что сейчас будет. Мягкие, прохладные лепестки цвета красного вина щекотали и целовали её, а потом Владислава поднесла розу к губам, вдохнула аромат, попробовала на вкус.
– М-м... Запах розы всё перебивает. Я считаю, ни к чему нам посредники, лучше сразу изучить первоисточник.
Придвигая Марию ближе к краю кресла, она сладострастно облизнулась. «Хорошо, что перед концертом приняла душ», – промелькнула смущённая мысль, а в следующий миг Мария ахнула, ощутив горячий рот Владиславы и её ловкий, длинный и сильный язык – то острый и напористый, как копьё, то игриво-гибкий, проникающий во все уголки, то расслабляюще-ласковый. Зажаться теперь – уже смешно, глупо, да и невозможно, теперь уже – до конца, до крика, зажатого рукой, закушенного зубами.
Разбросанные по полу цветы поклонников стали их ложем, лишь розы с их шипами они отодвинули в сторону. Дверь Владислава подпёрла креслом, а Мария виновато посмотрела на свой длинный маникюр. А та проворно выскользнула из брюк и трусиков, разложила Марию на полу и опять лукаво-соблазнительно пощекотала розой, чем вызвала волну электрических мурашек. А потом оседлала, накрыла собой, отыскав положение для своих ног и опору. Предыдущее влажное «проникновение в розу» сделало своё дело, обе были разгорячены и готовы ко второму акту... Или второму блюду? Как бы это ни называлось, в нём Влада снова вела, была первым голосом в их дуэте, задавала ритм и силу движений. Её поджарые, стройные бёдра, по-мальчишески сухощавые, но выносливые, с играющими под кожей напряжёнными мышцами, сплетались с полными, упруго-мягкими, более объёмными и женственными бёдрами Марии. Покачиваясь от толчков, Мария мяла под собой цветы, а порой и рвала бутоны зубами, а глаза Влады над ней, широко раскрытые и всё более хмельные с каждым движением, изливались на неё лазоревым водопадом влюблённой нежности. С этим потоком и слился другой поток, невыносимо-сладкий, нарастающий, разгорающийся. Влада самозабвенно рыкнула и рванула стебель розы зубами, перекусила его, и шипы поранили ей губы, а Мария вскрикнула то ли от боли за неё, то ли от накрывшего её блаженства...
Потом она зализывала, зацеловывала эти царапинки, ощущая привкус крови, а Владислава блаженно жмурилась и подставляла губы, ловила её поцелуи, подхватывала их бережно и нежно, продлевала, ныряла в них и трогательно просила ещё – невозможно было не рассмеяться воркующим смехом и не закружиться опять вокруг ранок. Их чуть пощипывало, Владислава иногда морщилась, но не останавливалась.
– Голубка моя ласковая... Пташка звонкая, – шептала она в хмельном влюблённом полубреду, и Мария ловила эти слова всем сердцем, льнула к ней в ответ на них.
Очищенная, свободная от греховности и вины за что-либо, Мария впустила Владу в себя без страха, от сладости сжимая зубы и умоляя о боли.
– Сильнее, больнее, прошу тебя...
– Машенька, милая, я не хочу, чтобы тебе было больно, – дрогнули губы и брови Владиславы.
– Я прошу тебя...
Ей хотелось быть наполненной до отказа. Откуда это в ней? Наверно, всегда было – эта жажда страдания, это упоение болью. Как никто другой, она умела принимать в себя и проживать трагедии героинь на сцене – наверно, из-за этого своего свойства. Трагическое амплуа удавалось ей, как никому. Двух пальцев было ей мало, трёх тоже. Только когда в неё нырнула вся кисть, сжимаясь внутри в кулак, её глаза широко распахнулись, а зубы вонзились в собственную руку. Тугая, влажно-эластичная плоть выдерживала, сладко растягиваясь, а из горла рвалась самая высокая нота, оставаясь, тем не менее, беззвучной. Больше, чем песня, сильнее, чем музыка.
В наставшей тишине они лежали рядом. Уткнувшись носом в золотистые локоны, Мария хихикнула:
– Я сейчас пошлость скажу... Можно?
– Из твоих уст всё звучит, как музыка, – с туманно-нежной улыбкой проговорила Владислава.
Несколько мгновений поколебавшись, Мария открылась до конца:
– Вчера на яхте... Мне хотелось, чтобы ты приставала. Если бы ты пришла в каюту ночью, всё случилось бы уже тогда.
Несколько секунд голубые бесенята плясали в глазах, потом Владислава впилась крепким до боли поцелуем в губы Марии.
– Значит, я переборщила со сдержанностью? Надо было действовать смелее?
До уютного озноба и мурашек прильнув к ней, Мария прошептала:
– Нет, наверно... Всё было так, как нужно. Если бы ночью всё пошло иначе, кто знает... Может, и сегодняшний концерт получился бы другим. Не таким...
– Великолепным, – договорила за неё Владислава, мерцая ласковыми бликами в морской лазури взгляда. – Это было потрясающе, Машенька. Потрясающе. Ты, как ураган, снесла весь театр и раскидала его по кирпичику мощью своего голоса.
Мария только расплылась в благодарной улыбке. Если бы она была кошкой, распушила бы мех и замурлыкала, жмурясь. Её наполняло счастье и уют, ощущение завершённости, полноты. И всё равно она не могла не всматриваться с беспокойством в лицо Владиславы, ставшее задумчивым и чуть усталым.
– Ты переусердствовала... Не стоило так, правда. Я бы сама восстановилась потихоньку.
– Машенька, солнышко, ты заслуживаешь всего на свете, – был ласковый ответ. – Даже жизнь отдать за тебя не жалко. Подарок, который ты делаешь всем нам, несравнимо ценнее.
Оставалось только крепко обнять, уткнуться и зажмуриться до слёз, ощущая крепость ответных объятий. Платье Марии было измято, к нему пристали лепестки растерзанных цветов. Растрёпанные букеты валялись на полу, будто их кто-то пожевал и потоптал.
– Что, интересно, подумает уборщица? – хихикнула Мария.
– Что здесь кто-то занимался любовью, вот что она подумает, – двинув бровью, подмигнула ей Влада и приникла поцелуем к её рдеющей щеке. Она надела бельё и брюки, помогла привести в порядок и одежду Марии.
Зрители следующего концерта ничуть не потеряли в качестве её исполнения. Его Мария опять посвящала Владиславе; её голос прозвучал хоть и без такого отчаянного исступления, но всё равно мощно и вдохновенно, и на следующий день театральные издания и оперные обозреватели разрывались от восхищённых отзывов. Марии не впервой было слышать хвалу, но и критики она хлебнула в начале своей карьеры достаточно. Она знала цену и тому, и другому явлению, и гораздо дороже ей было чувство, что Владислава рядом – следит за ней внимательно-нежным, заботливым взглядом, ловя каждое слово из её уст, каждое движение, каждую интонацию между строк.
У Владиславы всё же были дела, и она сопровождала Марию в американском турне не во всех городах, иногда надолго исчезая. Но каждое её появление было неожиданным праздником, торжеством воссоединения. Тосковала по ней Мария безумно, сама поражаясь силе своей привязанности. Дороже и ценнее всего ей было именно осознание своей нужности, востребованности. В науке плотских утех она была не слишком искушённой, и отношения с Владиславой ярко обогатили её опыт множеством новых впечатлений, раскрывая её чувственность грань за гранью, оттенок за оттенком. Были не только подарки и красивые романтичные жесты, но и небольшие размолвки, примирение после которых ощущалось особенно остро и сладко.
Каждое своё выступление Мария посвящала Владиславе, хоть вслух этого и не произносила. И, видя в грим-уборной букет роз со знакомой открыткой-подписью, была готова кричать и прыгать от счастья. Иногда она так и поступала – от души, ребячливо и непосредственно. Она покрывала поцелуями все розы, прижимала к губам и кусочек картона, на котором были выведены несколько нежных слов. Всё было так хорошо, что иногда ей хотелось плакать. В голове вертелась английская поговорка: «Too good to be true» – «слишком хорошо, чтобы быть правдой», но Владислава раз за разом доказывала, что это – явь, а не мечта.
5. Заполнить пустоту
После турне Мария приехала домой, застав маму в депрессии после расставания с Колей. Перекрытие денежного потока привело к логичному концу их отношений, вот только мать пока не желала понять, что это – к лучшему. Пришлось Марии выслушать град упрёков в том, какая она бессердечная, жадная, помешанная на карьере и т.д.
– Мам, а тебе не бросается в глаза, что именно в деньгах всё дело? – сказала она, когда в этом потоке образовалась небольшая пауза, достаточная для того, чтобы наконец вставить слово. – Он оставался с тобой, пока получал всё, что хотел. Как только это прекратилось, он сразу нашёл себе другую даму-спонсора. Слушай, мам, неужто ты так низко себя ценишь? Считаешь, что только деньги могут удержать около тебя мужчину?