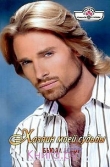Текст книги "Греховно и неприкосновенно"
Автор книги: Агоп Мелконян
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 3 страниц)
– Не понимаю, все же, зачем самому себе-то...
– Собственное восприятие незаменимо. Я желал лично туда отправиться... Биотоки моего мозга усиливались и передавались Ральфу. Я был передатчиком, он -приемником. Мы превратились в единый мозговой агрегат. Его мозг и мой слились, мой управлял, его – подчинялся.
– Насколько я понимаю, это смело поставленный опыт.
– Такое делалось впервые в мире!
– Какую цель вы при этом преследовали?
– Что ж, объясню: в результате настоящая кукла становилась ненужной! Зачем она, раз я сам создавал ее фантомный образ? Теперь уже в девушку превращался сам, ложью стало всё, буквально всё!
– А Ральф понял?
– Нет. Точек соприкосновения с реальностью у него уже не оставалось, он целиком погрузился в мир своего мозга, а мозгом-то управлял я.
– Тем не менее, смысл ваших действий от меня ускользает.
– Я хотел встретиться с Ораздом.
– Чтобы убить его?
– Не исключено. Я на месте собирался решить, кто он и какую судьбу ему уготовить. Меня бесила недвусмысленность, объективность его присутствия. Почему, почему везде и всюду непременно появлялся ОН! Что это за чертовски бессмертная выдумка?!
– Теперь мне совершенно ясно: своими опытами вы уничтожили личность Ральфа Хеллера. Попав в руки нечистоплотного ученого...
– Что ж, это в известном смысле верно.
– Это подсудно.
– Знаю. Но сделать вы мне больше ничего не можете – Ральф погиб в авиационной катастрофе.
– Вовсе нет: Ральф жив! Вчера он позвонил нам и сообщил, что совершил убийство!
– Убийство? Кого же он убил?
– Вас, доктор Скиннер.
Из дневника Ральфа Хеллера
Тихо так, будто воздух совсем исчез. Смутно помню: взорвался один из двигателей, сначала мне привиделись ангельские крылья, потом я вспомнил мягкие ладони мамы, потом мне вдруг страшно захотелось грибного супу, но не из парниковых шампиньонов, а из темно-коричневых лесных грибов... Земля оказалась чересчур близко: оглушительный взрыв, грохот, горящее серебристое i тело "Боинга" и последняя мысль: "Это конец".
А сейчас тихо, будто воздух совсем исчез и никогда больше не вернется. Ужасно жарко, трава вокруг все еще дымится, воняет расплавленной пластмассой, керосином и горелой человеческой плотью. Все мертвы, и нелегко будет собирать останки для похорон – в том случае, если кто-то вообще решит взять на себя этот труд. Все мертвы, только я поднимаюсь и делаю несколько шагов, но тут и мои силы кончаются, я падаю набок, громко умоляя о глотке воды.
Вид вспоротого живота девушки, еще недавно сидевшей рядом со мной, жевавшей конфеты и рассматривавшей последний номер журнала мод, вызывает у меня спазмы. Опаленная белая кожа, свернувшиеся в пламени спиральками кончики русых волос и какая-то смесь удивления и отвращения, застывшая на ее все еще полудетском личике, а также страх и неверие в то, что за этим падением наступит конец, а потом, после него – ничто...
Тихо так, будто воздух совсем исчез, будто он никогда больше никому не понадобится. Может быть, только мне, если я все еще жив (а жив ли я?) и если дышу. Еще несколько шагов, и я выберусь отсюда, проломившись сквозь кусты.
Колючки впиваются, царапают, но я ничего не чувствую, словно и нет у меня тела, словно я всего лишь тень, виновато бегущая от мертвых. Где же боль? Почему ветер, свет и боль беспрепятственно проникают сквозь это тело?
Верните мне боль, доктор Габриэль!
Осторожно прикрыв дверь полицейского участка (действительно, значит, произошла катастрофа, мое имя в списке погибших), я двинулся навстречу переменчивым ветрам мира.
Язык все еще сух (это из-за атропина), где-то за ушами искрами вспыхивает боль, солнце слепит, но зрачки реагируют медленно – тем не менее, всё уже позади, не страшны мне больше иглы доктора Габриэля.
Надвигаю пониже шерстяное кепи, которое мне нужно, чтобы спрятать тоненькие змейки хирургических швов (попробуй я снять его, и встречные женщины завизжат, у беременных выкидыш случится), поднимаю красный чемоданчик и отправляюсь смочить глотку пивом.
Неподвижность пластов табачного дыма нарушает здесь лишь гвалт ранних посетителей. Я счастлив и потому заказываю не пива, а виски.
Мне хочется посидеть просто так, без цели; мне приятно, когда официантка вежливо спрашивает, что мне подать, приятно провожать ее взглядом – у нее красивые ноги. Благодаря этому я чувствую, что жив – не меньше, чем до стремительного нырка в самолет.
Сейчас-то я жую миндаль, горло пощипывают пузырьки соды, а ведь тогда серебристое тело "Боинга" резко устремилось вниз...
– Эй, малыш, ты один?
– Абсолютно, – говорю я и отмечаю, что губы у нее круглые и красные, как мишень в тире.
– Сними свою чертову кепку, у тебя за столом дама.
– Не могу, – отвечаю. (Значит, теперь все, кому не лень, будут настаивать на том, чтобы увидеть меня без кепки). – Я после операции. Перепугаешься.
– Значит, ты всё-всё делаешь, не снимая кепки, а? – и женщина принимается отвратительно хихикать, причем грудь у нее чересчур вялая и утомленная, чтобы, подскакивая, вторить смеху.
Она немолода, цвет лица напоминает продуваемое ветрами ярмарочное шапито, но руки... руки еще сохранили ту живость, перед которой одинокий мужчина не может устоять. Она старается проявить заботу и склоняется ко мне так близко, что в нос бьет запах отвратительной смеси джина с духами такими же, как те, которыми Мэгги нашего театра душила хвост своему пуделю, – склоняется и заговорщицки произносит:
– Сразу видно, ты долго был одинок.
– Полтора года.
– Тебе нужна женщина, – уверенно заявляет моя собеседница. – Мое имя Роми, но подруги зовут Кипридой. Голову даю на отсечение, ты понятия не имеешь, что это фамилия Афродиты. Спорим на порцию джина?
– Считай, она твоя, – улыбаюсь я, ведь таким образом на столике будет два стакана. Да и чердачная каморка в Брэдфорде невыносимо пуста.
– Знаешь, какой я была красавицей! А уж сексапильна. .. Вот и прозвали Кипридой. Я и сейчас не уродка, но уже не та красотка, из-за которой Джордж Сэмюэл – боксер, что умер потом от потери крови, съездил как-то по физиономии одному черномазому...
Я мертв. Я больше не гражданин Соединенных Штатов, против моего номера в регистрационном компьютере записано "скончался". Я не существую больше ни для кого, кроме РомиКиприды. Мне не остается ничего, кроме безымянного существования невидимки, и судьба которого, и счастье остались ТАМ, в сумасшедшем мире, который мне вовеки суждено нести в себе.
Забудь об этом, Ральф, возврата нет. Прислушайся, как неровно шагаешь ты по этой пустой, как одинокая душа, улице (видно, четыре стаканчика тебе уже многовато, форма не та); да ведь к твоему плечу прижимается угловатое плечо РомиКиприды – чего тебе еще надо?
– Далеко же твоя мансарда.
– Далеко, – подтверждаю я. – К тому же в ней холодно. Чем я не бог? Одно движение руки – да будет день! – и в каморке он действительно наступает. Я рассматриваю свою спутницу: стареющие веки.
– Я встречал тебя там, – говорю ей. – Вот уж не думал, что ты настоящая.
Она отвратительно хихикает и всем своим видом говорит: это точно, я настоящая, первый класс, да-да, раньше-то я была из дорогих, а теперь старею, вот цена и падает, так что на мою долю остаются только бедные или отчаявшиеся, а ты и то, и другое вместе. Иногда я это делаю и просто из человеколюбия, ну, из сострадания, нельзя же думать только о заработке, не грех порой и о собственном добром имени подумать, о душе.
Думаешь, у меня совести нету?
Есть, а потому я с тебя не возьму ни копья, понял? Хоть ты и оперированный, а сразу видно: когдато был красивый, чисто артист, вот только поседел рано. Я тоже рановато поседела, это от желаний. Нельзя человеку только о деньгах думать, ведь верно? Любовь тоже иногда нежна...
– Заткнись! – ору я. – Ну и гадость!
Она хихикает по-прежнему отвратительно: это тебе только так кажется, миленький, на самом деле я куда как хороша, прямо как маменька.
Объятия Киприды заменят сестру и жену, бога и дьявола, эликсир и яд так говаривал Джордж. Объятия Киприды – это и сладость, и страдание.
Как же объяснить ей? Та, другая, так от нее отличалась, была такой ненастоящей, Что не любить ее было никак нельзя. И при первой встрече в дупле, и потом, у километрового столбика, и во время лунатической прогулки под беззвездным небом... У нас шлa исповедь праведников, которым из-за святости уготован ад; сплетенные руки, полушепот, пробуждающиеся желания как объяснить все это Роми? Бытие, лишенное времени, бытие за привычным кругом разу: ма, на территории сладостных иллюзий – разве ей это объяснишь?
– Кофе у тебя есть? – спрашивает Роми-Киприда.
–Нет.
– Господи, да ты и впрямь так беден, что срамота!
Да, я беден, теперь действительно беден, у меня ничего не осталось. Доктор Скиннер вор! Он ограбил меня, присвоил мои сны, чтобы забавляться самому; он бросил меня на произвол судьбы среди голых истин – а зачем они мне? Больно нужно мне его лечение, предпочитаю оставаться больным, неизлечимым сумасшедшим, зато пить пиво с Ораздом и встречаться с ней...
Нет, не с Роми-Кипридой, а с другой, тряпичной.
– Ты же взял бутылку джина? Так откупорь.
Не могу дышать, жарко (как после катастрофы), раскаленный воздух спускается по трахее, обжигая всё на своем пути. Роми-Киприда растянулась на моей постели, закинула ногу на ногу и дымит сигаретой; узлы расширенных вен напоминают мелкие клубни картофеля, да и вся она старая, увядшая, отвратительно настоящая с этими словно бы нитяными ресницами, с бровями, напоминающими неумело пришитые заплаты, с волосами из рыболовной лески...
– Ты похожа на женщину, которую я любил когда-то, – говорю я ей. – Я так и не узнал ее имени. Может, у нее вообще его не было.
– Ты что, Ральф, совсем? Разве так бывает, чтоб человек – и без имени?
– У людей имена есть, а у нее не было. Она была чем-то совсем иным: глотком воздуха, упоением, листопадом. Вот какой она была, может, поэтому и обходилась без имени.
– Мелешь, как поэт! Небось и стишки пописываешь?
Писал когда-то. Когда был лучезарным юношей, впрочем, в пятнадцать лет все мы такие – только что пробудившиеся к жизни, но все еще с ней не столкнувшиеся. Каждый день я набрасывал по нескольку стихотворений, одаривал ими девушек, гордо носил буйную шевелюру и вызывающе показывал всему миру кукиш.
Потом полюбил, разлюбил и перешел на прозу. Потом полюбил снова, снова разлюбил и больше не прикоснулся к листу бумаги.
– Я поэтам не верю, – гнет свое Роми-Киприда. – Врут они. Говорят о чувствах, о луне, о трепете сердечном – и всё потому только, что платить неохота. Норовят списать это дело на сердечный параграф. Им, вроде как, деньги отвратительны, деньги – грязная изнанка жизни.
Лирика, романтика-а сами бегом к кассе. Один поэт поморочил-таки мне голову: с бородой был, в шейном платке. Знаю я ихнего брата.
– Скольких мужчин ты любила?
– Так, чтобы по сердечному параграфу – ни одного. А другое и не любовь вовсе.
– А меня, Роми, меня ты смогла бы полюбить?
– Тебя-то? Не знаю. Ты смешон и жалок, будто и не жил на этом свете, она выпускает колечко дыма. – От таких, как ты, всего можно ожидать.
– Ты похожа на нее, – продолжаю я. – Только она не настоящая была: /`.ab. тряпичная кукла.
До чего же отвратительно она хихикает!
– У нее была тысяча лиц, Роми, каждый раз она была другой, неузнаваемой, новой. И каждый раз требовала, чтобы я любил ее иначе, не так, как вчера, и не так, как буду любить завтра.
– Ты прямо какой-то чокнутый, Ральф. Таких женщин не бывает. Бабе нужно, чтоб ты любил ее и не мешал в это дело разум. У всех у них одно лицо – жадное! Им всего мало: и страсти, и денег, и верности, и тряпок, и детей, и взглядов.
– Не поняла ты... там все подругому. Там всем заправляет доктор Скиннер, он делает всё, что ему взбредет в голову. Там и хорошо, Роми, и страшно. Именно потому, что хорошо.
– Не знаю, парниша, не знаю.
– Когда тебе хорошо, это и есть самое страшное, Роми.
В последний раз мимо меня пронеслась огромная тень птицы, я вздрогнул и глянул вверх – это был Кондор. Он смотрел на меня вызывающе, враждебно, приспустив веки гноящихся старческих глаз в красных прожилках. Кривыми ногтями он сжимал лоскуток белой ткани, из которой была сшита рука моей куклы.
Я бросился в гору, задыхаясь от усталости, досадуя на сюрпризы, которые преподносит этот безумный мир. Час, а то и два бежал по чуть заметному следу – еле видной череде алых капелек, редким и робким дождиком упавших на белесые спины известняков. Это кровь, я ни секунды не сомневался – кровь!
Охваченная тревогой, беспомощная, она поджидала меня у скал.
– Больно? – спрашиваю.
– Больно.
– Дальше-то что думаешь делать?
– Боюсь, вата теперь повылезает.
– Какая еще вата? – говорю. – Это кровь.
– Я кукла, Ральф.
– Нет, кровь! – кричу я. – Кровь! А ты уже не кукла, ты девушка, которую я люблю.
–Люби, -покорно отвечает она. – И все же я кукла.
Она плачет. А я отрываю полоску от своей сорочки, перевязываю ей руку. Она склоняет голову мне на грудь.
– Может, и вправду это кровь, Ральф! Может, я действительно начала превращаться в женщину.
Потом умолкает, в ее устремленном на меня взоре – ожидание, терпение, надежда:
– А вдруг я смогу и детей родить, а, Ральф? Вдруг в этом животе не одни только тряпки да вата? Положика руку сюда: чувствуешь? Это невозможно, там нечему двигаться, вот и пупка у меня нет... Нужно ведь свободное пространство, полость, иначе где жить младенцу, правда?
Господи, подскажи мне слова, которых она ждет от меня!
Беспомощность душит нас, но мы – человек и нечеловек – рука об руку трогаемся по едва заметной тропинке.
Под ногами – обманчиво надежная почва, в любой миг готовая осыпаться, однако мы упорно стремимся к далекой, озаренной светом вершине. Ничто вокруг не шелохнется, солнце так накалило окрестности, что, кажется, дотла выжгло все живое. Я едва дышу, легкие отказываются пропустить через себя потоки знойного воздуха, марево заставляет пейзаж дрожать.
На вершине, в тени единственного дерева, нас поджидает Oразд.
– Так и знал, что придете, – говорит он. – Да что вам еще остается, как только верить в меня и в невозможное?
– Да, – соглашается она.
– Вот увидишь, девочка моя, что Оразд не лжет. Оразд – самый честный и преданный служащий Вселенной. Оразд – это тебе не Кондор или Пивной автомат. Недаром же ему доверили хроносектор!
И вот он уже на ногах. В белом официальном костюме он выглядит торжественно и достолепно.
– Миллион глупостей совершает человек за свою жизнь, дети мои, но нет среди них великолепнее любви. На этом и конец официального спича. Начальство спустило нам новую прорицательницу по имени Астида. Задница у нее бюстоподобна, ну а груди – каждая с задницу... Так что я хотел сказать-то? Ах, да. Хороша!
Так вот, Астида заведует сектором "фатум", она уполномочила меня... Честное слово, Ральф, сиськи у нее – во! – и он нарисовал в воздухе что-то не очень определенное, но определенно большое. – Короче, она уполномочила меня узаконить предопределение, хотя это и по ее сектору. Согласна?
– Да, – говорит она.
– Только если ты его любишь.
– Да, – говорит она.
– Согласна ты стать его женой?
– Да, – говорит она.
– А ты, Ральф Хеллер, согласен ли ты...
В это-то мгновенье и прилетел Кондор, его крылья заслоняют солнце.
Глаза по-прежнему налиты кровью, все так же гноятся, а из клюва свешиваются блеклые бумазейные лоскутья.
– Прекратить, – вопит Кондор голосом доктора Габриэля. – Всего этого вовсе нет в программе эксперимента.
– А ты только сейчас заметил? – злорадствует Оразд. – Да они давно уже живут вне твоих жестоких выдумок.
– Я своего согласия не дам! – каркаeт Кондор. – Для того и прилетел: пора положить конец своеволию!
– Твоей власти над ними пришел конец. По вашим документам Ральф мертв, погиб в катастрофе. Он останется здесь.
– Этого только не хватало! – орет Кондор и нервно хлопает крыльями, поднимая облака пыли и мелких камешков. – Этого фантома Ральфа я придумал, он принадлежит мне, он – смысл моей жизни и доказательство моей правоты. Верни мне его, Оразд!
– Зол же ты, Кондор! Сам же прислал его ко мне, злорадствовал, что он слеп. А когда понял, что величайшее счастье именно в любовной слепоте, явился, чтобы и ее у него отнять.
– Это еще не всё, Оразд. Я сам хочу здесь остаться, а он мне мешает.
– Зачем? – спрашивает Оразд. – Зачем тебе здесь оставаться?
– Ради нее, – отвечает Кондор.
– Она красива, Оразд. – Птица вздергивает свою седую голову, косит глазом в сторону бумазейно-шелковой куклы. – Я же сам ее делал, собственными руками пришил ей глаза, прорезал рот. Думал, она уродлива, но вот Джаспер вживил мне электроды и... Ничего не могу поделать, Оразд, я люблю ее.
– Эй, ты, Ральф, о чем ты там размечтался, черт тебя побери! прерывает нить воспоминаний голос Роми-Киприды. – Где ты снова витаешь! Забыл, что ли, что у тебя гостья?
– Извини, я, кажется, задремал.
– Небось, думал о той, у которой нет имени, но зато сто лиц?
– Наверное. Наверное, так оно и было, Роми. Я часто о ней думаю. Но после катастрофы туда, к ней, отравиться не могу.
– Что за катастрофа, дружок? – спрашивает Роми-Киприда голосом, который к лицу разве что старому патефону, и закуривает .
– Авиационная катастрофа, – отвечаю. – Несколько дней назад летел я в Детройт, просто хотелось убраться из этого отвратительного города, но взорвался двигатель... Понимаешь, вот так взял и взорвался, что-то там произошло. И я погиб.
Она снова заливается смехом.
– Ты, выходит, помер, а? – и продолжает в изнеможении кататься по кровати.
– Роми, я говорю вполне серьезно. Я даже в полиции проверял. И видел общий некролог с фотографиями. И я на них. Компания выплачивает страховку, но у меня нет наследников.
– Пойди и получи сам.
– Я же умер, Роми. Для этого мира я теперь мертв, до другого не могу добраться. Теперь меня нигде нет, Роми. Теперь я ни для кого не существую.
– Кроме меня, дружок, кроме меня, – она размахивает дымящейся сигаретой.
– Кроме тебя, но тебе я не нужен. Доктор Скиннер отнял у меня всё. И истину, и ложь. Он сам себе вживил электроды и явился к Оразду в виде Кондора. Мы с ней поднялись на залитую светом вершину, стояла жара, и тогда Кондор заслонил солнце...
– Погоди, Ральф, погоди! Ты с ума сошел! – она смотрит на меня в испуге.
– Конечно, сошел, давно. Я понял это там, на той самой кровати, на которой сейчас сидишь ты. Стоило мне прикрыть глаза, расслабиться, как мой больной мозг переносил меня к Двухголовой Овце и МастеруЗонтичнику. Пара голубей в свадебных нарядах пыталась довести до конца брачную церемонию, но Горемыка, ошибавшийся у тира...
– Не может такого быть, Ральф, что ты там несешь! Скажи-ка, зачем вы с ней отправились на вершину?
– Стояла жара, Кондор вырвал часть ее плоти, а где-то ближе к вершине должен был быть источник. Может, мы искали источник, где она могла умыться. Может быть, мы просто боялись птицы. Нет, вспомнил: там нас ждал Оразд.
– Он был в белом костюме, правда?
– Он был в белом костюме.
– И сообщил о новой прорицательнице Астиде, правда?
– Он действительно сообщил о новой прорицательнице.
– Ты рассказываешь мой сон, Ральф. Я же помню все это, вот тебе честное слово, помню. Мне так хотелось ребеночка, но после операции я стала бесплодной. И я сказала ему об этом. Конечно, я прекрасно помню, как сказала: ,.Положи-ка руку сюда: чувствуешь? Да нет же, до чего я глупа! Это невозможно..." Я всю жизнь мечтала родить двоих детей: Феба и Эсмеральду.
Потом мы с ним отправились в путь к вершине, стояла жара, и тогда Кондор заслонил Солнце...
– Кто ты, Роми?
– Да что я о себе знаю? Знаю, что подружки зовут меня Кипридой. Знаю, что хотела бы иметь двоих детей: Феба и Эсмеральду. Знаю, что вчера мне приснился толстячок в белом костюме и касторовом котелке; он поцеловал меня в лоб и сказал: "Иди к нему, моя девочка. Он уже не может вернуться, вот ты к нему и ступай". Я была испугана и потому спросила: "Где он? Как его найти?" А он улыбнулся и ответил: "Ты молода, может, тебе и хватит времени. Ступай прямо по этой дороге, не знаю, сколько тебе идти, но существуют же дорожные указатели и километровые столбы, задавай вопросы, расспрашивай, всё найдется ктонибудь, чтоб обмануть тебя. Ну да, на этой дороге обманщиков хватает". Вот я и побрела по дороге, увидела тот бар, вошла. И нашла тебя.
– Кто ты, Роми?
– Не знаю, Ральф, больше я ничего не знаю. Мне надо было найти тебя. Тот толстячок сказал, что к цели меня приведет дорога, на которой полным-полно обманщиков. Что ты, Ральф, собой представляешь: цель или ложь?
– Ты говорила с Ораздом! Он прислал тебя ко мне, а меня точно так же отправил тебе навстречу.
– А если ложь и есть цель, Ральф? А если сама цель – ложь? – боязливо спрашивает Роми.
– Неважно. Не имеет никакого значения. Важно идти своим путем, Роми.
Из показаний доктора Джаспера
– Я доктор Эмилио Джаспер, мне 40 лет, психиатр, женат, имею ребенка, атеист.
– Вы работаете в клинике доктора Габриэля Скиннера?
–Да.
– И участвовали вместе с ним в экспериментах с пациентом Ральфом Хеллером.
– В той мере, в которой способствовал выполнению научной програмы доктора Скиннера. Я всего лишь его ассистент, не более.
– В суде это называется соучастием.
– Разве мы уже в суде?
– Будьте уверены, дело дойдет и до суда. Вы вживали электроды в череп своего шефа, не правда ли?
– У меня имется на это протокол-разрешение с его подписью.
– А зачем ему понадобилась эта операция?
– Чтобы перенестись в мир своего пациента. С чисто научной целью.
– Вы уверены?
– Нет.
– Может быть, тут причиной кукла?
– Кукла как кукла.
– Или Оразд?
– О, вы и про Оразда знаете? Да нет, не верится. Верно, время от времени у него вырывалось, что он хотел бы убить Оразда. Но вы-то понимаете, что это существо... всего лишь умозрительно созданная химера. Попробуй, убей воображаемый образ.
– Заношу в протокол: задержанный утверждает, что Оразд – всего лишь иллюзия. И снова спрошу: уверены вы в том, что утверждаете?
– Нет.
– Поподробнее, пожалуйста, о своих сомнениях.
– Не знаю! Ничего не могу понять!
– Не кричите. Тут это не принято. Что еще вы хотели бы добавить?
– Оразд загадочен, вот и всё.
– Вернемся к вопросу о докторе Скиннере. Вы продолжаете утверждать, что три дня назад он был убит?
– Да, в пятницу вечером. Мы работали до девяти, после чего я ушел домой. У доктора Скиннера семьи не было; он мог позволить себе работать допоздна. Примерно в час ночи дежурная уборщица обнаружила его убитым – в собственном кабинете. Вот и всё, что мне известно.
– Уборщица утверждает, что около одиннадцати у него было двое посетителей, мужчина и женщина. У мужчины случился нервный кризис, и он спешно нуждался в помощи.
– Бывает.
– Уборщица впустила их, потому что лицо мужчины показалось ей знакомым: вероятно, это был пациент, который и раньше обращался в клинику.
– Возможно.
– Вы считаете, что убийство – дело рук этой пары, а, доктор Джаспер?
– Я ничего не считаю. Это мог сделать любой наш пациент, ведь они все ненормальные. Но мог и кто-то другой, неизвестно...
– И все это произошло в пятницу, а? Доктор, вы лжете без зазрения совести! Вы покрываете своего босса!
– Мой босс лежит на кладбище номер семь, участок двенадцатый, аллея третья. Можете проверить.
– Но я разговаривал с ним в субботу вечером!
– Не с ним, господин председатель, не с ним, а с его фантомом.
Из дневника Ральфа Хеллера
Тихими ночами, когда принимаются скрипеть несмазанные колеса воспоминаний, я, случается, поднимаю глаза к небу, но звезд на нем нет. Ваши звезды принадлежат вам, ваша вселенная – безраздельно ваша, нам же с Роми остается довольствоваться утомительным отсутствием пространства, но с теснотой это не имеет ничего общего.
Hногда у нас идет дождь, хотя облаков нету; подозреваю, что это проделки Оразда, который старается напомнить нам о чем-то, принадлежащем прошлому, благословенному миру, существующему в трех измерениях. В том мире у любой маргаритки, драного башмака, здания, чувства – буквально у всего есть свои реальные икс, игрек и зет.
Оразд нарочно посылает нам дождь, таково его понимание добра, но мы с Роми дождю не рады, он ведь тоже выдумка, как и надоедливый ветер и никому не нужный прилипчивый свет.
Я, Роми, заботы Оразда и наша печаль – вот и всё, что у нас есть.
У Оразда свой мир, проникнуть в наш он не в силах, а потому и просовывает порой через преграды пространства-времени то, что, по его мнению, нам необходимо. А нам ничего не нужно. Мы утомлены. Вначале мы предпринимали разные путешествия, бродили, обошли всё вплоть до горизонта (он здесь реальный, а не воображаемый) – и ничего не обнаружили, везде все тот же утомительный прилипчивый, едва тлеющий свет, который, кажется, вотвот рассыплется пылью; везде все так монотонно, что любой порыв увязает, любое желание разлагается на молекулы сомнений и страхов. Верно, одна из дорог ведет в Ярмарочный мирок (так его назвали мы с Роми), там можно поглазеть на Двухголовую Овцу, потолковать с Горемыкой, но это так далеко, что просто не стоит усилий...
Да и что за интерес? Одни и те же шутки, все тот же тир, все те же свистульки, все та же сахарная ватализнул пару раз и нет ее. Все так быстро приедается. Мирок как мирок – лизнул пару раз и нет его.
Таков и наш мир, мой и Роми.
Иногда она провозглашает, что это нормально, чтобы мир был таким, чтобы любая жизнь проходила в замкнутом пространстве, его ведь никому не отпущено вдоволь, что у каждого – свой предел, свой горизонт. Может быть, коллеги Оразда (он называл их "гоголевскими писаришками") не только от нас заперли на вечные времена всё подлинное, неподдельное. Может быть, в Музее мира действительно открыто всего несколько залов. И верно: дальше, чем проникает твой взгляд, не заглянешь; больше, чем позволяет мысль, не обмыслишь. Выше головы не прыгнешь!
Дверь захлопнули у тебя перед носом, тут уж подглядывай – не подглядывай... Это Роми так считает, но я с ней не согласен. Человек заслуживает большего, ему нужна высота, у человека есть право на размах. Это свое право он выстрадал.
Ну, ладно: размахнулся ты и машешь, машешь... а дальше? – спрашивает Роми.
Если как следует махать, полетишь, – говорю я. – Ага, пока не ткнешься, трепыхая крылышками, в колпак, под которым мы все сидим, – не сдается она. -Вот он, ПРЕДЕЛ. Предел есть у всего, мой дружочек. Он и богу поставлен – ведь его существование зависит от того, верят в него или нет.
Ни одна из осей координат не является бесконечной.
Ни один аргумент не является абсолютным. Даже любовь не абсолютна. Любовь в особенности...
Почему это так? – спрашиваю ее я. Потому, Ральф, что разум – это штука всеядная, он ничем не брезгует.
Учует, что где-то ему может сойти с рук, и сразу туда.
Все-то ему нужно знать, вот жадность, прямо вылитый ростовщик.
Да если б ему позволили узнать ВСЕ, он и от этого не отказался бы, лишь бы испытать эгоистическое удовлетворение от того, что знает.
Развратничая с тайной, разум неутомим. А что потом? Потом приходит тоска, безразличие и одиночество. Таков грязный трюк, который преподносит нам мозг: сперва ему надо всё знать, а потом, когда узнает, ему становится тоскливо. Ты бы что выбрал, а, Ральф, -не знать или испытать тоску? Испытать тоску, отвечаю. – А я бы хотела не знать, – говорит Роми.
Скоро пойдет дождь, надо поискать укрытие. Гденибудь здесь, в нашем мире. Этот мир не принадлежит вам, не принадлежит он и Кондору, Оразду; это не Ярмарочный мирок. Мир этот наш с Роми, он обнесен оградой, которую мне хотелось бы разбить, да вот не знаю – нужно ли. Роми сеет в моей душе сомнения. Не знаю. Я уже ничего не знаю. Устал я скитаться, а на одном месте оставаться не в силах.
Потому что... Откуда я знаю, почему.